Читать онлайн Загадка BOW. Код мироздания
- Автор: Михаил Цинклер
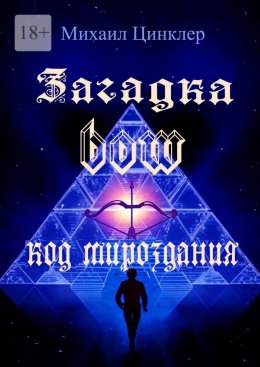
© Михаил Генрихович Цинклер, 2025
ISBN 978-5-0065-8973-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Быть философом не рай, но, однако же, приятно.
Плюс – тепло и не накладно: знай лежи да созерцай!
Тимур Шаов
После окончания Благовещенского мединститута и завершения обучения в интернатуре я прибыл по распределению в город Белогорск. Это крупный железнодорожный узел на Транссибирской магистрали в Амурской области. Он расположен в 120 километрах от того места, где позднее был построен космодром Восточный.
В советское время существовал строгий порядок: после окончания вуза выпускник должен был обязательно отработать три года там, куда его распределили. Я специализировался в области анестезиологии-реаниматологии и с нетерпением ждал возможности приступить к работе в «медицинском спецназе».
Но оказалось, что в городской больнице меня не ждали. Под разными благовидными предлогами в трудоустройстве мне было отказано, и я вернулся в Благовещенск, втайне надеясь получить свободное распределение и уехать к родителям в Пензу.
Но мои надежды не оправдались. В тесном прокуренном кабинете заведующая кадрами облздравотдела сразу же предложила мне на выбор другие вакансии в богом забытых поселках на севере Амурской области и Забайкалья: Магдагачи, Сковородино, Тыгда, Могоча, – что повергло меня в уныние. Сразу же вспомнились бытовавшие в те времена на Транссибе поговорки: «Бог создал Крым и Сочи, а черт – Сковородино и Могочи», «У черта две дачи – Могочи и Магдагачи».
Внимательно взглянув поверх очков, главная по кадрам увидела на моем лице горькое разочарование. Она затушила сигарету о дно пепельницы и неожиданно спросила: «На Амур поедешь? В Пояркове анестезиолог на днях уволился». Такое предложение меня вполне устраивало, и я с радостью согласился. Мне было знакомо это место по рассказам отца, который бывал в тех краях на военных учениях. Еще оно славилось своими рыбными угодиями, а рыбалку я с детства обожаю.
Так я начал работать анестезиологом-реаниматологом в районной больнице поселка городского типа Поярково. Этот населенный пункт был основан забайкальскими казаками в XIX веке и расположился на левом берегу Амура, прямо на границе с Китаем.
Иногда по выходным я любил половить рыбу на спиннинг, тем более что река протекала всего в сотне метров от моего дома. В конце лета крупный верхогляд ловился на блесну прямо в черте поселка.
В тот теплый августовский день все произошло на моих глазах.
Долговязый рыжий парень сидел на перилах ограждения дебаркадера. Он был нетрезв и всячески пытался привлечь к себе внимание девушек, стоявших поодаль. Мимо прошел быстроходный пограничный катер. Плавучую пристань качнуло на волне, и парень прямо в одежде неуклюже упал в реку. Молодой человек неуверенно поплыл по течению, всем своим видом показывая, что плюхнулся в воду специально – решил, дескать, слегка освежиться. Ему было неловко, но он все же обратил на себя внимание девчат, которым стало в этот момент очень весело.
Амур у речной пристани довольно глубокий и имеет сильное течение. Парень проплыл какое-то расстояние и уперся в борт буксира, причалившего ниже по течению. Матросы сбросили ему спасательный круг и стали кричать, чтобы он греб к берегу вдоль борта. С минуту рыжая голова еще оставалась на поверхности и вдруг исчезла. Все подумали, что он спьяну решил поднырнуть под днищем и продолжить свое экстремальное плавание.
Прошло около трех минут. На буксире забеспокоились, стали всматриваться в глубь реки по обе стороны судна. Вскоре кто-то из матросов закричал: «Вижу его!» Парня вынесло с правого борта, ниже по течению, но на поверхность он уже не всплывал. Двое ребят бросились за ним в воду и вытащили бездыханное тело на берег. Там их уже поджидал я. Повезло же парню утонуть прямо на глазах врача-реаниматолога – недаром, видать, рыжий.
Впрочем, дело было уже совсем плохо. Паренек был без сознания, веснушчатое лицо бледное, губы синие, дыхание не определялось. Проверять пульс, реакцию зрачков на свет было некогда. Клиническая смерть налицо. Нельзя было терять драгоценные секунды. Быстро положил его на свое колено животом вниз, несколько раз ударил ладонью по спине, освободив дыхательные пути от воды и песка, затем уложил на гальку и начал искусственное дыхание «изо рта в рот». Сделал два глубоких вдоха и тут же приступил к непрямому массажу сердца: пятнадцать энергичных компрессий грудной клетки в области нижней трети грудины, – и снова два вдоха. Изрядно вспотев, повторил этот цикл раза три-четыре.
К радости окружающих, парень начал подавать признаки жизни: сначала закашлял, потом его вырвало, зашевелил руками. Появилось самостоятельное дыхание, и присутствующие почувствовали густой запах перегара. Стало понятно – жить будет.
Спустя пять минут парень пришел в сознание и назвал свое имя. Как сейчас помню – Виталик. Что интересно, это имя происходит от латинского слова «вита», которое означает «жизнь». Видимо, не суждено было Виталию в тот день покинуть этот бренный мир.
Алгоритм А—В—С сработал и на этот раз надежно (рис. 1). В интернатуре нас хорошо готовили. Сейчас, правда, уже другой протокол сердечно-легочной реанимации (СЛР): вместо пятнадцати компрессий грудной клетки делают тридцать. Изменился и сам алгоритм СЛР. С 2010 года реанимационные мероприятия начинают с непрямого массажа сердца, вместо А—В—С теперь применяется методика С—А—В. Даже такие, казалось бы, незыблемые каноны, как СЛР, со временем подвергаются изменениям.
За свою практику мне много раз приходилось выводить людей из состояния клинической смерти. Наверное, мне не повезло, но ни один человек из перенесших клиническую смерть почему-то не рассказывал про «свет в конце туннеля» или как он со стороны наблюдал за процессом своего спасения. Поэтому я всегда ставил под сомнение то, что написал в своей нашумевшей книге «Жизнь после жизни» известный американский доктор Раймонд Моуди.
Но это так, к слову. Моя книга совсем о другом.
После этого случая на Амуре меня стала упорно преследовать мысль о трех неизменных элементах (вспомним А—В—С). Подобно Герману из «Пиковой дамы», бредившему секретом трех карт, я стал одержим тайной строения разнообразных систем. Мне внезапно открылось, что абсолютно все системы состоят из трех элементов. Позднее я узнал, что идея о троичности бытия пришла в голову далеко не мне одному.
Вся иерархия мира построена по одному очень простому принципу – принципу триад. И религиозные учения, эзотерика, мистика и прочие оккультные воззрения здесь абсолютно ни при чем. Просто систему мироздания надо рассматривать под определенным углом, положив в основу универсальное и всеобъемлющее свойство всего сущего – движение.
Так родилась теория BOW1, которая должна стать ключом к разгадке тайны строения мироздания. Ей и посвящена эта книга.
Я настолько заболел этой идеей, что решил всерьез заняться изучением философии – в частности, одного из ее разделов: общей теории систем (ОТС).
В те далекие времена мы и не мечтали об интернете. Добыть нужную информацию в провинции было очень непросто. Монографии и статьи корифеев системных исследований – В. Н. Садовского, И. В. Блауберга, Э. Г. Юдина, А. И. Уёмова и многих других авторов – приходилось выписывать через межбиблиотечный абонемент. Посылки с книгами исправно приходили в районную библиотеку из Москвы, Омска, Ленинграда, Новосибирска, Хабаровска. Я изучал их и тщательно конспектировал.
Мне хотелось придать своей теории научную форму и обнародовать ее, но специальных знаний явно не хватало. Возникла мысль поступить на философский факультет МГУ, а затем и в аспирантуру, защитить диссертацию. При этом основную свою профессию я оставлять не собирался.
После обучения на подготовительных курсах при университете я стал планировать переезд в столицу. Это было очень непростое и ответственное решение с некоторой долей авантюризма. К тому времени у меня были семья и двое малолетних детей-погодков. Я имел служебную квартиру, налаженный быт и интересную, хорошо оплачиваемую по тем временам работу.
Мой отец, будучи по делам в Москве, встретился с В. А. Садовничим, который в 80-е годы был проректором по учебно-научной работе естественных факультетов МГУ. Я попросил его выяснить ряд вопросов: смогу ли я работать параллельно с учебой, чтобы содержать семью; каковы перспективы предоставления мне семейного общежития и т. п. Виктор Антонович убедил отца, что мне ни к чему вновь садиться за студенческую скамью, и порекомендовал сдать кандидатский минимум и постараться поступить в аспирантуру, причем не обязательно в Москве.
Однако в мои грандиозные планы внезапно грубо вмешалась сама жизнь. Тяжело заболел пневмонией мой трехгодовалый младший сын. Мы с супругой сутками не отходили от несчастного ребенка. И вот тогда, у больничной кроватки, я раз и навсегда осознал, что начинать жизнь с чистого листа, обрекая своих любимых людей на неизвестность, ради эфемерной мечты – это неправильно.
Коллеги отчаянно боролись за жизнь ребенка, и, к счастью, болезнь постепенно отступила. Огромная заслуга в этом Ирины Николаевны Гажа, прекрасного врача-педиатра. Я всю свою жизнь безмерно благодарен ей за спасение сына.
Мысли о науке, философском образовании, аспирантуре и Москве были окончательно оставлены. Профессиональным философом я так и не стал, навсегда обосновавшись в «любительской лиге». Почти сорок пять лет я прослужил анестезиологом-реаниматологом в обычных больницах. Никогда не писал ничего, кроме историй болезней, и эта книга – мой первый и, возможно, последний опыт.
Философия – мое страстное увлечение со школьных лет. Может быть, потому что я родился и провел свои детские годы на родине великого философа Иммануила Канта – в городе Калининграде, бывшем Кенигсберге.
Сорок лет я следил за исследованиями в области общей теории систем (ОТС) и с сожалением наблюдал, как разрастается кризис в этой области науки. Была надежда, что появится нечто подобное моему «принципу лука», но так и не дождался, поэтому решил обнародовать свою смелую теорию.
В ее основе лежат три постулата:
1. Мир – это система.
2. Все системы находятся в иерархической зависимости (любая система является частью системы более высокого уровня и включает в себя подсистемы, элементы низшего порядка).
3. Все в мире находится в движении.
Под движением в философии подразумевается любое изменение как в материальной, так и в духовной сфере.
Все системы мы будем рассматривать преимущественно по принципу от простого к сложному. Благодаря этому удается построить иерархическую пирамиду сверху вниз, не теряя и не исключая ни одного элемента системы. На верхнем уровне этой пирамиды всегда находятся три элемента: движущий, движимый и направляющий.
По такому принципу, согласно моей теории, устроено все мироздание. Как это проявляется, я попытаюсь подробнее показать на примерах из разных областей науки: биологии, медицины, социологии, физики, космологии и т. д.
Эта теория, как никакая другая, иллюстрирует принцип английского монаха-францисканца XIV века Уильяма из Оккама (1285—1347/49). Принцип Оккама формулируется так: «Не следует умножать сущности сверх необходимости». Или: «Простейшее объяснение, вероятно, верно». Также, согласно этому принципу, любое новое явление может быть описано с помощью уже известных терминов и понятий. Бритва Оккама, как и в нашем случае, отсекает все лишнее.
Итак, в первых разделах книги очень коротко, без излишних деталей показана сложность мироустройства, пути его познания, существующие теории и гипотезы возникновения Вселенной. Обозначены некоторые законы, которые управляют нашей жизнью.
В следующих главах описана краткая история возникновения и развития системных исследований, дан субъективный анализ причин кризиса общей теории систем.
Далее я расскажу о первоосновах, на которых построена моя теория: а) движении как системообразующем факторе и б) троичности мироустройства.
В последующих разделах подробно излагается суть теории BOW и демонстрируются ее проявления в различных системах, таких как человек, клетка, молекула, атом, общество, болезнь, статичные объекты, мега- и микромир.
«А что, так можно было?» – спросите вы. Да. Простота теории, которая описана в этой книге, наверное, многих удивит. Все элементарно и понятно. Не требуется никаких дорогостоящих экспериментов, суперкомпьютеров, гигантских телескопов, мощных ускорителей, сложнейших расчетов. Вся теория, можно сказать, показана на пальцах и использует факты, уже давно известные науке.
Материал изложен простым языком, без злоупотребления специфической терминологией. Максимально сокращены теоретическая часть и цитирование. В книге отсутствуют формулы и графики – «чистая философия».
Работа оформлена оригинальными иллюстрациями автора.
Эта книга может быть интересна широкому кругу читателей независимо от возраста, образования и профессии – тем людям, кто хоть иногда задумывался об устройстве бытия.
Автор не претендует на то, чтобы дать исчерпывающие ответы на все вопросы, разложить по полочкам каждую из существующих во Вселенной систем, это невозможно из-за их бесконечного разнообразия. Но теория, изложенная в книге, позволит исследователям в любой научной сфере проще воспринимать и объяснять наблюдаемые явления. Школьники и студенты смогут легче освоить изучаемый предмет и прочнее усвоить материал.
Каждый ученый, вооруженный методологией «принципа лука» и обладающий умением абстрактно мыслить, сумеет без труда найти любому предмету, частице, явлению его место и роль в иерархии систем мироздания.
Автор надеется, что его идея окажется полезной хотя бы в качестве гипотетической теории. Предлагаемый материал можно считать эскизом будущей общей теории систем, который даст возможность по-новому посмотреть на наш мир. Теория BOW – ключ к разгадке устройства мироздания.
Автор верит, что лук обязательно должен выстрелить!
Непостижимое разнообразие мира
Мир не прост, совсем не прост.
Леонид Дербенев
Мы живем в нашем суетном мире и в калейдоскопе будней редко задумываемся над тем, как он устроен. Мы видим вокруг яркие витрины супермаркетов, строящиеся стадионы, дорожные развязки, школы, торговые центры. Улицы городов-муравейников заполнены автомобилями и толпами спешащих по своим делам людей.
Ежедневно мы ходим на работу, а вечерами допоздна смотрим сериалы или залипаем в смартфонах, читая тревожные новости. Иногда мы болеем, посещаем врачей, ходим на медицинские процедуры и в аптеку за лекарствами.
В это время на Солнце происходят вспышки, а на Земле – магнитные бури. Дни сменяются ночами, зимы – веснами, праздники – трудовыми буднями. Меняется климат – меняется и общество, наши привычки, жизнь вокруг нас.
Наш мир очень разный. В одной его части – роскошь и изобилие, в другой – смерть, нищета и голод. Кто-то вершит ужасные злодеяния, разрушая дома, школы и больницы, проливая кровь невинных людей, стариков и детей. В то же время кто-то творит добро, совершая подвиги, отдавая свою жизнь в борьбе с террористами и преступниками. В общем, все как обычно: изменчиво, противоречиво, запутанно и непостижимо сложно.
В отличие от мира людей, который живет по своим непростым законам, во всех уголках мироздания соблюдаются строгая целесообразность, гармония и совершенство. Мы наблюдаем удивительный неизменный порядок бытия: мерное вращение планет вокруг Солнца, движение звездных скоплений и галактик по бескрайней Вселенной.
Физики давно пытаются разгадать тайну мироздания. Прилагают невероятные усилия, чтобы найти «теорию всего». «Если единая теория будет создана, то появление сжатого и простого ее изложения станет лишь вопросом времени. Ее можно будет преподавать в школах (по крайней мере, в общем виде). Все мы тогда сможем в какой-то степени понять законы, управляющие Вселенной и ответственные за наше существование»2.
Готовятся эксперименты, которые бы доказали, что информация – это одно из состояний материи. «Информация – это состояние материи, в том числе и пространственно-временное ее состояние. Под состоянием здесь понимается пространственно-временное распределение свойств материи. На физическом уровне под свойствами понимаются инерционные, гравитационные, зарядовые, электромагнитные и другие характеристики физических объектов»3.
Утверждается, что такое вполне вероятно и проявляется через гравитационные взаимодействия.
«Мы стоим на пороге открытия, способного изменить суть наших представлений о мире. Речь идет о природе темной материи4.
В последние годы астрономия сделала важнейшие шаги в наблюдательном обосновании темной материи, и сегодня существование такого вещества во Вселенной можно считать твердо установленным фактом. Особенность ситуации состоит в том, что астрономы наблюдают структуры, состоящие из неизвестного физикам вещества. Так возникла проблема идентификации физической природы этой материи»5.
Загадочная темная материя, тайну которой пытаются разгадать физики-теоретики, может и оказаться той самой информацией, «мировым духом», который управляет мирозданием.
Возможно, тогда и наступит великое примирение материалистов и идеалистов, а основной вопрос философии – об отношении мышления к бытию, духа к природе – будет навсегда снят с повестки.
Биосфера Земли населена неисчислимыми представителями флоры и фауны, многие из которых еще только предстоит открыть и изучить. Глубины Мирового океана и непроходимые джунгли Амазонки таят неизведанные формы жизни, поражающие воображение.
Эволюция человечества – изменение общественно-политических формаций, геополитические катаклизмы, бурное развитие экономики, науки, культуры – происходит невероятными темпами.
Все эти процессы в природе и обществе не случайны. Они подчинены определенным законам. Мы знаем законы природы:
– физические (закон Архимеда, закон Бойля – Мариотта, закон всемирного тяготения Ньютона);
– химические (закон Авогадро, закон Гей-Люссака, закон сохранения массы Ломоносова, Лавуазье);
– биологические (закон единообразия Г. Менделя, закон эволюционного развития Ч. Дарвина);
– астрономические (закон Кеплера описывает движение планет вокруг Солнца, закон Хаббла гласит: скорость удаления галактик пропорциональна расстоянию до них)
и многие другие.
Эти законы исследуют естественные науки.
Есть законы развития общества, которые изучаются философией, социологией, культурологией, политологией, экономикой и рядом других наук.
Но существуют и общие фундаментальные мегазакономерности, характерные для всего мироздания в целом.
Системы повсюду!
Система позаботится о твоих запросах.
Встроился? Окей! Вопросы будут после.
Группа «Хук справа»
Этот раздел озаглавлен известными словами основоположника общей теории систем (ОТС) – австрийского биолога Людвига фон Берталанфи.
Мир является закономерно организованной иерархией систем. Все, что мы видим вокруг себя, – это множество разнообразных систем. Системность есть всеобщее свойство материи, форма ее существования. Отсюда следует, что системность – неотъемлемое свойство человеческой практики, включая мышление. Мы живем в системе, создаем системы и сами являемся системами.
Слово «система» появилось в Древней Греции в I тысячелетии до н. э. и первоначально означало «организация, строй, союз, сочетание, устройство». Античные философы стремились найти нечто общее, что объединяет все предметы мира.
Представители милетской школы – Фалес, Анаксимен, Анаксимандр – учили, что части меняются, целое неизменно.
Атомисты – Демокрит, Лукреций Кар – утверждали: каждый атом – часть целого, качество вещей возникает заново при объединении атомов в целое.
В диалоге «Парменид» Платон впервые выдвинул идею о приоритете целого над частями.
По мнению Аристотеля, «целое, то есть система, несводимо к сумме частей, его образующих».
Системное мировоззрение мы находим и в Древнем Китае. Этому свидетельствует учение о дао. Его основоположник Лао-цзы изложил свои идеи в трактате «Дао дэ цзин». В соответствии с даосизмом, дао есть начало, основание и завершение всего существующего и происходящего в мире. В учении даосизма явно просматривается системное строение мироздания.
Благодаря развитию науки примерно в XV веке бытие стало трактоваться как независимая от человека система мира. Мыслители Возрождения считали, что она обладает своей иерархией, организацией и структурой. Примером тому служат системные воззрения Николая Коперника, Джордано Бруно, Галилео Галилея, Иоганна Кеплера и других. Так, Коперник создал гелиоцентрическую систему мира. Опубликованная в 1543 году его работа «Об обращении небесных сфер» сыграла решающую роль в пересмотре представлений о системе мира.
В середине XIX века понятие «система» уже становится значимой философской категорией. В работах того времени делается попытка придать этому понятию научную значимость и привязать к определенной области исследования.
Слово «система» получило широкое распространение и стало употребляться довольно часто. Мы говорим: экономическая система, нервная система, отопительная система, Солнечная система, система Станиславского, пулемет системы Максима. Термин «система» используется тогда, когда говорят о чем-то сложном, не сразу понятном, но при этом целостном и едином.
К началу 1980-х годов все шире стали использоваться понятия «системный подход», «системный анализ», все чаще стали говорить о «системном мышлении», «системном кризисе» и т. п.
Со временем разнообразные системные теории интегрировались в системологию – науку, которая включает в себя общую теорию систем, отраслевые и специальные теории систем, системотехнику.
Сегодня системные идеи присутствуют в любой сфере деятельности. Специалисты самых разнообразных профессий – врачи, инженеры, программисты, военные и т. д. – оперируют определенной системой знаний и навыков, которые постоянно обновляются и совершенствуются согласно веяниям времени.
Чтобы успешно решать сложные проблемы с участием самых разных специалистов, появилась необходимость в разработке единого языка.
Отсюда возникла задача строгого определения понятия системы. Но до сих пор оно не имеет четкой и однозначной формулировки. На сегодняшний день насчитывается более четырех десятков разных трактовок понятия «система».
Ведущий российский ученый в области системных исследований В. Н. Садовский дал следующее определение этому понятию: «Системой мы будем называть упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство»6.
В работе «Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности» И. В. Блауберг, Я. Я. Садовский и Э. Г. Юдин сформулировали понятие системы более подробно: 1) система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 2) она образует особое единство со средой; 3) обычно любая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; 4) элементы любой исследуемой системы, в свою очередь, обычно выступают как системы более низкого порядка7.
Вот такое определение понятию система дает ИИ DeepSeek:
«Система – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (компонентов), объединенных в целостную структуру для достижения определенной цели или выполнения функции, обладающая свойствами, которые не сводятся к простой сумме свойств ее отдельных элементов».
Системные исследования берут отсчет с самого начала XX века. Общие принципы системного подхода впервые изложил в своей книге «Всеобщая организационная наука (тектология)» А. А. Богданов – русский врач, философ и экономист. Его труд значительно опередил свое время и на момент публикации был не понят научным сообществом.
Исследования, проведенные во второй половине прошлого века, показали, что важные идеи и принципы кибернетики, сформулированные американским математиком Норбертом Винером и особенно исследователем сложных систем английским психиатром Уильямом Россом Эшби, намного раньше были высказаны А. А. Богдановым. Автор тектологии во многом предвосхитил идеи создателя общей теории систем (ОТС) австрийского биолога Людвига фон Берталанфи.
Основной задачей общей теории систем является формулирование общих принципов и законов систем независимо от их специфики, природы составляющих их элементов и отношений между ними. Л. фон Берталанфи писал: «Вообще говоря, использование аналогий (изоморфизмов, логических гомологий) или, что почти одно и то же, использование концептуальных и материальных моделей является не полупоэтической игрой, а важным инструментом научного исследования»8.
Для построения ОТС используются результаты исследований самых различных наук: физики, химии, биологии, астрономии и многих других. Анализ этого материала дает основание делать вывод о существовании единых структурных связей и закономерностей, общих для самых разнородных явлений.
На протяжении 60—80-х годов велись оживленные дискуссии по поводу общей теории систем. Различие подходов к построению теории, отсутствие общепринятых представлений относительно основных понятий и принципов способствовали большому разнообразию мнений. Системные исследования представляли собой пеструю картину разнообразных теорий, концепций и разработок.
Предвидев такую ситуацию, А. А. Богданов писал: «Специализация ведет к расхождению методов. Развиваясь самостоятельно, каждая отрасль, практическая или научная, идет своими особыми путями и все более отдаляется от других. Вследствие этого их общение между собой уменьшается, а это ведет к их еще большему взаимному отдалению»9.
Новое тысячелетие не привнесло каких-либо значимых изменений в развитие системных исследований. Ни в России, ни за рубежом не издано ни одного фундаментального труда в области ОТС. Цель, которую ставили перед собой Богданов и Берталанфи – достичь всеобъемлющего уровня общности всех реально существующих систем, – так и не была достигнута.
«Таким образом, мы сегодня имеем проблему, состоящую в том, что, с одной стороны, системный подход и присущие ему представления о системе, структуре, функциях и т. д. являются уже общепризнанными и широко применяемыми во всех областях современной науки и практики, но при этом, с другой стороны, никакой общепризнанной и нетривиальной общей теории систем на сегодня все же не существует. Иначе говоря, идея всеобщей организованности мира (или его всеобщей системности, систематичности и т. д.) сегодня, как и во времена А. А. Богданова, так и остается не более чем достаточно смутной и интуитивно постигаемой идеей, не способной пока превратиться в сколько-нибудь ясную и отчетливую теорию»10.
Другими словами, универсальный принцип строения систем мироздания за сто лет существования ОТС так и не был найден.
Попытаемся разобраться в причинах неудачи теоретиков ОТС.
Сегодня системные исследования глубоко специализированы, и ОТС стала постепенно утрачивать свою актуальность. Появились новые системные направления: системософия, системология, системотехника, системный анализ и многие другие.
С появлением интернета, квантовых суперкомпьютеров, искусственного интеллекта стал доступен огромный объем информации в самых разнообразных областях. Обобщать, анализировать, систематизировать стало, с одной стороны, проще – на вооружении исследователя теперь нейросети, а с другой стороны, теоретики стали просто тонуть в океане информации. Как утверждал Анаксимен: «Чем шире круг знаний, тем больше он соприкасается с незнанием и порождает все больше сомнений и вопросов»11.
Системные исследования распространились на широкий круг явлений и вызвали принципиальные различия в профессиональных установках сторонников системного подхода. Это привело в итоге к размытости статуса понятия «системы».
«Главной причиной, препятствующей превращению идеи системности в некоторую нетривиальную общую теорию систем, является, на наш взгляд, отсутствие в рамках системного подхода логически четкого определения того, что понимается под системой»12.
Другая причина тупиковой ситуации в ОТС – это чрезмерное усложнение проблемы. Появляются все новые и новые варианты самых разнообразных теорий. «Это порождает большую разноголосицу мнений, отсутствие общепринятых представлений даже относительно основных понятий и принципов, частое дублирование исследований и т. д.»13.
А. Богданов в своем труде «Тектология» писал: «Обобщение в то же время есть упрощение. Задача сводится к минимальному числу наиболее повторяющихся элементов; из нее выделяются и отбрасываются многочисленные осложняющие моменты; понятно, что решение этим облегчается; а раз оно получено в такой форме, переход к более частной задаче совершается путем обратного включения устраненных конкретных данных. Так мы приходим к вопросу об универсально-обобщенной постановке задач»14.
Чтобы найти общее в совершенно разнородных системах, следует сначала выявить минимальное количество элементов, позволяющих достичь поставленных этими системами целей. Значительно упростить. Но как это осуществить?
Вот здесь и кроется основная причина кризиса ОТС. А секрет, на наш взгляд, довольно прост. В основу ОТС с самого начала следовало заложить всеобщее свойство всего сущего, а следовательно, и любых систем – движение.
Все в этом мире находится в движении. Движение – фундаментальный, неотъемлемый атрибут материи наряду с пространством и временем. Аристотель в своем сочинении «Физика» пишет: «Если же время есть число движения или какое-то движение, то, раз всегда существует время, и движение должно быть вечным»15.
«Ныне ясно, что именно движение позволяет объяснить и глубоко понять все: и суть времени, и суть пространства, и причину взаимодействий между объектами, и саму суть объектов, и т. д. (ибо движение есть основа всего).
Движение неуничтожимо, безгранично и вечно: движение всегда было, есть и будет существовать, создавая и разрушая бесконечность миров, пространств и уровней сущего»16.
Движение как системообразующий фактор
В процессе, так сказать, самопознанья
Один лишь шанс в бессмертие войти:
Познать все превращенья мирозданья
Возможно лишь в движенье, лишь в пути!
И. Г. Антонов
Движение – непрерывный процесс развития материального мира, способ существования материи и ее неотъемлемое свойство. Движение – «это изменение вообще»17.
Все процессы в природе и обществе находятся в непрерывном движении. В мире не существует материи без движения, как нет и движения без материи.
Конкретные виды движения классифицируются по типам и по форме.
Выделяются два основных типа движения:
• Первый тип характеризуется тем, что предметы, пребывая в движении, остаются устойчивыми в своих основных характеристиках и не изменяют своих качеств. Он связан с переносом материи, энергии, информации в пространстве. Примеры: идущий человек, включенный радиоприемник.
• Второй тип движения сопровождается перестройкой внутренней структуры предметов, что ведет к изменению свойств первоначальной вещи и превращению ее в совершенно иную вещь. Этому типу движения присущи необратимость и определенная направленность. Такой процесс называется развитием. Примеры: рост растений, различных организмов, эволюционные процессы в обществе, звездных системах.
Также принято выделять пять основных форм движения: механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную формы.
Общение, творчество, познание, мышление – это тоже движение.
Представитель христианского неоплатонизма IV века н. э. Мариус Викторин18 писал: «…двигаться и действовать (moveri et agere), но двигаться не пространственно, то есть перемещаться с места на место, а двигаться движением более возвышенным и божественным, присущим душе, которая своим собственным движением дарует жизнь и наделяет сознанием»19.
В трудах Аристотеля встречается такая мысль: «Ведь мы доказали, что движение должно существовать всегда. Но если оно существует всегда, оно необходимо должно быть непрерывным, так как всегда существующее непрерывно, а следующее друг за другом не непрерывно. Но в таком случае, если оно непрерывно, оно едино. Единым же будет [движение], производимое одним двигателем в одном движущемся [предмете], ибо, если он будет двигать один раз одно, другой раз другое, движение в целом будет не непрерывным, а последовательным»20.
Эта мысль великого философа указывает на то, что любой движущийся предмет имеет двигатель: « [движение], производимое одним двигателем в одном движущемся [предмете]». Таким образом, в любой системе мы можем выделить как минимум два элемента – движущий и движимый.
Далее в рассуждениях Аристотеля мы наталкиваемся на следующую идею: «Так как в существующих [предметах] необходимо должно быть непрерывное движение, а оно едино, и единое движение должно быть движением какой-то величины (так как не имеющее величины не движется), и притом единой, приводимой в движение единым (иначе оно не будет непрерывным, а будет рядом следующих друг за другом смежных и разделенных [движений]), то, если существует единый двигатель, он приводит в движение или двигаясь, или будучи неподвижным»21. Здесь автор «Физики» подводит к мысли о существовании некой определяющей, регламентирующей движение величины, то есть управляющего или направляющего фактора. Тем не менее Аристотель окончательно формулирует следующую триаду: «Существует ведь три [основные вещи]: движущее, движимое и третье – в чем [происходит движение], то есть время»22.
Аналогичный подход я обнаружил у В. Шмакова123 в его труде «Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро», опубликованном в 1916 году. Вот фрагмент из его книги в оригинальном изложении (рис. 2).
Рис. 2. Фрагмент книги Владимира Шмакова «Священная книга Тота. Великие арканы Таро», 1916 год
В. Н. Садовский в работе «Основания общей теории систем» при анализе кибернетических систем обращает внимание на триаду, где присутствуют мотиватор, эффектор и законы, правила – соответственно движущий, движимый и направляющий элементы системы. «При этом в рассматриваемых системах в качестве особых компонентов выделяются: мотиваторы – генераторы потребностей системы; рецепторы и эффекторы – элементы, которые получают информацию и генерируют действия системы; и, наконец, законы, или стратегии, – множество правил, посредством которых функционируют рецепторы и эффекторы»24.
Почему-то теоретики общей теории систем не поставили во главу угла то, что объединяет все и вся, – движение. Если рассматривать окружающий мир с точки зрения движения, то в любой системе мы можем выделить как минимум три элемента: а) движущий, б) движимый, в) направляющий.
Таблица 1. Три элемента, составляющие любую систему
Любое движение имеет первопричину, стимул, толчок, мотивацию. То, что является причиной, и будет первым компонентом системы – движущим элементом. Естественно, в любой системе существует и объект движения – то, что движется, меняется, – движимый элемент. Любой процесс имеет направление, цель, задачу. Это третий элемент, который обозначим как направляющий.
Для примера рассмотрим систему кровообращения человека, где довольно наглядно проявляется эта закономерность. Кровообращением называют движение крови в организме. Оно состоит из трех основных частей: крови, кровеносных сосудов (артерий, вен, капилляров) и сердца. Здесь мы видим эти три элемента: сердце – движущий элемент, кровь – движимый и кровеносные сосуды – направляющий. Следует заметить, что каждый из этих элементов (сердце, кровь, сосуды), в свою очередь, также разделяется на составные элементы по тому же принципу. Подробнее об этом рассказывается в главе, посвященной человеку как биологической системе.
Рис. 3. Три элемента системы кровообращения
Еще один пример. Опорно-двигательный аппарат – совокупность костей скелета, суставов и мускулатуры. Мышца (движущий элемент системы) приводит в движение кость (движимый элемент), а сустав ограничивает движение (направляющий элемент).
Рис. 4. Три элемента опорно-двигательной системы
Подобных примеров можно привести бесконечное количество, и не только в биологических системах, но и во многих других. Такую же схему можно найти в автомобиле, компьютере, авторучке, атомном ядре, государстве, Вселенной – в общем, во всем, что нас окружает.
Рис. 5. Элементы часов с кукушкой: 1 – движущий, 2 – движимый, 3 – управляющий
О триединстве бытия
Трое появились не случайно,
Троица придумана не зря,
Ведь недаром чуть не в каждой чайной
Есть картина «Три богатыря».
Леонид Дербенев
Согласно парадигме, основанной на всеобщем свойстве всего сущего – движении, любой объект, явление можно разделить на три взаимосвязанных элемента.
До наших дней дошли свидетельства о том, что еще древнегреческий мыслитель Пифагор утверждал: все в природе разделено на три части, и никто не сможет стать воистину мудрым, пока не представит каждую проблему в виде треугольной диаграммы. Он говорил: «Узрите треугольник – и проблема на две трети решена… Все вещи состоят из трех»25.
Пифагор полагал, что закон триадичности есть универсальный закон мироздания. Пифагорейцы сравнивали число три с мудростью, потому что люди организуют настоящее, предвидят будущее и используют опыт прошлого. «Так, все, что в природе вещей имеет начало, середину и конец, они по такой его природе и виду называют Троицей, и все, в чем есть середина, считают троичным, и все, что совершенно, – тоже; все совершенное, говорят они, исходит из этого начала и им упорядочено, поэтому его нельзя назвать иначе чем Троицей; и, желая возвести нас к понятию совершенства, они ведут нас через этот образ»26.
Троица, триада, триначалие, триединство, троичность, триадичность, триалектика, триадизм, трихотомия, тринарность, тринитаризм – эти и подобные им термины используют философы, теологи, эзотерики, нумерологи, системные аналитики, математики, лингвисты и многие другие. Мы видим такое же их разнообразие, как и в случае с определениями понятия «система». Очень похоже на то, как одно и то же лекарство имеет множество торговых названий в зависимости от компании-производителя. Термины хотя и различаются, но в основе их лежит магическое число три.
О том, что тройственность присутствует во всех сферах бытия, написано большое количество книг, статей, диссертаций. Все это можно найти в библиотеках и на электронных ресурсах. Дабы не перегружать книгу излишней информацией, изложу эту тему по возможности коротко.
Павел Флоренский писал: «Положительно, число три являет себя всюду, как какая-то основная категория жизни и мышления»27.
Мы живем в троичной системе измерения: длина, ширина, высота. Имеем три рода имен существительных в русском языке: мужской, женский, средний; различаем три основных цвета в составе «цветового круга»: красный, синий, зеленый.











