Читать онлайн Человек и смех
- Автор: А. Козинцев
- Жанр: Культурология, Монографии, Психология, Юмор и сатира
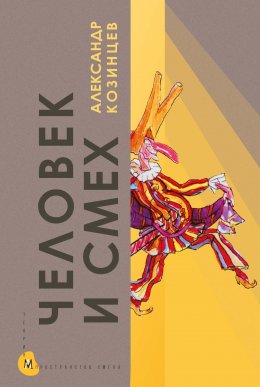
© Козинцев А.Г., 2025
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2025
© Издательство «Альма Матер», 2025
Совместный проект Издательской группы «Альма Матер» и Международной Академии дураков Славы Полунина
В оформлении книги использованы офорты из цикла Balli di sfessania («Пляски») Ж. Калло (1622), изображающие сцены из Комедии дель арте. На обложке – рисунки С.М. Эйзенштейна, изображающие персонажей той же комедии (1917)
Рецензенты:
А.Е. Аникин (академик РАН, заведующий сектором русского языка Института филологии СО РАН),
Н.Н. Казанский (академик РАН, научный руководитель Института лингвистических исследований РАН),
Дж. Морреалл (почетный профессор религиоведения, Колледж Вильгельма и Марии, Уильямсберг, США)
Смысл смеха почти непонятен для нас, он скрыт под многовековыми напластованиями. Чтобы создать антропологию смеха, надо первым делом заняться его археологией.
В архаических обрядах смех соседствовал со смертью. Смерть была временной, за ней следовало возрождение. Так природа умирает зимой и оживает весной. Вечная череда фаз жизни, смерти, новой жизни, периодическое праздничное переворачивание социального порядка. Раб на короткое время становится царем, слуги открыто смеются над господами. Потом шутовского царя осмеивают и изгоняют или убивают. Все возвращается на свои места до нового праздника.
«Подражание худшим людям» – так определил сущность комедии Аристотель. К смеху он подходил с моральными, а не ритуальными мерками, его взгляды ближе к нашим, чем к архаическим. Но и архаическому праздничному смеху предшествовали многие тысячелетия, когда смех играл иную роль. Какую же? Почему смех более стихиен и бессознателен, чем любое иное проявление нашей натуры, доставшееся нам в наследство от предков? Каков был его исконный смысл и почему этот смысл оказался забыт и заменен множеством культурных мотивировок? Может быть, никакого общего значения у смеха нет, как думают многие теоретики? Наконец, что такое юмор и почему он вызывает смех? На эти вопросы автор попытался ответить, используя данные разных наук, гуманитарных и естественных. Насколько ему это удалось – судить читателю.
Предисловие ко второму изданию
Семнадцать лет, прошедшие со времени первого издания книги, – срок немалый. Однако в философско-психологической сфере, несмотря на множество опубликованных с тех пор интересных работ, не произошло ничего, что заставило бы меня пересмотреть главные мои выводы. Путеводные звезды на моем гуманитарном горизонте остались прежними – Кант, Шиллер, Жан Поль, Салли, Эйзенштейн, Бахтин, Фрейденберг, Тынянов… Изменения произошли, но коснулись они меня самого. Мне стало понятнее значение некоторых старых работ, которые никогда не рассматривались в контексте теории комического. Это относится прежде всего к русскому формализму и особенно к Эйхенбауму, взгляды которого на трагедию и комедию остались, по существу, незамеченными, как и глубинное родство формалистической эстетики с эстетикой комического. Параграф 1.2 дополнен соответствующими материалами. Еще один недооцененный мыслитель, также обосновывавший единство комизма с трагизмом, но на совершенно иной основе, – Пинский. Моя недавняя статья о нем публикуется в Приложении, где рассматриваются дополнительные факты, относящиеся к эстетике формалистов.
Что же до естественно-научных основ теории смеха, то я попытался учесть главные достижения последних лет во 2-й главе нового издания книги, а до этого – в американском издании (Kozintsev 2010). Однако и здесь, несмотря на десятки новых имен и публикаций, ничего, что ставило бы под сомнение основополагающие работы Яна ван Хофа об эволюции смеха (Hooff 1972), Терренса Дикона и Барбары Вильд о его нейрофизиологических механизмах (Deacon 1992; 1997: 245–246, 421; Wild et al. 2003), за последние десятилетия не появилось.
Возможно, в новом издании следовало бы сослаться на вышедшие с тех пор русские переводы двух важных книг – Б. Отто о шутах (Отто 2008) и Р. Мартина о психологии юмора (Мартин 2009). Я, однако, оставил ссылки на оригиналы (Otto 2001; Martin 2007), и не только потому, что читатель может при желании легко найти соответствующие места, а и по причине изъянов перевода. Так, Р. Мартин вслед за В. Рухом предложил (по-моему, без всякого на то основания) выделить некую особую эмоцию, якобы выражаемую смехом, и обозначить ее разговорным словом «веселье» – соответственно, «mirth» (Martin 2007: 8–10, 155–156) и «exhilaration» (Ruch 1993). Мало того, что эти псевдотермины, обозначающие смесь радости со смехом, ничуть не проясняют связь между ними, но вдобавок в русском переводе книги Р. Мартина (Мартин 2009: 83) слово «mirth» переведено как «радость», что окончательно затемняет вопрос, который и без того далек от ясности (см. параграф 2.3).
Я признателен А. А. Аншуковой, М. С. Левиной, А. И. Гура и всем сотрудникам издательской группы «Альма Матер», причастным к переизданию книги. Спасибо О. В. Волковой и Н. Н. Щербакову – первым читателям рукописи, избавившим ее от многочисленных огрехов. Стандартная оговорка, которой принято заканчивать предисловие – «оставшиеся изъяны целиком на совести автора» – в данном случае будет недостаточной, ибо к оставшимся, боюсь, прибавились новые, возникшие в силу закоренелой привычки автора вносить правку после того, как окончательный (теперь уже действительно, действительно окончательный!) вариант выправлен и согласован. Оправдываться бесполезно, остается лишь попросить у читателей прощения и понадеяться на помощь издательства.
Александр Козинцев,
Санкт-Петербург, сентябрь 2024 г.
Предисловие к английскому переводу[1]
«Il n’y a de nouveau que ce qui est oublié»– «Нет ничего нового, кроме того, что было забыто», – заметила модистка Марии-Антуанетты Роза Бертен, когда королева одобрила старое платье, перешитое для нее Розой. По смыслу эти слова кажутся близкими к мрачному изречению Екклесиаста, а звучат куда более обнадеживающе. В XXI веке никто в здравом уме не решится всерьез заявить, что предлагает научному сообществу принципиально новую и всеохватывающую теорию комического. Если идеи, которые я отстаиваю, покажутся кому-то чересчур смелыми или даже радикальными, это будет значить лишь одно: мы забыли слишком многое из того, что было сделано нашими предшественниками. Пусть эта книга станет данью памяти тем, кого мало кто причисляет к основоположникам современных теорий смеха и юмора – в первую очередь, Джеймсу Салли, Сергею Эйзенштейну, Луиджи Пиранделло и ряду других.
Жан Поль – он принадлежит к той же категории – сравнил остроумие с переодетым священником, венчающим любую пару. Теперь, когда настало время для синтеза, перед нами встала заманчивая цель – перешагнуть дисциплинарные рамки и найти то общее, что объединяло бы прежние подходы, особенно те, которые казались несовместимыми, но оказались неполными друг без друга. Настоящим откровением стало для меня то, что понять связь между юмором и смехом (едва ли не самую таинственную связь в нашей психике и поведении, почти табуированную для исследователей после стольких неудачных попыток ее постичь) [2] можно лишь объединив радикально субъективистские идеи таких мыслителей, как Кант и Жан Поль, с объективными данными этологии и нейронауки XXI века.
Удивительней всего в подобных открытиях то, что сколь бы несходными, даже несовместимыми, ни казались те или иные теории, все они оказываются в той или иной степени полезными при синтетическом подходе. Я бы даже сказал, что ни одна из когда-либо сформулированных концепций комического не заслуживает слов, которыми Гусеница оценила стихотворение про Папу Вильяма, написанное Р. Саути, вывернутое наизнанку Л. Кэрроллом и исполненное Алисой: «Все не так, от самого начала и до самого конца». Даже вечно модные отцы-основатели современного мейнстрима – Гоббс, Бергсон и Фрейд – не заслуживают того, чтобы их отвергали целиком. Надо отдать им должное – порой они высказывали на удивление проницательные мысли. Задача в том, чтобы, подобно крыловскому петуху, отыскать эти жемчужины, отделить от того сора, в котором они таились, а затем показать их чужеродность в первоначальном контексте и включить в новый контекст, где они приобрели бы совсем иной смысл. Библиографический список, на первый взгляд, великоват по сравнению со скромным размером книги. Причина тому – мое стремление хотя бы отчасти застраховаться от упреков в том, что я выдвигаю безумные идеи, изобретаю велосипед, или же занимаюсь и тем и другим. Так или иначе, если постройка, мною возведенная, в конце концов рухнет (что вовсе не исключено), ее фундамент – библиография – останется на месте. Хоть Льюис Кэрролл и не оставил от поэмы Роберта Саути камня на камне, оба текста хотя бы по внешней видимости повествуют о Папе Вильяме.
Как ни старался я сделать книгу более понятной, приблизив ее язык к разговорному, общедоступной она все-таки не стала и многие, предвижу, захлопнут ее, не дочитав. Бóльшая часть вины тут, конечно, моя. Но нужно учесть и то, что сюжеты книги, вроде бы не требующие от читателя особых теоретических познаний (кто же не готов порассуждать о том, отчего люди смеются?), на самом деле гораздо сложнее, чем кажется. Они бросают вызов житейскому здравому смыслу и заставляют нас внимательнее смотреть на нашу глубоко противоречивую биокультурную сущность. Я очень прошу нетерпеливых читателей не спешить к Выводам (а не только с выводами) [3], ведь в отрыве от всего предшествующего они могут показаться парадоксальными, а это опять-таки может отбить у вас охоту пробиваться сквозь не всегда легкий текст. Многие авторы, пишущие на эти темы, завлекают читателей анекдотами, но мне это кажется не вполне честным. Существует уже столько теоретических книг про анекдоты – да и целые сборники анекдотов – а к разгадке тайны юмора и смеха они нас ничуть не приблизили.
Первая глава посвящена философии, психологии и тому, что обычно именуется семантикой юмора, но на самом деле доказывает, что как раз семантики-то у юмора и нет. Во второй главе рассматриваются биологические факты о смехе и выдвигается гипотеза о происхождении смеха и юмора, вернее, теория Джеймса Салли переформулируется в свете современных знаний. В третьей главе рассказывается о том, что происходит, когда «игровой вызов» (термин Дж. Салли) направлен на язык, в четвертой – о попытках сочетать этот вызов с серьезной агрессией.
Отсутствие грамматического рода в английском языке в большинстве случаев избавляет нас от необходимости думать о политкорректности, но проблема местоимений остается. Когда речь идет о человеке как Homo sapiens или о философском субъекте, используется гендерно-немаркированный мужской род. Когда имеются в виду отдельные личности или психологические субъекты, употребляются гендерно-маркированные формы «s/he» и «his/her». Если читатель сочтет, что я не вполне последователен в соблюдении этих правил, я попрошу ее меня простить.
Я признателен всем, кто поделился со мной соображениями о книге. Круг моих корреспондентов оказался довольно широк – психологи, филологи, лингвисты, философы, антропологи, этологи, два священника и клоун. Среди тех, кто причастен к выходу этой существенно расширенной английской версии, я особенно благодарен Ричарду Мартину. Для меня было приятной неожиданностью, что еще до нашего знакомства он вызвался бесплатно перевести мою книгу (сейчас мы добрые друзья). Ричард потратил уйму времени и сил на борьбу с причудами моего стиля, и его замечания и предложения были неизменно полезными. Спасибо Джессике Милнер-Дэвис, вдохновившей меня на то, чтобы издать книгу на Западе, Ирвингу Горовицу, который принял рукопись к публикации, Лоренсу Минцу, чья редактура пошла ей на пользу, и всем сотрудникам издательства «Transaction».
Александр Козинцев,
Санкт-Петербург, июнь 2009 г.
Предисловие к первому изданию
Эта книга необычна, по крайней мере в нашей литературе. Необычным был и сборник, который ей предшествовал (Смех: истоки и функции 2002). В нем была сделана попытка взглянуть на смех с позиций нескольких наук, как естественных, так и гуманитарных. В результате стали вырисовываться первые контуры междисциплинарной науки о смехе. Возможно, чуточку опережая события, я предложил назвать ее «антропологией смеха», отметив, что она находится в начальной стадии формирования и у нас, и за рубежом. Это чистая правда, но из рядов философов тут же послышался протест: «будущая антропология смеха мыслится как сугубо естественно-научное знание, в то время как философия смеха насчитывает уже тысячи лет». Нет, конечно же, не как сугубо естественно-научное, но и не как сугубо гуманитарное. Всякого перекоса здесь желательно избегать, ведь в центре антропологии смеха – человек, существо одновременно биологическое и культурное. Предлагаемая книга – следующий шаг на пути к синтезу.
Хотя сборник был вполне междисциплинарным и баланс между биологией и культурой был, как мне казалось, худо-бедно соблюден, вводная его статья, содержащая биологические данные о смехе, настолько отпугнула некоторых философов, что они сочли, будто в сборнике «практически не был учтен богатейший опыт по теме нашей гуманитарной науки: филологии, философии, эстетики, психологии» и т. д. Да, это моя вина. Если читатель-гуманитарий захлопывает книгу, не одолев и десяти страниц, то автор обязан извлечь из этого урок. На сей раз я пошел по более традиционному пути и сделал предметом первой главы материал из гуманитарных областей, в частности, относящийся к философии и психологии смеха, – в надежде на то, что специалистам, интересующимся истоками и, соответственно, биологическими аспектами данного феномена, хватит терпения добраться до второй главы, где и рассматриваются соответствующие факты и теории. Кстати, по сравнению со сборником естественно-научная глава дополнилась новейшими данными, добытыми в начале нынешнего столетия, в частности, появился параграф «Смех, юмор, мозг». Третья глава посвящена игре, серьезной и несерьезной, в частности, языковой, а также знаковой, вернее, антизнаковой функции юмора (особое место тут уделено соотношению юмора и иронии и борьбе языка с самим собою). Тема четвертой главы – конфликт культуры с природой, в частности, попытки совместить смех с агрессией.
Пожалуй, самое замечательное качество смеха – его несравненная способность объединять людей. Предлагаемая книга представляет собой попытку понять, почему это так. Смех сплачивает не только смеющихся, но и тех, кто его изучает, независимо от того, соглашаются они друг с другом или нет. После выхода сборника 2002 г. многие читатели из разных городов вступили со мной в переписку. Некоторые из них стали моими друзьями и, что не менее приятно, подружились между собой. Иные вели со мной яростные споры. Мы не пришли к согласию ни по одному пункту, да вряд ли и придем – но что-то заставляет нас продолжать общение. Всем этим людям я в равной степени признателен. А среди тех, кто читал рукопись на финальной стадии ее подготовки, я особенно обязан Г. Е. Крейдлину, который помог мне устранить многие противоречия и неясности и улучшить стиль (оставшиеся огрехи – целиком на моей совести).
Надеюсь, что эта книга расширит круг моих корреспондентов. Любые комментарии, в том числе и самые беспощадные (не сомневаюсь, что таковых окажется в избытке), будут приняты к сведению с благодарностью. Мой почтовый адрес – 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 3, Музей антропологии и этнографии РАН; электронный адрес – [email protected] (последний предпочтительнее).
Мой приятный долг – поблагодарить Российский гуманитарный научный фонд, при поддержке которого (грант № 05–01–01141) написана эта книга, и Российский фонд фундаментальных исследований, при поддержке которого (грант № 07–06–07013) она была издана впервые.
Александр Козинцев,
Санкт-Петербург, март 2007 г.
Глава 1. Комическое, или подражание худшим людям
§ 1.1. Несообразность и снижение
Аристотель очень предусмотрителен. Сперва он ставит читателя в тупик. В самом деле, идеализировать людей, как в трагедии, кажется естественным, но для чего изображать их худшими, чем они есть на самом деле? Едва мы, однако, успеваем задуматься над этим вопросом, как нам тут же предлагается легкий выход в виде оговорки о полной безобидности изображаемого. Комическая маска – было бы о чем говорить! Ни страданий, ни смерти. За теорию «безобидности» комического объекта, как за спасательный круг, держались и продолжают держаться многочисленные эстетики вплоть до наших дней, словно не замечая целого моря фактов, ей противоречащих.
Кто же именно «подражает худшим людям» и зачем? Комический артист, тот, чье лицо закрыто нелепой маской или искажено гримасой? Да, так мы обычно думаем и находим для такого подражания самую благую цель – изобразить перед нами, зрителями, зло или несовершенство во всей его неприглядности с тем, чтобы мы «уничтожили» его смехом и испытали торжество от нашей победы. Такова привычная для нас оптимистическая точка зрения советских теоретиков, считавших смех «оружием сатиры».
Довольно близкое мнение высказал в XVIIв. Томас Гоббс – автор «теории превосходства». Впрочем, по Гоббсу, «гримасы, именуемые смехом», выражают не торжество общественно-полезной победы над злом и несовершенством, а нашу эгоистическую и тщеславную «внезапную гордость» от осознания того, что мы сами, дескать, благороднее, умнее и красивее объекта (Hobbes 1957/1651 [4]: 36) [5]. Оптимизм, как видим, тот же, а разница – лишь в функции осмеяния. В первом случае оно поставлено на службу обществу, во втором – осуществляется в своекорыстных целях.
Крайнюю версию теории превосходства изложила М. Т. Рюмина, по мнению которой, смешное – это «ситуация зла, происходящая с другим», причем «субъект-наблюдатель тут попадает как бы на место Бога» и эгоистически радуется собственной безопасности. «Трагическое и комическое почти во всем совпадают (характер ситуации и положение человека в ней), а разнятся только в выборе точки зрения» (Рюмина 2003: 115). Но, если так, то почему же только «совпадают»? Их можно и поменять местами. Американский комик Мэл Брукс был более последователен: «Трагедия – это когда я порезал палец, а комедия – это когда ты провалился в канализационный люк и погиб». На Западе гоббсианские концепции комического (часто в виде «теории злорадства») весьма популярны (McGhee 1979: 22; Morreall 1983: 4–10; Sanders 1995: 38; Gruner 1997; Martin 2007: 43–55).
Превосходство, злорадство, торжество над дурным – значит, в этом причина нашего удовольствия, ради этого пишутся комедии? Такой взгляд вызывал сомнение уже очень давно. Вот, например, точка зрения Фридриха Шлегеля: «Простой человек не столь чувствителен к отвратительному, часто содержащемуся в комическом: его могут забавлять комические черты страдающего или дурного существа… Чистое удовольствие редко содержит смешное, но смешное (очень часто не что иное, как удовольствие от дурного) гораздо действеннее и живее» (Шлегель 1983: 56, 59). «Необходимое удовольствие от дурного» Шлегель назвал «наследственным грехом комической энергии». Налет классового снобизма, присущий этим суждениям, делает их еще ценнее, так как, вопреки своим взглядам, Шлегель вынужден был признать, что как только Менандр попытался избавить комедию от «наследственного греха» и придать ей утонченность, изящество и «гуманность в характерах» (видимо, сочтя «подражание худшим людям» занятием недостойным), комическая энергия древней комедии куда-то испарилась.
«Удовольствие от дурного» – ведь это нечто прямо противоположное удовольствию от превосходства, злорадства и торжества над дурным! Так кто же все-таки и с какой целью подражает «худшим людям»? Обратимся за разъяснениями к Аристотелю. «Какие насмешки [6] не стесняются выслушивать, – писал он в „Никомаховой этике“ (Arist. Eth. Nic. IV. 14 (VIII)), – такие и сами говорят. Но не всякие насмешки, ибо насмешка – это своего рода поношение, а [если] иные поношения запрещаются законодателями, то следовало бы, вероятно, запретить также [иные] насмешки… А шут подчинен смешному и, если выйдет потеха, он не пощадит ни себя, ни других» (пер Н. В. Брагинской).
В отличие от сохранившихся пассажей о комическом в «Поэтике», это место не допускает разночтений. Аристотель ясно дает понять, что «худшим людям» подражают не только комические актеры, изображающие их в карикатурном виде якобы с целью их высмеять, но и авторы комических текстов, а вместе с ними и слушатели, и что подобное «срамословие», унаследованное от древней комедии, – занятие недостойное свободнорожденного и подобающее скорее «скоту». То ли дело новая комедия с ее изяществом, чувством меры и тонкими намеками!
Проще всего отмахнуться от таких суждений, сославшись на то, что Аристотель называл «скотами» рабов, и поэтому к нам его слова относиться не могут. Но ведь и мы, подобно афинянам IV в. до н. э., хохочем над анекдотами. Стоит нам призадуматься над нашим смехом – и у нас в душе, как и у Аристотеля, остается какой-то непонятный осадок. «Какой трудный, неблагодарный и внутренне порочный жанр искусства – анекдоты, – записал в дневнике К. И. Чуковский (Чуковский 1995: 154). – Так как из них исключена поэзия, лирика, нежность – вас насильно вовлекают в пошлые отношения к людям, вещам и событиям – после чего чувствуешь себя уменьшенным и гораздо худшим, чем ты есть на самом деле».
Человек, который бы рискнул высказать подобное суждение вслух в наши дни, пожалуй, прослыл бы чудаком. Л. В. Карасев (Карасев 1996: 67–74) не без основания считает антитезой смеха стыд. Люди, не желающие казаться чудаками, предпочитают стыдиться самого стыда. «Стыдно не быть бесстыдным», написал о них – да и о нас всех – Блаженный Августин (August. Conf. II. 9).
Современные исследователи анекдотов, видимо, стремясь застраховаться от упрека в старомодности, в сущности игнорируют этический аспект [7], уделяя главное внимание когнитивно-семантическим аспектам – «оппозиции скриптов», «логическим механизмам», пуанту и пр. Однако сам жанр анекдота считается не лучше и не хуже любого другого. Мысль о том, что хорошие и плохие анекдоты в каком-то весьма важном смысле одинаково «плохи» и что именно в этом и состоит причина их популярности (Kuipers 2006), воспринимается с трудом – она кажется либо весьма наивной, либо фрейдистской.
Такая установка соответствует «теории несообразности», которую в XVIIIв. сформулировал Дж. Битти (Beattie 1776), а в XIXв.– А. Шопенгауэр (Шопенгауэр 1999/1818: 116–130). Главную несообразность, вызывающую якобы смех, создатели «семантических теорий словесного юмора» (Raskin 1985; Attardo 1994, Attardo 2001a; Ritchie 2004) [8] усматривают в семантике комического текста, т.е. в его отношении к реальности или фантазии. Это отношение противоречиво, основано на несовместимости и полярной противоположности «скриптов» (альтернативных прочтений текста). Смеясь, субъект якобы реагирует на несообразность, выражает свое отношение к ней. Иными словами, комическое противоречие оказывается объективным, внешним по отношению к субъекту. Так думают почти все – не только те, кто придерживается теории несообразности, но и сторонники большинства иных теорий [9]. Несообразность возникает по-разному: либо текст реалистичен, но двусмыслен (Shultz 1972), либо в дело вовлечены фантазия и алогизм (Suls 1972; обсуждение этих двух моделей см.: Ritchie 2004: 55–57). В любом случае от нас требуется мгновенная реинтерпретация текста – то, что когнитивные лингвисты называют «сменой фреймов» (Coulson 2001).
Согласно наиболее влиятельной современной лингвистической теории, сформулированной В. Раскиным, для того чтобы текст был смешным, необходимо и достаточно, во-первых, чтобы он был совместим с двумя взаимоисключающими семантическими скриптами (скрипт – понятие, примерно эквивалентное фрейму у когнитивных лингвистов), а во-вторых, чтобы эти скрипты были противопоставлены и образовывали бинарную оппозицию, построенную на категориях, базовых для человеческой жизни: «истина/ложь», «возможное/невозможное», «секс/не-секс» и т. д. (Raskin 1985: 99, 113, 115; Attardo 1994: 203–205; Attardo 2001a: 17–20). По словам С. Аттардо (ведущего представителя школы Раскина), совместимость скриптов без их противопоставленности присутствует в многозначных, метафорических и мифических текстах, тогда как противопоставленность без совместимости свидетельствует о серьезном конфликте (Attardo 1994: 204). Кроме того, согласно Раскину и Аттардо, юмористические тексты относятся к «недобросовестному модусу коммуникации» (non-bona fide mode), поскольку нарушают коммуникативные постулаты Г. П. Грайса (Грайс 1985): «…В большинстве анекдотов… двусмысленность создана преднамеренно, и в намерение говорящего входят две интерпретации, которые, по его замыслу, должен воспринять слушающий» (Raskin 1985: 115). Согласно Аттардо, для юмора необходим также «логический механизм», соединяющий оба скрипта (Attardo 2001a: 25–26). Что ж, посмотрим, как эта теория работает. На Тайной вечери Иисус провозгласил, что хлеб – это его тело, а вино – его кровь. Смена фреймов не подлежит сомнению. Оба скрипта – мирской и мистический – противопоставлены и совместимы, по крайней мере, частично (для верующих, принимающих Причастие, – полностью). Едва ли кто усомнится, что такие оппозиции как «реальное/нереальное» и «профанное/сакральное» относятся к числу базовых. Двусмысленность была преднамеренной – говорящий явно хотел, чтобы обе интерпретации были восприняты слушающими (видимо, он не слыхал о постулатах Грайса). Налицо и логический механизм: несмотря на транссубстанциацию, тело Иисуса остается твердым веществом (хлебом), а кровь – жидкостью (вином, скорее всего красным). Ученики, несомненно, были в замешательстве, но источники ничего не сообщают об их смехе. По крайней мере, в наши дни мало кто принимает слова, произносимые во время Причастия, за шутку.
Возьмем другой пример. В новелле Томаса Манна «Обманутая» пятидесятилетняя женщина влюбляется в молодого человека. Этой любви она приписывает то, что у нее возобновились маточные кровотечения. Причиной, однако, оказывается рак, от которого она вскоре умирает. Оба скрипта новеллы совмещены и противопоставлены. Нет оппозиций более фундаментальных, чем «жизнь/смерть» и «любовь/смерть» (в терминах Раскина «секс/не-секс»). Не только героиня, но и читатель становится жертвой обмана, держащегося на безупречном логическом механизме. Предположить, что текст не кажется смешным из-за трагизма описываемой ситуации, значило бы не считаться с тем, что черный юмор повествует о событиях не менее печальных.
Если эти примеры кажутся экзотичными, то вот еще один, вполне обычный – детектив. В нем всегда присутствуют два совместимых и противопоставленных скрипта. Оппозиция «преступник/невиновный», как и более общая – «зло/добро», относится к числу базовых. Автор намеренно создает двусмысленность, прибегая к недобросовестному модусу коммуникации и путая оба скрипта в сознании читателя. Короче говоря, и тут все «достаточные» условия соблюдены, но читатель почему-то не смеется. Без логического механизма, соединяющего «скрипт преступника» со «скриптом невиновного», детектив невозможен. Даже «пуант» – фраза в финале, неожиданно снимающая двусмысленность и указывающая на преступника,– присутствует, как и в анекдоте, а смеха все равно нет [10].
Нетрудно показать, что условия, сформулированные В. Раскиным, не только не достаточны, но и не необходимы, так как людей нередко смешат тексты, где никакой оппозиции скриптов обнаружить не удается, например, «невинные» каламбуры (Morreall 2004; Apter, Desselles 2012) [11].
Понятие логического механизма родственно популярной среди психологов и лингвистов теории «разрешения несообразности» (Suls 1972; Shultz 1972). То же самое называют «уместной неуместностью» (Monro 1951: 241–242), «сообразной несообразностью» (Oring 1992: 81), «локальной логикой» (Ziv 1984: 90), «когнитивным принципом» (Forabosco 1992), или «псевдоправдоподобием» (Chafe 2007: 9) [12]. Теория гласит, что восприятие анекдотов и карикатур состоит из двух стадий: сперва человек оказывается в затруднении, обнаружив в тексте или рисунке некую несообразность, а потом она «разрешается» – благодаря озарению («инсайту») обнаруживается новый, скрытый смысл. Когнитивные лингвисты называют это «сменой фреймов» (Coulson 2001).
Действительно, многие анекдоты и карикатуры строятся по этому принципу, хотя некоторые из них (относящиеся к категории нонсенса) не допускают «разрешения», а то, что казалось таковым, оказывается бессмыслицей (Rothbart, Pien 1977). Типичный пример – карикатура Ч. Аддамса, на которой изображен лыжник, ухитрившийся объехать дерево так, что лыжни оказались по разные стороны ствола.
Художник пытается навязать нам несообразность. Оставаясь на уровне карикатуры, мы заключаем: если бы люди могли проходить сквозь твердые преграды, то именно так все и выглядело бы (вероятно, в этом и состоит «локальная логика» рисунка), но… Отсюда мы делаем вывод: если бы это было всерьез, то над этим следовало бы задуматься, но…
Итак, мы переходим с уровня юмористического стимула на метауровень [13] и думаем уже не над тем, что нам показывают или рассказывают, а над тем, почему нам это показывают или рассказывают. В семиотических терминах, наше внимание переключается с семантики юмора (таковая в данном случае отсутствует, поскольку никакого смысла в картинке не сыскать) на его прагматику. Мы заключаем, что художник или не в себе, или – что вероятнее – дурачит нас. Может быть, он пародирует реалистическое искусство, пытающееся копировать жизнь? Но вряд ли цель его в том, чтобы утвердить примат фантазии над реальностью (карикатура – явно неподходящий способ достичь такой цели). Или, быть может, он воспроизводит не реальность, а нелепую картинку, созданную кем-то другим? Так поступал У. Хогарт в «Сатире на неверную перспективу».
Рис. 1. Чарльз Аддамс. Лыжник (1940)
А скорее всего, художник хочет просто позабавить нас. От нас ожидают смеха – и мы смеемся, если находимся в подходящем настроении. Или не смеемся, если настроение неподходящее.
Рис. 2. Уильям Хогарт. Сатира на неверную перспективу (1754). «Всякий, кто создает рисунок без знания перспективы, рискует впасть в такие же нелепости, какие показаны на этом фронтисписе»
Но дело не только в нонсенсе. Если бы главным элементом юмора было постижение «соли» анекдота или карикатуры, было бы непонятно, чем удовольствие от «разрешения несообразности» отличается от удовлетворения, которое человек испытывает, решив задачу, отгадав загадку или узнав, кто из персонажей детективного романа совершил убийство. Это и невозможно понять, если смотреть на юмористическое повествование с точки зрения его семантики, т. е. с того низкого уровня, на который нас, хотим мы того или нет, помещают автор, рассказчик или карикатурист. «Логические механизмы», действующие на этом уровне, сплошь и рядом оказываются бутафорскими, поддельными, никуда не годными. Приведу в качестве примера остроту четырехлетнего малыша, который сумел самостоятельно разрешить несообразность и создать «уместную неуместность» с помощью логического механизма. Увидев на картинке собак, которые смотрят телевизор, он сказал: «Наверно, показывают рекламу собачьего корма» (Pien, Rothbart 1976).
«Локальная логика» неоспорима: если бы собаки смотрели телевизор, их в первую очередь, вероятно, привлекла бы реклама собачьего корма. Впрочем, «разрешение» тут неполное, несообразность все-таки не устранена, ведь собаки телевизор не смотрят. Приходится перейти на метауровень и сделать заключение, относящееся уже не к семантике высказывания, а к его прагматике, т. е. к его контексту или автору: если бы это было сказано всерьез, то к этому следовало бы отнестись серьезно, но… Поняв замысел говорящего и согласившись быть одураченными, мы смеемся. Если не соглашаемся – не смеемся.
Итак, частичное «разрешение несообразности» не заставляет нас чувствовать себя менее одураченными, чем при отсутствии всякого «разрешения». И даже если несообразность минимальна и «разрешается» весьма удачно и полностью, так что анекдот отчасти напоминает загадку или детектив [14], по сути ничего не меняется. Вот предельно реалистичный анекдот, почему-то особенно полюбившийся современным исследователям юмора, начиная с В. Раскина. Мужчина звонит в дверь частной ларингологической клиники. Открывает жена доктора. «Доктор дома?» – хриплым шепотом спрашивает мужчина. «Нет, – таким же шепотом отвечает женщина, – заходи скорей!» На уровне анекдота все разрешается великолепно: если бы это был пациент, его шепот был бы симптомом болезни, но… Двусмысленность обнаружена, один скрипт (или фрейм) сменяется другим, логический механизм безупречен и обеспечивает «полное разрешение», но нисколько не приближает нас к смеху. С точки зрения семантики, перед нами то, что в ином контексте могло бы показаться маленькой занимательной новеллой.
Чтобы рассмеяться, необходимо, хотя и не достаточно, перейти на метауровень и сделать заключение, касающееся не описываемого, а самого рассказа: если бы он был серьезным, к нему следовало бы отнестись соответственно, но… Мы делаем этот вывод не потому, что «так не бывает» (как в нонсенсе). Вполне бывает – почему бы и нет, – но дело не в семантике, а в прагматике. Мы распознаем извечное намерение рассказчика анекдотов – навязать нам нечто низкопробное, не соответствующее нашим стандартам здравого смысла, приличия, вкуса и т. д. Впрочем, для того чтобы это понять, чувство юмора не требуется. И вот тут-то и наступает решительный момент. Нам нужно свернуть с пути истинного, преодолеть некоторое внутреннее сопротивление, иными словами, не воспринимать анекдот так, как мы восприняли бы его в серьезном состоянии («что за вздор!», «ничего получше рассказать не мог?» и т. д.), а поддаться соблазну и принять навязываемое. Иными словами, необходимо смотреть на рассказ с двух точек зрения: и с метауровня (т. е. с нашего собственного уровня), и с уровня самого рассказа, вернее, рассказчика.
Недавно разгорелся спор между лингвистами, изучающими юмор. Одна из сторон – представители когнитивной лингвистики (в узком смысле слова), взявшиеся в последние годы за изучение комических текстов. Их оппоненты – создатели «общей теории словесного юмора», наиболее активным из которых ныне является С. Аттардо. Первые полагают, что семантика юмора базируется не на особых логических механизмах, постулируемых «общей теорией», а на обычных фигурах речи (метафоре, метонимии, гиперболе и др.), тогда как в прагматическом отношении анекдоты родственны сплетням и оскорблениям (Brône et al. 2006; см. также: Coulson 2001; Veale et al. 2006; Kotthoff 2006; Ritchie 2006). Создатель же «общей теории» в ответ заявляет, что когнитивные лингвисты не внесли в изучение юмора ничего нового по сравнению с В. Раскиным и С. Аттардо (Attardo 2006).
Для нас этот спор не имеет ровным счетом никакого значения. Исходная посылка у обеих сторон одинакова: смысл юмора заключен в семантике комического текста. Стоя на этой позиции еще тверже, чем их предшественники и оппоненты (те по крайней мере различают «добросовестную» и «недобросовестную» коммуникацию) и начисто отрицая своеобразие юмора по сравнению с серьезным общением, когнитивные лингвисты не только не приблизили нас к пониманию его сути, но и увели от цели еще дальше. Они и сами признают, что их скрупулезный анализ анекдотов и острот в терминах «умственных пространств», «точек зрения», «смены фреймов» и «реинтерпретации» в равной мере применим к серьезным текстам и ничуть не помогает понять, почему же комические тексты нас смешат (Ritchie 2006). Похоже, этот вопрос их вовсе не интересует.
В сущности то же самое относится и к теории «разрешения несообразности» и к родственной ей «общей теории словесного юмора». Да, пока мы серьезны, мы стремимся избегать несообразностей и по мере возможности находить в них смысл. В юморе же все наоборот. Разрешение несообразности и обнаружение двусмысленности тут – не окончательный результат, не цель, а, напротив, средство сбить нас с толку и продемонстрировать нам несостоятельность нашего здравого смысла (а также нашего вкуса, да и всего нашего культурного багажа), а главное – бессилие языка. Понятно, что когнитивная лингвистика с ее хитроумным аппаратом оказывается тут не у дел.
Если все это признать, то различие между юмором с разрешением и юмором без разрешения (нонсенсом) исчезнет. И в том и в другом случае нам что-то кажется, причем на разных уровнях. На уровне семантики любовник кажется пациентом, собаки кажутся заинтересованными в телерекламе, лыжник кажется способным объезжать дерево с двух сторон одновременно. Мотивировка навязываемой нам иллюзии – «чудо» (как в нонсенсе), чужое остроумие (как в анекдотах с неполным разрешением) или же наша собственная мгновенная недогадливость (как в анекдотах с полным разрешением) – не играет роли. Могло ли описываемое или показываемое иметь место на самом деле или не могло – вопрос второстепенный, поскольку смысл комического текста, в отличие от смысла текста серьезного, состоит в том, что первый лишь кажется имеющим отношение к действительности и нам лишь кажется, что наш смех вызван тем, что нам рассказывают или показывают.
Подлинная же причина нашего смеха – не в рассказанном или показанном, т.е. не в кажущемся значении текста (которое интересует нас, например, в серьезных фантастических произведениях), но и не в «истинном» его значении (которое интересует нас, например, в загадках и детективах), а в том, что присущая семантике текста оппозиция кажущееся/истинное нейтрализуется на метауровне. Иными словами, в том, что значение просто-напросто исчезает. Иллюзией оказывается не только один из скриптов (в случае нонсенса никакой альтернативы нам и не предлагают), но – и это главное – серьезность и доброкачественность текста в целом. Смеясь, человек, в сущности, признает, что он в тысячный раз дал себя одурачить. Пока он думал (вернее, делал вид, что думает), будто решает задачу на сообразительность, ему не только подсунули фальшивку, но вдобавок его «насильно вовлекли в пошлые отношения к людям, вещам и событиям» или в лучшем случае вынудили мыслить о них превратно и примитивно. В итоге все съезжает: и информация, которую человек получил, оказывается лишенной какого-либо значения и ценности (Кант 1994/1790: 207; Apter 1982: 180; Wyer, Collins 1992), и сам он чувствует себя, по выражению Чуковского, «уменьшенным и гораздо худшим, чем он есть на самом деле», независимо от того, по соображениям ли здравого смысла для него неприемлема интерпретация, которую ему навязали, по моральным ли соображениям, эстетическим или каким-либо иным.
Однако вместо того, чтобы возмущаться, человек смеется – ведь именно этого он и хотел. Порой он хочет смеяться даже тогда, когда никто и не собирается его дурачить и смешить. Психологи, изучающие восприятие юмористических стимулов, обнаружили странный факт: испытуемые (взрослые, нормальные люди) в условиях эксперимента порой не способны отличить – или не хотят отличать – шутливые тексты от вполне серьезных, причем смеются и над теми, и над другими (Cunningham, Derks 2005).
Итак, «соль» анекдота и «соль» юмора – совершенно разные вещи. Причина неудач большинства теорий юмора состоит в том, что эти вещи путают. Именно в нашем собственном поведении, а не в объекте, как обычно думают, и заключено комическое противоречие. В самом деле, в повседневной жизни мы чураемся фальшивок и не позволяем себя дурачить. Художник-фантаст также не дурачит нас, а заставляет, благодаря силе воображения, полноценно волноваться или ужасаться. В обоих случаях мы серьезны и последовательны. В данном же случае, сознавая несерьезность, никчемность, пошлость, иными словами, низкопробность [15] рассказа, мы проявляем непоследовательность и принимаем то, что в обычном расположении духа должны были бы отвергнуть. Более того, принимаем, потому что должны были бы отвергнуть!
Сёрен Кьеркегор (Кьеркегор 2005/1846: 549) очень точно сформулировал, в чем именно состоит главная несообразность в комическом. «В обычной жизни мы смеемся, когда нечто делается смешным, отсмеявшись же, человек иногда говорит: „Недопустимо делать нечто подобное предметом смеха“. Однако если все это действительно было смешно, мы не можем удержаться от того, чтобы не передать историю дальше,– естественно, вымарывая попутно дополнительное утверждение, сопровождавшее собою смех: „Недопустимо делать нечто подобное предметом смеха“. И никто не замечает, насколько смешно здесь то, что настоящее-то противоречие (курсив мой.– А. К.) заключено в самой нашей притворной попытке поступать этически, вырезая некое подчиненное предложение, а не отказываясь от всего того, что ему предшествует» [16].
Такое противоречие не возникает при восприятии искусства высокой пробы, сколь бы далеким от реализма оно ни было. Такое искусство требует от нас «добровольного отказа от недоверия». С. Т. Кольридж, употребивший это выражение («willing suspension of disbelief», см. Coleridge 1847/1817: 442) имел в виду «поэтическую веру», а вовсе не восприятие анекдотов и карикатур. Произведения Эль Греко или Кафки для нас исполнены смысла, для их восприятия нам нужно не спуститься на более низкий уровень, а, напротив, дотянуться до уровня, гораздо более высокого, чем наш. Мы, рядовые зрители и читатели, слишком поглощены семантикой этих произведений, чтобы интересоваться их прагматикой. «Сверхреальность» властно втягивает нас в себя, не давая нам ни малейшей возможности отстраниться и посмотреть на нее с метауровня. Даже детектив нас втягивает!
Иное дело – сниженная реальность или, что в данном случае одно и то же, сниженная фантазия. Представим себе, что нам показывают бездарный фильм ужасов или что мы смотрим по телевизору сеанс психотерапевта, которого считаем шарлатаном. Не исключено, что в обоих случаях мы испытаем позыв к смеху в тот миг, когда поддадимся иллюзии, и тут же ощутим собственную глупость и доверчивость. Возможно, это будет отчасти «нервный» смех, но как отличить его от «юмористического»?
Анекдоты и карикатуры с «полным разрешением», будучи по внешней видимости ближе всего к обычным (серьезным) рассказам и рисункам, не менее, а более трудны для когнитивистов, чем абсурдистские, потому что на уровне текста несообразность тут бывает совсем незначительна (как в анекдоте о мнимом пациенте). «Бродячие сюжеты» подобных анекдотов могут находить близкие соответствия в «Декамероне», «Кентерберийских рассказах», шванках, фаблио, фацециях, русских бытовых сказках или «Тысяче и одной ночи», где истории о ловких любовниках, будучи занимательными, не были рассчитаны на то, чтобы смешить. То же самое относится к распространенным от Китая до Англии средневековым рассказам об «уместно-неуместных» ответах оборванца (а впоследствии шута) – правителю, превратившимся в анекдоты (Мелетинский 1986: 197; Otto 2001: 3–4, 113–115, 148–149 и др.). В конце этих рассказов, правда, властитель неизменно смеется, но нет никакой уверенности, что его подозрительно наивный смех вызывал такую же реакцию слушателей.
Изменились с тех пор не сюжеты, а вкусы: история, которая была уместной в форме сказки или новеллы, снизилась и стала неуместной, глупой, вульгарной, в форме современного городского анекдота. Это (а не какие-либо формальные особенности вроде пуанта) и есть главное, что отличает современный анекдот от новеллы и сказки. Рассказывание анекдотов неуместно всегда, как ни противоречит это нашему привычному представлению. То, что выглядит «уместной неуместностью» на семантическом уровне (на уровне самого анекдота), оказывается «неуместной уместностью» на прагматическом уровне, т. е. на метауровне. Именно это имел в виду Кьеркегор: даже если метатекст, содержащий негативную оценку рассказа (нечто вроде «Послушай, какую гадость мне недавно рассказали!» или «Хочешь глупый анекдот?») «вымарывается», он все равно подразумевается.
Как бы ни радовали нас такие тексты, негативно-оценочная рамка рассказа незримо присутствует всегда; без нее (вернее, без ее разрушения) анекдот кажется пресным и несмешным. Рассказывая анекдоты, мы «подражаем худшим людям», пародируем их поведение. Очень сомнительно, что главная наша цель состоит в том, чтобы их осудить. Скорее как раз наоборот – мы, по выражению Шлегеля, «получаем удовольствие от дурного», вполне сознавая, что дурное – это именно дурное. Можно без всякой натяжки утверждать, что любой анекдот пародиен. В частности, «логический механизм» – либо откровенная насмешка над здравым смыслом, как в детской остроте о собаках, которые смотрят телевизор, либо, в лучшем случае, поверхностная аналогия, не ведущая никуда, как в анекдоте, основанном на сходстве симптомов любовного возбуждения и простуды.
Итак, главный урок, который можно извлечь из многовековых безуспешных попыток вывести эссенциалистскую формулу смешного, основанную на кажущейся семантике юмористических текстов, состоит в том, что эти попытки обречены на неудачу. Вызвано это тем, что любой юмористический текст имеет двойное дно, так как помимо автора (и исполнителя, если речь идет об устном юморе) тут незримо присутствует еще одна фигура – «неупомянутый сказчик». Он-то и уничтожает семантику текста, ради него все и затевается.
§ 1.2. Разнонаправленное двуголосие. Пародия и автопародия
Действительно, выясняется, что эта формула в ее узком смысле безоговорочно применима лишь к комедии, тогда как ее узкое толкование по отношению к трагедии, да и вообще к серьезному искусству, противоречит очевидности [17]. Именно поэтому Эйхенбауму так важно было показать комический, а не реалистический и не психологический характер «Шинели». Странно, что исследователи, в том числе и сами формалисты, почти не обращали внимания на тот факт, что последовательно формалистическая эстетика – это, в сущности, и есть эстетика комического (см: Any 1985; Ханзен-Лёве 2001: 192–198; Сошкин 2012), хотя не только работа Эйхенбаума о «Шинели», но и разбор В. Б. Шкловским «Тристрама Шенди» вплотную к этому подводит (Шкловский 1929: 177–204). Впоследствии, в статье о фельетоне, Шкловский связал фигуру «неупомянутого сказчика» со своей теорией остранения. Неупомянутый сказчик, по Шкловскому, – это прием, который автор использует для остранения темы (Шкловский 1928: 69).
В статье о комическом Шкловский (Шкловский 1922: 66) пишет: «…кровь в анекдотах не кровава, берутся не вещи, а отношения вещей… Вещи в анекдотах не значат сами по себе ничего. Важно сопоставление вещей». Но это нельзя считать критерием комического, ведь то же самое он справедливо относил ко всей литературе (Шкловский 1929: 226). Гораздо важнее, что «трагическое отличается от комического не материалом, из которого построена композиция, а, главным образом, ключом, написанным перед произведением» (Шкловский 1922: 66). Это верно, но отношения тут асимметричны. Трагическое, лирическое и всякое иное искусство, кроме комического – это немаркированный (основной) член бинарной оппозиции. Оно не нуждается ни в каком ключе и говорит само за себя, ибо основано на обычных душевных эмоциях, пусть и эстетически изолированных [18]. Комическое же искусство – маркированный, «странный» член оппозиции, оно-то и нуждается в ключе, означающем необходимость не просто изолировать эти эмоции, а полностью их отключить, оставив всего одну – радость полного, хотя и временного, освобождения [19].
Б. М. Эйхенбаум увидел такой ключ в гоголевском сказе (см. выше). Близкие идеи развивал В. В. Виноградов (Виноградов 1980/1925: 51–53), предложивший свою теорию сказа. Он писал о языковой (стилистической) маске автора, которая может быть неподходящей для него и даже уродливой, как в случае гоголевского Рудого Панька. В этом случае маска воспринимается как игровой сигнал и комический прием. Теорию маски как литературного приема в те же годы разрабатывал и И. А. Груздев (Груздев 1922). А спустя 60 лет термин «авторская маска» употребил (без ссылки на Груздева и Виноградова) К. Мамгрен по отношению к американским постмодернистским текстам (Malmgren 1985: 160, 164) [20].
В книге 1929 г. о Достоевском М. М. Бахтин показал, что смешение чужой и чуждой речи с собственной речью говорящего часто встречается и в литературе, и в жизни. Это явление он назвал «разнонаправленным двуголосым словом» и отнес сюда все разновидности пародии (Бахтин 2000/1929: 94–96). Одновременно и под его непосредственным влиянием В. Н. Волошинов (Волошинов 1993/1929: 146) писал о «запрятанной чужой речи», которая может «настолько… окрасить в тона героя авторский контекст, что он сам начнет звучать как „чужая речь“». Рассказ при этом ведется исключительно в пределах узкого кругозора героя. Такая речь является не столько средством референции к объекту (герою), сколько частью объекта. Иными словами, субъект (автор), прямо об этом не говоря, уступает свою повествовательную функцию объекту с пародийной целью. Прямой смысл подобного рассказа играет второстепенную роль, о чем писал и Эйхенбаум. Иными словами, говорить о семантике тут можно лишь в совершенно особом смысле. Так, весь «Скверный анекдот» Достоевского целиком «может быть взят в кавычки, как рассказ „рассказчика“, хотя тематически и композиционно не отмеченного… В каждом пошлом эпитете рассказа автор через medium рассказчика иронизирует и издевается над своим героем» (там же: 352, 354). Позже, развивая те же взгляды, А. К. Жолковский (Жолковский 1994) предложил термин «графоманство как прием».
Согласно современной нарратологии, сказчик присутствует в любом литературном произведении независимо от того, упомянут он или нет. «Первое, с чем согласится почти каждый современный специалист в области повествования, – это то, что нарраторов нельзя путать с авторами» (Abbott 2001: 63). «Повествование никогда не сводится к чисто миметической репрезентации. Нарратора нельзя считать отсутствующим, даже когда он едва заметен» (Herman, Vervaeсk 2005: 19).
Как ни удивительно, достижения нарратологии реже всего применяются как раз в той области, где потребность в них особенно велика,– в теории юмора. Анализируя тексты Оскара Уайльда и Альфонса Алле, С. Аттардо признает, что в литературном юморе присутствует неупомянутый нарратор, который «говорит вещи, кажущиеся читателю несуразными. Поэтому приходится либо допустить, что автор не справляется со своей задачей, либо постулировать имплицитного промежуточного автора, которого автор высмеивает» (Attardo 2001a: 164) [21].
Однако анекдоты Аттардо анализирует с противоположных позиций (Attardo 1994: 277–283). Он спорит с «теорией цитации», сформулированной Д. Спербером и Д. Уилсон по отношению к иронии (Sperber, Wilson 1986: 200–201, 240–241). «Теория цитации» гласит, что иронизирующий человек нарушает коммуникативные постулаты Грайса (особенно постулат качества) лишь для того, чтобы высмеять кого-то, на чью точку зрения он временно становится в полемических целях.
Но если ирония родственна пародии, о чем задолго до Спербера и Уилсон писал Бахтин (Бахтин 2000/1929: 91), а до него – Л. Шпитцер (Spitzer 1922: 175–176), то почему та же логика почти никогда не применяется к юмору? [22] Хотя в юморе нет полемики, и «неупомянутый сказчик» – фигура вымышленная, разве лишь спор может придать нашей речи двуголосие? Например, повторяя пошлости, произносимые героями анекдотов, мы можем сослаться на то, что эти слова принадлежат не нам (Yamaguchi 1988). Аттардо называет такую трактовку «слабой версией теории цитации» и отвергает ее, указывая, что рассказчик несет ответственность за рассказ и потому не имеет права прятаться за его героев. Но ведь бывает и «скрытая цитация» (Аттардо называет ее «цитацией нулевого уровня»). Это именно то разнонаправленное двуголосие, о котором писали Бахтин, формалисты, да и сам Аттардо при анализе литературного юмора. Допущение «нулевого уровня» он называет «сильной версией теории цитации», гласящей, что коммуникативные постулаты нарушаются не на том уровне, на который помещает себя говорящий [23]. Анализируя анекдоты, Аттардо отвергает и эту версию, поскольку, как ему кажется, «в тексте нет никакого следа отстранения говорящего от его высказывания». По Аттардо, говорящий сам нарушает коммуникативные постулаты. Поступая так, он переключается в «модус недобросовестной коммуникации». Если слушающий следует его примеру, коммуникация оказывается успешной, несмотря на нарушение коммуникативных постулатов.
Ситуация, надо признать, парадоксальная. С одной стороны, нарратологи в один голос утверждают, что рассказчик (упомянутый или неупомянутый) присутствует в любом литературном произведении и что его нельзя путать с автором даже в «добросовестных» текстах от первого лица, например в автобиографиях (Abbott 2001: 63), с чем, как будто, согласен и Аттардо (Attardo 2001a: 81, 164–165, 179). С другой стороны, сам он полагает, что при рассказывании анекдотов автор и скрытый нарратор (не тот, кто реально пересказывает анекдот, а тот, на чью точку зрения становится автор) – одно и то же лицо, какие бы глупости и пошлости это лицо ни изрекало.
Разрешение парадокса состоит, видимо, в том, что литература, как все признают, живет по собственным законам, а не по тем, которые Грайс сформулировал для бытового общения. Анекдоты же (и это тоже признают все) – жанр третьесортный, что якобы и оправдывает применение к ним норм повседневного дискурса. Да, юмор несерьезен по определению. Но значит ли это, что его можно изучать лишь в аспекте коммуникативных постулатов? Разве несоответствие анекдотов канонам серьезной литературы исключает применение к ним теории двуголосия (или, по Аттардо, сильной версии теории цитации)? На мой взгляд, дело обстоит как раз наоборот, ведь анекдот – квинтэссенция «воспроизводящего комического сказа».
Различие между двумя подходами («недобросовестная коммуникация» и «разнонаправленное двуголосие») может показаться чисто терминологическим. Если человек притворяется низшим Другим – остается ли он самим собою? Вопрос, на первый взгляд, кажется праздным, ведь ответ зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слова «притворяться» и «оставаться самим собою». Дело, однако, не только в словах.
Комическое основано на притворстве, в этом не сомневается никто. Но о каком притворстве идет речь? Ведь и драматическое, и даже лирическое искусство – притворство, и вряд ли его можно назвать «добросовестной коммуникацией» в житейском смысле. Не всякое искусство отвечает высоким стандартам. Но художники, создающие серьезное искусство, по крайней мере стремятся к высоким стандартам, тогда как создатели комического искусства почему-то стремятся к низким. В этом и заключена главная тайна комизма. Согласно Аристотелю, сочинители комедий не только «изображают людей худших, чем ныне существующие», но и «подражают худшим людям» (Arist. Poet. II. 1448a. 16; V. 1449a. 32). Если допустить, что подражанием занимаются все причастные к комическому – не только актеры, но и авторы [24], – то получается, что «сильная версия теории цитации», прекрасно сформулированная С. Кьеркегором (см. параграф 1.1), восходит именно к Аристотелю. Но если юмор – разновидность того, что Бахтин назвал «разнонаправленным двуголосым словом», если он существует лишь в силу конфликта между автором и неупомянутым рассказчиком (т. е. ролью, которую играет автор и которая разительно отличается от его сущности), то уместен вопрос: что это за роль? Теория «недобросовестной коммуникации» не только не отвечает на этот вопрос, но и не ставит его.
Исследователи юмора обычно игнорируют разнонаправленное двуголосие комических текстов, их пародийность, конфликт между автором и его ролью. Одна из причин, видимо, в институционализации комического. Комедия – жанр, занимающий законное место рядом с трагедией. Анекдоты и карикатуры – тоже формы комического искусства. По правде говоря, не самые высшие формы; и тем не менее многие из них остроумны и художественны. Часто они кажутся реалистичными – иногда сатиричными, иногда безобидными, но совсем не пародийными. Мысль о том, что их создатели «подражали худшим людям» не только на уровне изображаемого, но и на уровне авторства, с трудом укладывается в сознании. Другая причина, в силу которой пародийность юмора игнорируется, состоит в том, что мы замечаем пародию, лишь когда она направлена на конкретный объект.
При ближайшем рассмотрении, однако, текст оказывается комическим лишь постольку, поскольку он двуголос и разнонаправлен, независимо от того, замечаем ли мы присутствие «неупомянутого сказчика» или нет и кем бы он ни был – самовлюбленным ничтожеством, как в «Скверном анекдоте», идиотом, как у Зощенко, циником, как у Жванецкого, психопатом, как в черном юморе, или пошляком, насильно вовлекающим нас, по словам К. И. Чуковского, в свойственные ему отношения к людям, вещам и событиям. Короче говоря, любой юмористический текст – одна сплошная цитата из неподходящего источника (о «скрытой цитатности» юмора см.: Curcó 1998; Kotthoff 2006).
Почему же десятки исследователей юмора во всем мире не замечают (или не хотят замечать) этого двойного дна, этой пародийности анекдотов, и исследуют их так, словно перед ними серьезные тексты? На чем основана наша уверенность в том, что пародировать можно только конкретные литературные произведения, причем только с целью их осудить? Но если признать, что, в сущности, любой комический текст неуместен и пародиен [25], то так называемая семантика юмора, неизменно понимаемая как отношение комического текста к внеязыковой действительности, предстанет в совершенно ином свете. Выясняется, что юмор, подобно пародии, направлен вовсе не на действительность, а исключительно на способ восприятия и осмысления этой действительности низшим Другим. Следовательно, адекватная теория юмора должна быть не семантической, а метасемантической. В такой теории повествовательная стратегия (жанр) и язык (стиль) – ресурсы знания, занимающие низшие места в «общей теории словесного юмора» С. Аттардо (Attardo 1994: 227; Attardo 2001a: 27–28), – окажутся самыми главными. Не в том дело, что анекдот имеет вид новеллы, загадки, диалога и т. д. и что в нем применяются те или иные стилистические приемы, а в том, что и жанр, и стиль сознательно или бессознательно используются ненадлежащим образом, т. е. пародируются. Главная повествовательная стратегия юмористических текстов состоит в использовании стратегий, принадлежащих имплицитным нарраторам (неупомянутым сказчикам) – «худшим людям». Это и есть то, что Волошинов и Бахтин называли «овеществленной прямой речью», где авторская речь звучит как «чужая речь», а повествование направлено не столько на внеязыковую действительность, сколько на чужой и чуждый автору способ отражения этой действительности.
Здесь и находит свое истинное место «теория превосходства» – не на уровне текста, где объект смеха сплошь и рядом не поддается установлению, а на метауровне, в зазоре между позициями автора и неизменно, но тайно присутствующего неупомянутого сказчика, который на лестнице психического развития (интеллектуального, морального, эстетического и т.д.) стоит ниже автора [26]. Вот чем отличается анекдот от сатиры, где если что-то и пародируется, то лишь реальный объект. Понять анекдот не значит понять его «соль», как пытается нам внушить неупомянутый сказчик. Понять анекдот – значит отстраниться от него, взглянуть на него с метауровня и получить от него такое же удовольствие, какое мы получаем от пародии. Современная психологическая теория гласит, что так называемые семантические механизмы юмора – всего лишь предлог для их разоблачения, подлинный же смысл юмора сводится к чистой бессмыслице (Ruch, Hehl 1998).
Кто же этот неупомянутый сказчик? В применении к собственно пародии вопрос кажется странным – кому же не ясно, что она всегда направлена на совершенно конкретную, легко узнаваемую мишень? Ведь даже Бахтин и Волошинов, огромным достижением которых была теория овеществленной прямой речи, рассматривали пародию как сатиру, направленную против одного из персонажей. Но должна ли пародия непременно иметь конкретный объект?
Ю. Н. Тынянов в очень глубоких работах о пародии показал, что суть литературного передразнивания (подробнее о речевом передразнивании см. в главе 3) – не столько в высмеивании кого-то конкретного (хотя сознательная цель пародиста может быть именно такой), сколько в «обнажении условности системы и выходе за ее пределы», «диалектической игре приемом», «изъятии произведения из системы и разъятии его как системы» (Тынянов 1977: 160, 214, 226, 292, 302).
Хотя выводы Тынянова основаны на материале русской литературы XIXв., они весьма созвучны идеям О. М. Фрейденберг (Фрейденберг 1973/1926; Фрейденберг 1998/1951–1954: 345–346), которая доказывала, что античная и средневековая пародия была не чем иным, как необходимой диалектической изнанкой всего самого сакрального [27]. Глубинная, исконная сущность «подражания худшим людям» заключается отнюдь не в высмеивании отдельных лиц и явлений действительности. В чем же тогда? Что если главные (хотя и неосознаваемые) объекты пародии, да и юмора в целом – язык как таковой и наше собственное мировосприятие как таковое?
«Выход за пределы системы», переход на метауровень, обнаружение неуместности и неприемлемости навязываемого нам текста и радостная готовность с нею смириться (как это и бывает при восприятии пародии) – вот что отличает восприятие анекдотов и карикатур от решения задач, требующих умственных усилий (Ruch, Hehl 1998; Ruch 2001; Hempelmann, Ruch 2005). В самом деле, человек, пытавшийся отгадать загадку, «прочесть» ребус или догадаться, кто из героев детектива – убийца, едва ли будет удовлетворен, узнав, что загадка не имеет отгадки, ребус представляет собой случайный набор рисунков, убийца так и не обнаружен, да и вообще все было не всерьез. Эффект же комического текста вовсе не должен зависеть от того, имеется ли в нем «разрешение» или нет, – именно потому, что текст несерьезен. Для многих юмор нонсенса ничуть не хуже иных разновидностей юмора. К какой бы категории ни относился юмор, когнитивные процессы, происходящие на уровне его семантики, служат лишь средством распрощаться с семантикой и перейти на метауровень, а после обнаружения обмана – согласиться остаться в дураках.
Снижение и несерьезность несовместимы со сколько-нибудь существенными когнитивными затратами. Хитроумные анекдоты мало кому нравятся. По крайней мере, взрослые, которые, в отличие от детей, хорошо знают цену подобным задачкам, воспринимают анекдоты по принципу: чем доступней, тем смешнее (Cunningham, Derks 2005). О втором, якобы «тайном» скрипте анекдота они порой догадываются еще до пуанта (Vaid et al. 2003). Доверчиво изучать всю эту низкопробную продукцию, что с таким усердием делают создатели формализованных когнитивно-семантических теорий юмора, веря в то, что «оппозиции скриптов» и «логические механизмы» относятся к сути изучаемого явления, – занятие не особенно продуктивное, на что уже не раз указывали авторитетные теоретики юмора (Davies 2004; Morreall 2004), в том числе один из крупнейших современных лингвистов У. Чейф (Chafe 2007: 151).
Древнейшим источником современных анекдотов, как с разрешением, так и без него, судя по всему, были мифы о трикстере – предельно противоречивом создании, хитреце-волшебнике (эта ипостась трикстера дала начало не только сказочным хитрецам, но и реальным оборванцам, а в дальнейшем – шутам, обезоруживающим правителей остроумно-дерзкими ответами) [28], и одновременно дураке, даже безумце, универсальном нарушителе всех мыслимых законов, природных и человеческих (из этой ипостаси выросли все фольклорные дураки; об отголосках трикстериады в близких к современности текстах см.: Davies 1990: 132–134, 147; Курганов 2001: 25, 33, 55, 69, 76, 129–130, 189, 192, 206; Утехин 2001: 228; Левинтон 2001: 232; Козинцев 2002б). Ю. И. Юдин (Юдин 2024: 262–263) предложил для обозначения поздней (сказочной) разновидности этого противоречивого персонажа термин «дуракошут».
Сбивающая теоретиков с толку «уместная неуместность» (или «сообразная несообразность») современных анекдотов и карикатур коренится именно в древней трикстериаде. Доживи трикстер до современности, ему бы ничего не стоило воплотиться и в мнимого пациента ларинголога, и в самого доктора-рогоносца. Он вполне мог бы и объехать дерево на лыжах с двух сторон сразу, и поверить в то, что собаки смотрят телевизор. Воспринимая комический текст, мы одновременно и переселяемся в мир трикстера («дуракошута»), и смотрим на этот мир с метауровня.
Психологи называют мыслительные процессы, связанные с пониманием анекдота или карикатуры, «когнитивным компонентом юмора», тогда как непонятное чувство, которое мы испытываем, когда смеемся (наслаждение с сильной примесью чего-то еще), именуется «аффективным компонентом юмора». Когнитивный компонент вполне понятен, связан исключительно с семантикой текстов и не вызывает почти никаких споров. Аффективный же компонент может быть связан как с семантикой (вернее, псевдосемантикой), так и с прагматикой юмора. Он представляет собой полнейшую загадку.
В самом деле, мы чувствуем, что находим удовольствие в чем-то отчасти незаконном, быть может, даже постыдном. Мы пытаемся (или делаем вид, что пытаемся) отстраниться от такого занятия, выразить к нему негативное отношение. Рассказывая сомнительный анекдот, мы порой избегаем смотреть собеседнику в глаза или даже закрываем свой смеющийся рот рукой (Kuipers 2000 [29]











