Читать онлайн Контуры философии социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация
- Автор: Ашимов И.А.
- Жанр: Информационная безопасность
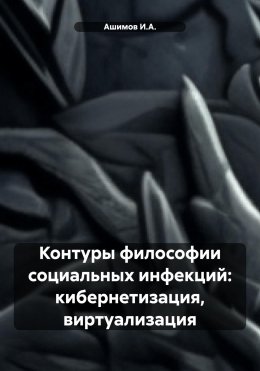
Обоснование необходимости издания
трилогии «Философия социальных инфекций»
Как известно, история всегда демонстрировало постоянное продвижение развития человечества в сторону улучшения. Сменяя друг друга, цивилизации оставляли свое неповторимые наследия во всех сферах деятельности, которые становились фундаментом для дальнейшего развития человечества. Сможет ли нынешний социум, в сравнении с прошлыми выступить гарантом прогрессивного развития цивилизации? Дело в том, что великое множеством социальных болезней, которыми человечество сейчас болеет, оставляет ему немного шансов для такого прогрессивного развития. Социальные болезни – это объективные, наблюдаемые и распознаваемые по внешним признакам социально доминированные явления, отражающие дисфункциональное состояние общественных элементов или всего общества в целом. В свое время К.Ясперс писал: «Нельзя постичь природу общества и сопутствующих ему недугов без рассмотрения их сквозь призму существующей в то время исторической изменчивости и обусловленности». Нужно отметить, что одним из авторов специальных исследований по установлению сходства и различия между биологическими и социальными болезнями является И.В.Рывкин (2011). Он утверждает, что социальные болезни – это не только болезни тела (туберкулез, сифилис, гонорея, алкоголизм, наркомания и пр.), но и дефекты общественных отношений (аморализм, авторитаризм, коррупция, криминализм, национализм, геноцид и пр.). «Социальные болезни российского общества – это результат дефектов управления страной», – категорично заявляет он, полагая, что социальные болезни общества и его социальные проблемы – это одно и то же. Такие явления как деполитизация, дегражданизация, ослабление нравственности, рост гражданских правонарушений, ксенофобии, национальной нетерпимости, отчуждения населения от актуальных проблем страны – вот те социальные болезни, составляющие «социальный рельеф» российского общества переходного периода», – пишет автор.
Какова же современная специфика и структура? Структура социальных болезней выглядит несколько иной, но, однозначно, по степени охвата населения более масштабны и глубоки, начиная от психологических и социально-экономических (ослабление роли семьи, школы, государства; алкоголизма и наркомании; равнодушия общества к ситуации в стране; нарастания преступности и правонарушений и пр.) до сугубо политических (неэффективность управления страной; некомпетентность власти; доминирование групповых интересов; кризис лидерства; дефицит мыслящих политиков и пр.). Автор считает, что общество должно осознать опасности и последствия социальных болезней, что нужно осмыслить суть этих болезней – диагнозы, локализации, причины, масштабы распространения, пути оздоровления, то есть аналогично практики медицинской инфекции. Произошли кардинальные изменения в мировой структуре социальных болезней, обусловленные эпохой гипертехнократического развития человечества: глобализация, экстропия, техногнозис, постмодернизм, тотальное переформатирование мира. Появились характерные для них глобальные социальные болезни, которых отличает заразительность: цифровизация, автоматизация, алгоритмизация, кибернетизация, информатизация, биочипизация, виртуализация, роботизация, киборгизация, аватаризация, эвтанизация, деперсонализация, дереализация и пр. Под влиянием этих недугов, проявляемых также как и биологические инфекции, в виде вспышки, эндемии, эпидемии, пандемии, социальные структуры и человеческое общество во всем мире подверглись переплавке и мутируют практически на каждом шагу. В этой связи, полагаем, что классификация И.В.Рывкина (2011), наряду с психологическими, политическими, экономическими социальными болезнями, должна быть дополнена технократическими социальными инфекциями: цифровизация, автоматизация, алгоритмизация, кибернетизация, информатизация, биочипизация, виртуализация, роботизация, киборгизация, аватаризация, эвтанизация, деперсонализация, дереализация. Причем, каждую из них можно трактовать как социальные инфекции с потенциалами либо эндемии, либо эпидемии, либо пандемии. Нужно понимание того, что социальная инфекция в социокультурном аспекте – это, прежде всего, моральное потрясение, социальная драма и трагедия, зло и несправедливость. Вот почему необходимо философское осмысление их как в ракурсе социальных инфекций (эндемия, эпидемия, пандемия), так и в ракурсе социального исключения человека и духовной реинтеграции человеческого сообщества.
Приступая к серии изданий под названием «Философия социальных инфекций», в предметное поле философии мы внесли вышеуказанные болезни в порядке уже опасных социальных инфекций, в силу не столько того, что они, несомненно, обладают потенциалом быстрого распространения по всему миру, но и в силу серьезных последствий в виде переформатирования сознания человека, трансформация его сути. На сегодняшний день завершена трилогия: «Философия социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация» (I том); «Философия социальных инфекций: эвтанизация, биочипизация» (II том); «Философия социальных инфекций: «роботизация, деперсонализация» (III том), которую выносим на суд читателей. Подчеркиваем, что в этих трудах рассмотрены шесть социальных инфекций технократического и социально-психологического характера: во-первых, кибернетизация и виртуализация; во-вторых, эвтанизация и биочипизация; в-третьих, роботизация и деперсонализация. Что значит технократическая парадигма? Это одна из трех парадигм компьютерной науки, утверждающая зависимость общества от способности технологий решать все проблемы. Также подчеркиваем, что, мы, будучи учеными и специалистами в области медицины (хирургия) и здравоохранения, а уже потом специалистами в сфере гуманитарных наук (философия, социология, психология), нам было интересно провести некоторую параллель между медицинскими и социальными болезнями при изложении специфики вышеуказанных социальных инфекций. В этом аспекте, вышеуказанные социальные инфекции с эндемическим, эпидемическим или пандемическим потенциалами являются, по сути, продуктом этой тенденции, а потому мы акцентировали свое исследовательское внимание именно на них, будучи уверенными в том, что в будущем каждой социальной инфекции вышеприведенного характера логически правильно будет придать уникальную конфигурацию социальных характеристик. Лишь после того, как они названы и приняты, эти заболевания становятся акторами сложной системы общественных, научно-исследовательских, культурологических взаимодействий. Восприятие вышеприведенных социальных болезней в форме инфекции не только определяется контекстом, но и определяет его, а потому только после установления философского смысла этих инфекций можно говорить о вероятной регуляции их институциональными программами, социально-психологическими, политико-экономическими мерами.
Сама по себе идея о научном исследовании тех или иных современных социальных инфекций, проведение анализа их по лекалам медицинских инфекций, усилилась после ковидной пандемии, когда почти каждый разумный человек на планеты, возможно, на себя и на своем опыте ощутил, что значит пандемия опасной инфекции, что значит инфекционный и пандемический процессы. На таком фоне писать и говорить о социальных инфекциях по аналогии со вспышками медико-биологических инфекций либо в виде эндемии, эпидемии или пандемии стало проще, ибо, люди уже в той или иной степени все же понимают суть заразной патологии. Речь идет о следующих понятиях: во-первых, понятия «возбудитель – переносчик», «источники – механизмы – пути заражения» (этиология, патогенез); во-вторых, понятия «контагиозность – вирулентность» (морфогенез); в-третьих, «вспышка – ремиссия – реконваленсция – реинфекция»); в-четвертых, «мониторинг распространения – изоляция – карантинизация – вакцинация». По сути, некоторые из вышеперечисленных социальных инфекций, в частности кибернетизация и виртуализация, по вышеприведенным признакам – это тот же «ковид», но в новой, так называемой технократической фармации, а социальные инфекции в виде эвтанизации и биочипизации – это пока эндемические инфекции, имеющие социально-психологический характер. Что касается социальных инфекций в виде роботизации и депресонализации, то они имеют, соответственно, технократический и социальный характеры, но уже с потенциалом эпидемического распространения.
Итак, люди на нашей планете сейчас не только знают и понимают, что значит на самом деле биологический инфекционный и эпидемический процессы, в чем заключается причины и механизмы заражения, а также особенности вспышки, но и осознали, что в случаях невозможности отграничить ареалы заразы возникает вероятность манифестации социальной инфекции в виде эндемии, эпидемии или даже пандемии, а также осознают возможности тех или иных превентивных мер. Однако, большинство людей совершенно не осведомлены о специфике социальных инфекций, возможно, задаваясь как можно трактовать цифровизацию (искусственный интеллект, генеративная нейросеть), автоматизацию, алгоритмизацию, кибернетизацию, информатизацию, биочипизацию, виртуализацию, роботизацию, киборгизацию, аватаризацию, эвтанизацию, деперсонализацию, дереализацию как разновидностей социальной инфекции. В этой связи, мы надеемся на то, что наше объяснение всей цепочки развития и проявления тех или иных социальных инфекций, преимущественно технократического характера, а также их последствий, по аналогии их представлений о биологическом инфекционном и эпидемическом процессах на примере недавней ковидной пандемии, для людей будет более понятным, доступным.
Нужно понимать, что такие социальные инфекции современности, как тотальная цифровизация, кибернетизация, виртуализация, аватаризация, биочипизация, роботизация, имеющие явный потенциал перерастании в социальную эпидемию и пандемию, а также такие социальные инфекции, как эвтанизация, деперсонализация, имеющие потенциал перерастания в социальную эндемию требуют философского осмысления, так как они обладают особой сущностью, во-первых, ведут к дереализации мира и деперсонализации человека; во-вторых, к глобальной и негативной перезагрузке стратегий и трендов развития всех сфер деятельности человека; в-третьих, к негативной трансформации самой сути человека и человеческой цивилизации. Между тем, масштабы их распространения в виде эндемии, эпидемии и пандемии подчеркивают необходимость объективного раскрытия их сущности, осмысления механизмов их «заражения» и распространения и, на этой основе выработать общую стратегию адаптации человека и общества к таким социальным инфекциям, а также выстроить более надежную борьбу за человека и человечества в целом. Кто знает, может быть самым целесообразным приемом, возможно, станет всемерное способствование человека встроится в сеть разума и виртуального света. Ведь привычного для банальной инфекции выработка естественного иммунитета, в том числе путем применения методов вакцинации для социальных болезней неочевидна. Кто знает, насколько в такой ситуации сыграет роль достаточный уровень научно-мировоззренческой культуры не только каждого индивида, но и всего человеческого сообщества, как своеобразная вакцина для выработки должного иммунитета против социальных инфекций. Однозначно то, что в настоящее время социальные инфекции в форме эндемии, эпидемии и пандемии, представляют собой фундаментальную сущностную проблему, разрешение которых кроется в предметном поле философии.
Введение
Нужно отметить, что в условиях глобализма, технократии и экстропии создались благоприятные условия для генерализации некоторых видов социальных инфекций до масштабов пандемии, то есть до вышей степени развития эпидемического процесса – глобального распространения. Своеобразными «возбудителями» таких инфекций являются не только соответствующие взгляды, мнения, идеи, эмоции, поведения, но и социальные феномены, обладающие свойствами «повторяемости, массовости, типичности, общественной значимости». Речь идет о явлениях, обусловленных на сегодня не только технократическим развитием человеческого сообщества – тотальная цифровизация, кибернетизация, аватаризация, виртуализация, применение искусственного интеллекта, нейросети и пр., но и современной стратегией и тенденцией развитие мировой экономики в направлении оказания населению планеты сущностных услуг в режиме «суперсервиса». Важно осознать, что указанные категории социальных инфекций при соответствующих условиях имеют явный потенциал перерастания в социальную пандемию. Кибернетизация – это объединение технологий и органики, создание гибрида биологического существа и машины. Иначе говоря машинизация человека, что невозможно без цифровизации, искусственного интеллекта, нейросети, информатизации, алгоритмизации, автоматизации. Виртуализация – это технология вычислительных ресурсов или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе. Эти термины нами использована в собирательном смысле. На наш взгляд, указанные феномены, условно обобщенные терминами «кибернетизация» и «виртуализация» в сумме, возможно рассматривать как двуединую социальную пандемию, которые в единстве своем заражении, развитии и проявлении могут привести к тотальной дереализации мира, то есть не только к глобальной и негативной перезагрузке стратегий и трендов развития всех сфер деятельности человека, но и к негативной трансформации самой сути человека и человеческой цивилизации.
Между тем, до сих пор не очерчены контуры философии подобных категорий социальных инфекций, обладающих потенциалом пандемий. А ведь любую эпидемию либо пандемию, будь то биологической, будь то социальной природы, следует воспринимать как глубокую трагедию всего человечества. Причем, не столь важно то, что они обостряют социальные противоречия, неравенства, несправедливость, сколько вызывают кардинальное расстройство социальной экосистемы, а также ведут к тотальному переформатированию сути человека и человеческого сообщества. В этом аспекте, тотальная цифровизация, кибернетизация, виртуализация, аватаризация, как не крути, являются социальным злом, если учесть серьезные социальные их последствия. Что касается явления «аватаризация», то он является ничем иным как маркером трансформации человека под влиянием кибернетизации и виртуализации. Это электронный абстрактный персонаж интернет-сети, нейросети или иначе желаемая модель самого себя.
Монография «Философия социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация» посвящена философским аспектам, именно таких социальных пандемий на сегодняшний день, как «кибернетизация» (цифровизация, информатизация, искусственный интеллект, нейросеть), «виртуализация» (аватаризация, виртуальный мир). Нужно отметить, что в самом понятии «социальная пандемия» представлены все звенья заразного процесса: «зараза (возбудитель) – заразительность (прилипчивость, вирулентность) – объединители (резерванты, источник, первичный очаг) – обстоятельства (факторы заражения и распространения, восприимчивость)». Если заразой является идея тотального цифрового мира, то прилипчивость подразумевает специфику вездесущей нейросети, реализующую общемировую цифровую зависимость населения. Если объединители – это многомиллионный мировой корпус «цифровой мафии» (сетевики, блогеры, крэкеры, хаккеры, виртуалисты, программисты и пр.), то обстоятельства – это уже общепризнанная человечеством приемлемая унификация процессов развития и реализации потребительского запроса людей во всех сферах деятельности на основе тотальной цифровизации. Иначе говоря, первичная задача глобальной кибернетизации, виртуализации, аватаризации, каковым является «моделирование желаемой ситуации» уже интенсивно и повсеместно реализуется. На сегодня в мире сложилась ситуация зависимости, когда люди и общество уже не могут избавится от такой вирулентной социальной инфекции, не могут отвернуться от таких обстоятельств агрессивно-назойливого ее распространения. Так создаются благоприятные условие для развития пандемии кибернетизации и виртуализации.
Нужно признать тот факт, что в эпоху сверхтехнологий в мире происходит глобальная трансформация социума, обусловленная именно тотальной цифровизацией, кибернетизацией, биотехнологизацией всех сфер человеческой деятельности. В этом ракурсе, сетевая, кибернетическая сущность функционирования современного социума является одним из наиболее важных и актуальных исследовательских проблем, направленных не только для выяснения природы развития и распространения социальных инфекций, но и для соответствующей философской рефлексии по выявлению смысла и тенденций развития этих систем, а также обеспечения мировой безопасности на этой основе. В мире идет глобализированный процесс компьютеризации, кибернетизации, киборгизации как попытка, во-первых, оцифровизировать сознание людей, а. во-вторых, приспособить все человеческое сообщество к цифровой формально-логической среде. Как известно, механизмом обеспечения цифровой зависимости людей является свойство мозга вырабатывать дофамин. В этом аспекте, стратегией социальных инфекций является создание «дофаминовых ям» для усиления зависимости людей от социальных информационных сетей – фейсбук, инстаграм, твиттер, телеграмм, одноклассники и пр. Ярким примером служит тот факт, что нынешнее поколение школьников, студентов, сотрудников уже не могут обходится без Интернета, вбирая огромные массивы информации, но не осмысливая и не задумываясь, тем самым постепенно отвыкая от самостоятельного мышления. В этих обстоятельствах трудно сформировать личность из человека, у которого нет и не было системно выстроенных знаний, а есть лишь цифровая зависимость. Между тем, разнообразные электронные гаджеты, лайки, дизлайки, рекламы, цифровые платформы и социальные сети – все это хитросплетения нейросети, управляемые специальными компьютерными программами, разработанными множеством взаимосвязанных между собой корпорациями нейробиологов, нейрохимиков, нейроинженеров, нейродизайнеров. Ими же управляется виртуальная реальность, которую традиционно оценивают как дополненную и расширенную цифровизацию, вызывающую системные изменения во всех сферах существования человека. Именно она влияет на организацию времени и пространства, предлагая альтернативную версию реальности, погружая человека в иные, ирреальные отношения. В условиях цифровой эры, виртуализация трансформируется как смыслосфера, что свидетельствует о том, что тотальность повседневной жизни уже преодолена. Вот-так человек попадает в паутину ирреального мира с его новой парадигмой (Т.Г.Лешкеевич, О.В.Катаева, 2020). А что это значит? Прежде всего, это отчуждение человека от реальности, поверхностное мышление, примитивные пласты мировосприятия на уровне смайликов, гифок, картинок. Человек становится «просмотрщиком интернет-контента», «скитальцем сети», «сетьменом», но не всесторонней личностью.
Нужно отметить, что человек одновременно является источником и мишенью социальной инфекции. Потому, многое значит системно выстроенные знания в самом человеке, являющейся своеобразным фильтром от негативных заразительных мод и поветрий современности. В настоящее время во всем мире распространяется идея цифрового управления обществом на базе цифровой трансформации различных законных и незаконных услуг в проактивных режимах как «моносервиса», так и «суперсервиса» во имя, казалось бы, интересов человека и общества. Мы привыкли считать, что личность – это субъект познающий, думающий, принимающий решения, изменяющий мир к лучшему. Между тем, под сетевым воздействием человек превращается в пассивную цифровую личность, где действует постоянное принуждение мозга к выработке того самого дофамина настойчивым и назойливым призывом «надо повторить!». А что повторять? Повторять, впитывать те или иные заразительные идеи, взгляды, суждения, концепции. Вот-так постепенно человек превращается в некую цифровую личную тень, в аватара, который станет важнее, чем сам человек. Аватары живут в структуре киберпространства своей жизнью, но не могут жить в структуре самого социума, так как они не одушевлены, находясь в виртуальном мире. Между тем, так называемый киберсоциум нуждается в личностях, прошедших определенную киберсоциализацию, и генерирующих при этом активный трафик. Так цифровые тени становятся объектом Интернета, а через развитую в странах сети 5G они распространяются по всему свету. Их следует воспринимать как путей заражения и как факторы, обеспечивающих вирулентность этих видов социальной инфекции. С помощью такой технологии людей готовят к киборгизации, начиная с биочипирования и далее по мере развития нанотехнологий и нейросетей, вплоть до создания новых киберсуществ. Киборгизация носит сетевой динамический характер и способна превращать локальное в глобальное, единичное – во всеобщее одним кликом. В конечном итоге, такой процесс приведет к развитию антагонизма между человеком и его цифровой тенью. Изучение и разрешение противоречий между личностью живой и личностью цифровой должно лежать в основе методик киберадаптации и киберсоциализации. Нужно отметить, что аватар сформируется и адаптируется в цифровом обществе лишь при достижении полной синхронизации не только со своей цифровой тенью, но и цифровизацией всего общества. Вот-так рождается аватар, так формируется общество нового типа. А ведь интерфейс «человеческий интеллект – искусственный интеллект» уже создается. Таким образом, план киберсоциализации заключается в полном «растворении» человека в Сети, когда в условиях применением нейросетей, нанотехнологий и киборгизации рождается новое сетевое и виртуальное существо – «Сетьмен». Уже сейчас доступны первые модели систем дополненной реальности, ещё больше стирающие грань между реальным и виртуальным миром. Синергетический эффект от интерфейса человеческого интеллекта плюс искусственного интеллекта, безусловно, приведёт не только к качественному рывку в жизни общества, но и трансформации человека и общества.
На наш взгляд, необходимость осуществления научной рефлексии в любых областях знания опирается теперь на использование обновлённой методологии, опирающейся на такой мощнейший инструмент, как IT-технологический интерфейс человеческого мозга и искусственного интеллекта. Такая сингулярная технология уже вышла из недр научной фантастики, ко-эволюция и взаимоадаптация человеческого и искусственного, хотя имеют разные параметры и критерии, но уже близка к обоюдной сингулярности. Понятно, что природа человеческого – это непрерывность, континуальность осуществления во времени, а природа искусственного интеллекта (нейросети) – прерывность, дискретность, алгоритмичность, математичность функционирования, понятно и то, что совмещение их представляет собой сложный процесс. Однако, важен другой вопрос: однозначным результатом такой сингулярности будет окончательная потеря, прежде всего, аксиологичности человеческой цивилизации. Человек становится элементом кибернетической системы, и его идентичность (киберидентичность) наполняется смыслами, непосредственно связанными с тем, что мы называем «бытием-в-сети». Иначе говоря, речь идет не только об этиопатогенезе социальной зависимости, не только о неоднозначном проявлении, но и о неоднозначности последствий такого процесса. Естественно, методы изоляции, самоизоляции, карантинизации – важные при биологической инфекции, также необходимы при социальных инфекциях, но они при них малореализуемы или даже вовсе нереализуемы на практике. В этом аспекте, все факторы, способствующие «оздоровлению» населения от социальных недугов – это, прежде всего, тотальное просвещение населения. В условиях цифровизации, кибернетизации, биотехнологизации, несомненно, идет процесс активного «протезирования» способностей человеческого интеллекта с помощью искусственного интеллекта. С одно стороны, это хорошо. Однако, с другой стороны, накопление знаний как таковое не способно заменить собой собственно систему образования. В этой связи, как нам кажется, в структуре киберсоциализации обязательно должна присутствовать методология научного познания, системность формирования в сознании личности когнитивных моделей, а в конечном итоге формирования научно-мировоззренческой культуры высокого уровня. Таким образом, на наш взгляд, мера цифрового взаимодействия является именно тем фактором, который должен повлиять на эффективность киберсоциализации личности, сделать её гармоничной и естественной, сохраняя при этом индивидуальность человека, его возможность оставаться человеком во всех своих многообразных проявлениях.
В мире много мифов об искусственном интеллекте, но можно выделить их в две категории в зависимости от сценариев развития: во-первых, искусственный интеллект станет своеобразной надстройкой над человеческим мозгом; во-вторых, искусственный интеллект будет развиваться сам, и возможно, захватит мир. Трудно сказать, какой сценарий разовьется в будущем. Мы существуем в определенном пространстве на острие летящего времени. Соскочить из нее – это невозможно и баста! Ведь никто, никогда и не при каких обстоятельствах не сможет изменит ход времени. Отмерив нашу жизнь оно улетает в будущее. Лишь мыслью можно управлять временем, ускоряя его или замедляя, а также, что интересно, пуская его даже вспять. Нужно отметить, что идейной основой книги «Философия социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация» являются научно-фантастические романы И.А.Ашимова: «Аватар» (2024); «Жизнь тысячу лет в прошлом» (2024). Хотелось бы подчеркнуть, что они одновременно служат формой аргументации идеи, в качестве литературного нарратива для последующего установления самого «философского факта» и его «анализ-синтеза». В этом аспекте, как авторы выступаем одновременно в двух ипостасях – как ученые и как писатели. В ипостаси ученых выносим на суд свое понимание философских аспектов социальных пандемий – кибернетизация, виртуализация. При этом вполне допускам, что читатель после прочтения скажет о том, что книга написана «двумя голосами» (писатель плюс философ) и между ними общение получилось слабым или даже неадекватным. В этой связи, призываем читателей обсуждать в основном саму идею и проблемное содержание жанра, а не допущенные огрехи словесных формул.
Самый предвзятый читатель убедится в том, что нами все же использован в той или иной мере адекватный риторический прием: обобщить сказанное авторами, сопроводить их цитаты, как ссылкой, так и своим авторским текстом, представляющим уже собственную позицию и точку зрения, а также привести определенные доводы в их пользу. В процессе написания книги не раз и не два задумывались, что выражение плохо продуманных субъективных мыслей – не самая страшная ошибка. Ошибка, когда из формулы «я говорю / они говорят» выпадает именно вторая часть. Это к тому, что мы не стали приводить обширный список использованных литературных источников и мало ссылаемся на авторов, за что приносим свои извинения в их адрес. Возможно, наш текст читается и понимается нелегко, ведь книга отличается от других тем, что в ней нет бытовой приземленности, а посвящены она непростой идее – осмыслить известные социальные явления и тенденции как своего рода социальных эпидемий или пандемии, аналогично медицинским инфекциям таких же форматов заразности и распространения. Признаться, нам это было проще, потому, что мы является, прежде всего, медиками, а потом уже философами, социологами и психологами. А с другой стороны, мы полагаемся на то, что большинство людей, испытавшие сложности ковидной пандемии и постпандемии хорошо осведомлены о специфике эпидемического и пандемического процесса. Весь текст – это попытка прислушаться и понять позицию тех, кто мыслить так или иначе. Такой подход, как нам кажется, помогает читателям понять не только то, что побудило нас поднять эту тему, но и то, что мы вносим на рассмотрение широкого круга читателей и специалистов соответствующего профиля.
Несколько слов о подтексте научно-фантастического романа «Аватар» (2023). Интернациональная научная компания создает на базе интерфейса искусственного интеллекта плюс «мозга в контейнере» виртуальную реальность и виртуализированную личность в ней. Данная технология своеобразной виртуально-цифровой аватаризации позволяет, во-первых, не только создать виртуализированную личность («объект») и виртуальную среду в котором он находится, а, во-вторых, не только «прочитать» у него генную память, упрятанную в подсознании, но и предоставить «объекту» смоделировать виртуальную реальность, в котором осуществится повтор его жизни даже тысячу лет в прошлом. Пока это фантастика, которой все подвластно, в том числе создавать автору новые и новые пространства, по своему усмотрению автору вертеть временем, пуская его вперед-назад. Мы этим и воспользовались, на то и научная фантастика. Понимаем, что такая технология, которая нами было задумано, маловероятна. Однако, как нам кажется, интересен путь к такой технологии, борьба идей и технологий. Ученые различных отраслей, их многочисленные диалоги, почти протокольные обсуждения на собраниях и научных форумах – это не столько фабульные элементы романа, сколько своеобразная технология «продвижения» в умах и сердцах проблем искусственного интеллекта, кибернетизации, виртуализации, виртуальной реальности, наконец, создания «нового сознания».
Хотелось бы пояснить, что использование художественного стиля при разъяснении сложных тем, заметно облегчает читателю понять сущность затрагиваемых проблем. Вот почему, в текстах, касающихся философских аспектов кибернетизации и виртуализации мы приводим отдельные вытяжки из наших романов. В фабуле романа «Аватар», в целях унификации понимания «константную реальность» обозначим условно – «СR», «виртуальную реальность – «VR», а так как виртуальная реальность имеет два статуса: «настоящее время» и «прошлое время», то их условно обозначим – «VR-present time» и «VR-post time». При этом «СR» – это то, что реально происходит, тогда как «VR-present time» – это воспоминания о себе и настоящем, а «VR-post time» – повтор его жизни тысячу лет в прошлом. В сюжете романа – погибший ученый появляется в книге уже как «мозг в контейнере», соединенного с искусственным интеллектом. После своего фантастического воскрешения он «проживает» жизнь дервиша в прошлом, измеряемом в тысячу лет. Ученые с помощью сверхновой технологии смогли прочитать в его генах и подсознании доминирующее желание быть сподвижником великого ученого Средневекового Востока Абу Али Ибн Сино. В период повтора жизни виртуализированная личность пытается зацепиться за мгновения, которые некогда ускользнули от него. В этом аспекте, для него жить – значит быть во власти магии обратно возможного. В этом аспекте, «объект» идет навстречу вечности, которая возвышается над временем, давая возможность времени течь от настоящего к прошлому, когда личность имеет возможность исправить негативную вечность.
Особенностью наших исследований заключается и в том, что мы пытались использовать принцип «Пять W, Epidemiоlogy», который является мнемоническим обозначением фундаментальных вопросов эпидемиологии: 1) Что (определение явления, феномена); 2) Кто? (человек, общество); 3) Где? (место, очаг, ареол распространения); 4) Когда? (время вспышки, заражения, распространения); 5) Почему? (причины, факторы, предпосылки, пути передачи). На наш взгляд, они помогут нам запомнить ключевую методологическую информации, необходимую для сравнительного осмысления и оценки результатов. Итак, в нашем случае «Что?» – это «кибернетизация» и «виртуализация» как разновидность глобализирующейся социальной инфекции современности. Именно идеи и соответствующие концепции являются первым звеном эпидемического процесса и составляют суть I фазы – резервации. «Кто?» – это человек, человеческая популяция, которые являются, с одной стороны, потребителями информационно-технологической продукции указанных двуединых социальных инфекций, а с другой стороны, их жертвами. Человек и общество являются главным звеном эпидемического процесса, именно они представляют собой II фазу – фазу эпидемического преобразования. «Где?» – это место, очаг, ареол распространения «кибернетизации», «виртуализации» в единстве развития. Вначале это пределы исследовательской лаборатории или специализированной научно-информационной компании, а затем пределы одного населенного пункта, области, региона, страны, а далее континентов и планеты в целом уже в порядке интернет-сети и нейросети. Они составляют суть III фазы – фазы распространения. Ответы на вопросы «Кто?», «Кто?», «Где?» представляют собой первые оценочные выводы о масштабах распространения вышеуказанных социальных инфекций. Немаловажными являются ответы на вопрос «Когда?», так как они характеризуют тенденцию заражения, темпы распространения, охват населения эпидемическим процессом. Самым сложным, но критически важным является поиск ответов на вопрос «Почему?». Речь идет об установлении причинно-следственной связи (этиопатогенез) и механизмов заражения, распространения социальной инфекции (IV фаза). В целом «Пять W» можно рассматривать как инструмент для сравнительного описания и интерпретации результатов «анализ-синтеза» конкретного вида социальной инфекции.
В данной монографии мы поставили перед собой несколько задач: во-первых, подчеркнуть степень акцентуирования социальных пандемий в предметном поле философии на основе аналитического обзора психологических, политических, экономических и технократических социальных пандемий (Глава I); во-вторых, осветить биоэтические, технократические парадигмы и философские аспекты кибернетизации как социальной пандемии (Глава II); в-третьих, осветить биоэтические, технократические парадигмы и философские аспекты технократические и биоэтические парадигмы виртуализации (аватаризации) как социальной пандемии (Главы III). Полагаем, что результаты наших исследований будут способствовать формированию контуров философии социальных пандемий – тотальной цифровизации и виртуализации нашего мира. Зрелая философия позволит уже рационально решить проблемы, возникшие на пути общественного развития, предвидеть будущее общество на основе понимания современных социальных контекстов. Но следует учесть тот факт, что остановить пандемию кибернетизации и виртуализации никому и никогда не удастся, потому, что они являются продуктом глобализации и экстропии. Остановить же глобализм и экстропию можно только самоуничтожением человечества. Следовательно, речь должна идти лишь об адаптации человечества к последствиям таких технократических пандемии, выработкой у них соответствующего взаимоотношения с ними. Именно в этом отличается кардинальное различие биологической пандемии от социальной пандемии кибернетизации и виртуализации нашего мира. Единственный способ добиться успехов в такой ситуации – начать еще более активно их использовать. То есть, если за информатизацией, цифровизацией, кибернетизацией, аватаризацией, виртуализацией будущее, то всем нам следует серьезно заниматься их вайб-кодингом, олицетворяющее «волшебную палочку желаний».
Глава I
Аналитический обзор социальных инфекций,
имеющих потенциал пандемии и их вопросы
в проблемном поле философии
В связи с глобализацией и экстропии (кибернетизация, биотехнологизация, аватаризация) человечество переживает время социально-политического, технологического, экономического, экологического, гуманитарного кризисов. Во времена их действия, человеческое сообщество, как правило, подчиняются закону «позитивной и негативной поляризации». Согласно этой закономерности люди ведут себя неоднозначно, занимая негативный или позитивный полюса: одна часть общества становится более склонной к социальной аномии (негативный полюс), а другая – к моральному совершенствованию и религиозности (позитивный полюс). Человечество и каждый отдельный человек стоят перед экзистенциальным выбором. В зависимости от типа личности, превалирования в ее поведении биологического или социального начала, индивиды тяготеют либо к одному полюсу, либо к другому. В политике этот процесс сказывается в распространении всевозможных тиранических диктатур и в постепенно набирающих силу народных движениях, участки которых выступают за создание компетентного, честного, морально ответственного правительства из народа, волей народа и ради народа. Примерами «негативной поляризации» может быть рост эгоизма и самоубийств, ожесточения, тупая покорность судьбе, криминальные деяния и т.д. «Позитивная поляризация», по П.И.Сорокину, проявляется в росте творческих усилий и альтруизма, в жизни по моральным заповедям, возникновении и развитии пацифистских и ненасильственных ассоциаций, во взаимном проникновении и интеграции разных мировоззренческих ориентации. Результат «эпохальной борьбы» между силами «позитивной» и «негативной поляризации», никто не в состоянии предсказать с уверенностью. Однако тенденция, по мнению ученого, оптимистическая: силы позитивной поляризации обнаруживают способность для сдерживания и уменьшения гибельных действий сил «нерелигиозности и деморализации». Какая из этих альтернатив осуществится – зависит от каждого человека.
Одним из демонстративных примеров социальной заразительности может послужить банальные аплодисменты, которых можно наблюдать при торжественных собраниях практически во всех сферах общества. Причем, качество представления или выступления докладчика не всегда является главным фактором в интенсивности и продолжительности аплодисментов зала. Можно наблюдать, что аплодисменты являются заразительными, а продолжительность их зависит от поведения присутствующих в зале. На самом деле, каждый может в этом убедится, когда несколько людей начинают аплодировать, их подхватывают все больше и больше людей, аплодисменты переходят в овацию и если при этом встает хотя бы один человек весь зал встает и продолжает хлопать в ладоши уже стоя. Итак, очень часто стимулом служит уровень и сила аплодисментов, а также поведение всего нескольких людей. Под манипулированию этих людей попадает весь присутствующий народ. Причем, аплодисменты могут не прекращаться, пока сам выступающий не подает сигнал, чтобы люди успокоились. Аплодисменты являются разновидностью «социальной инфекции», когда есть агент пародирования, механизм его развития, апогея и завершения. Такую природу имеют и ряд эмоциональных реакций, а также ментальных проявлений (поступки, поведения): смех, тревога, сомнения, страх, фобия, насилие.
Академик П.И.Сидоров (2014) как автор теории ментальной экологии и создатель пилотной модели системного мониторинга и службы ментального здоровья в РФ впервые четко выделил факторы и тенденции изменения ментальной экологии современного мира, приводящие к расширенному и неконтролируемому воспроизводству социальных недугов и зависимых расстройств, создающих угрозу национальной безопасности в виде социальных эпидемий. Согласно определения автора, социальные эпидемии – это генерализованное, расширенное и неконтролируемое воспроизводство социальных недугов, начиная от алкоголизма и наркомании, завершая, национализмом, «цветными революциями», гражданской войной, геноцидом и пр. Причем, механизмами развития социальных эпидемий являются: во-первых, рост уплотнения информационной среды; во-вторых, нарастание некомпетентности и психологической неграмотности населения; в-третьих, глобализация агрессии и терроризма; в-четвертых, поточная массовая культура и культурная дезориентация; в-пятых, нарастание дегуманизации и деэтизации общественного сознания; в-шестых, рост маргинальности и криминальной субкультуры; в-седьмых, доступность и распространенность психотехнологий; в-восьмых, рост отчуждения и психического насилия на фоне психологической неграмотности населения; в-девятых, истеродемонический ренессанс (экстрасенсы, маги, колдуны, парапсихологи).
Во введении говорилось о том, что в условиях глобализма и экстропии появились ряд социальных инфекций, имеющих потенциал перерасти в эпидемию или даже пандемию. Речь идет о сплошной цифровизации, кибернетизации, виртуализации, аватаризации, которые опасны для всего человечества тем, что они тотализированы, и опасны, по сути, своими глобализированным последствием – тотальная дереализация мира, создание тотального цифрового мира с иллюзией существования самого человека и всего окружающего мира. Человек – это уже не человек, а некий цифровой аватар, Е-существо, транс-человек. Возникает необходимость осветить философские аспекты вышеуказанных видов социальной эндемии, эпидемии, пандемии. Причем, как было сказано во введении нами в плане демонстративности сравнивалась специфика биологической и социальной инфекции.
Что значит эпидемический или пандемический процесс в медицине? Это взаимосвязанный процессе из трех составляющих: во-первых, причина и условия (факторы); во-вторых, механизм развития; в-третьих, проявления. Если в первом оставляющем вскрывается сущность процесса, то во втором – внутренние механизмы развития, а в третьем – форма проявления самой патологии. Аналогично этому процессу развиваются и социальные инфекции. Там и здесь не только соответствующие факторы, агенты, источники, резервуары инфекции, а также определенные механизмы развития и пути передачи инфекции, но и соответствующая восприимчивость организма в одном случае (биологическом) и общества в другом (социальной). Соответственно, такие специфические реакции – иммунитет и резистентность и проявления. Если в первом случае речь идет о реакции организма на инфекционный агент (бактерии, вирусы), а касательно социальной инфекции (идеи, взгляды, суждения и пр.), то во втором – соответственно, защитные возможности организма больного, тогда как в отношении социальной инфекции – устойчивость общества на отрицательные влияния инфекционной патологии. Там и здесь можно наблюдать: во-первых, неравномерность проявлений эпидемического процесса по территории, выделяя местный, региональный и глобальные ареалы инфекции; во-вторых, неравномерность проявлений эпидемического процесса по времени, выделяя цикличность, фазность, сезонность; в-третьих, неравномерность проявлений эпидемического процесса по группам населения, выделяя возрастные, профессиональные, организованные и неорганизованные группы; Согласно социально-экономической концепции, эпидемический процесс представляет собой сложную многоуровневую целостную систему, обеспечивающую существование, воспроизведение и распространение агентов и феноменов в природе и человеческом обществе.
Если в биологическом смысле паразитарная система дискретна, то есть состоит из отдельных особей в популяции хозяина, в организме каждого из которых развивается инфекционный процесс в виде клинически выраженных заболеваний или носительства, то в социальном смысле также существует дискретная система, когда в той или иной сфере, регионе, социальной группе имеет место включение в иерархию множества инфекционных процессов. Без учёта роли механизма передачи понятие «взаимодействие этих факторов и соответствующих процессов становится реальной, а не сохраняет умозрительную абстрактность. Человечество, как общность людей Земли представляет собой сложное неоднородное образование, которое состоит из множества разных стран и государств, наций, народов, народностей, связанных между собой в единое целое. И, естественно, что социальные инфекции, появляющиеся в каком-то одном сегменте общества, меняют всю конфигурацию системы. Создают другую социальную систему. На сегодня выделяют три группы носителей социальной инфекции: во-первых, групповые и системные социальные болезни; во-вторых, болезни, протекающие длительно (хронические) и кратковременно (острые); в-третьих, болезни старые («исторические») и новые (в XXI веке).
С методологической точки зрения важно выделять следующие разновидности социальных инфекций: во-первых, «социальные проблемы"; во-вторых, «социальные болезни».
Выделяют следующие разделительные признаки: во-первых, длительность протекания, когда отличительным признаком социальной болезни является длительность протекания соответствующих феноменов, тогда как социальная проблема может решаться в краткие сроки; во-вторых, легкость или, напротив, сложность разрешения проблем; в-третьих, наличие тех или иных социальных или психологических корней; в-четвертых, "завязанность" на национально-этнические черты или иначе менталитете самого населения. Согласно существующей классификации социальные инфекции можно выделить психологические, социально-политические и экономические. К психологическим социальным инфекциям относят агрессивность, алкоголизм, антисемитизм, аполитичность, авторитаризм, аморальность, домогательство, деморализация, девиантность, доносительство, конфронтация, конфликтность, ксенофобия, маргинализация, отчуждение, наркотизация, национализм. К социально-политическим социальным инфекциям относят аполитичность, бандитизм, бюрократизм, бесправие, дедовщина, запретительство, идеологизация, конфронтация, конфликтность, карьеризм, криминализация, мафиозность, милитаризация, фашизация. К экономическим социальным инфекциям относят нищенство, бедность, безработица, бездомность, беспризорность, коррупция, коммерционализация, "отмывание" (денег), обнищание, олигархизация, рэкет, спекуляция, теневизация, фиктивная занятость, конфронтация, карьеризм, проституция, приписки, воровство, мошенничество, фальсификация, разорение, конкуренция, теневая экономика, тунеядство, "двойная бухгалтерия", семейственность, клановость, хулиганство.
Приступая к обзору социальных инфекций следует отметить, что так называемая социальная девиация при соответствующих условиях может приобрести черты настоящей пандемии. На сегодня, одним из самых демонстративных социальных инфекций, имеющих потенциал пандемии является алкоголизация и пьянство всего населения нашей планеты. Алкоголизация – это тенденция, при котором общество или культура становится все более ориентированным на потребление алкоголя. Причем, независимо от банальной, когда люди употребляют из-за социального давления (бедность и нищета, социальное неравенство, безработица, бесправие) либо культурной, когда алкоголь становится неотъемлемой частью культуры или общественных норм, когда нет ограничении приема алкоголя на общественных мероприятиях, праздниках, торжествах. Между тем, проявления этой социальной инфекции всегда бывает негативными – рост физической и психологической зависимости, дереализация окружающего мира, рост числа преступлений. По данным ВОЗ, в общемировом масштабе такая социальная пандемия алкоголизация обуславливает почти 3 млн смертей ежегодно. По статистическим данным, кыргызстанцы, начиная с 2006 года стали меньше пить, сократилось количество страдающих алкогольной зависимостью. Однако, начиная с 2021 года в нашем обществе начал вновь расти алкоголизация населения. Настораживает то, что в 2022 году на фоне роста алкоголизации населения, число зарегистрированных смертей возросло более чем в 3 раза. Анализ законодательства показывает, что действительно, в последнее десятилетие в Кыргызстане были введены ограничения на рекламу, продажу алкоголя, а акцизы на алкоголь были повышены. В результате объемы продаж алкоголя за последние годы сократились практически в два раза. Несмотря на положительные изменения, алкоголизм остается на первом месте среди зафиксированных наркологических заболеваний – в среднем ежегодно около 8%, взятых на наркологический учет, страдают алкоголизмом, Настораживает и то, что две трети всех новых случаев зарегистрированной алкогольной зависимости пришлось на мужчин зрелого возраста. Доля случаев смерти, связанных с алкоголем, за последние десятилетий составили 4,3 тысячи человек. По мнению экспертов, кыргызстанцы не стали меньше болеть алкогольной зависимостью.
Как реальный механизм заражения нужно признать «кыргызскую» модель алкоголизации, которая отличается от других моделей следующими особенностями: во-первых, люди чаще теряют контроль над количеством выпиваемого; во-вторых, чаще наступает зависимость от алкоголя; в-третьих, чаще бывает конфликтность и различного противоправного поведения. Такой «быстрый» сценарий наступления разрушительных последствий алкоголизации не осознается кыргызским сообществом, им не осознается чрезмерная уязвимость кыргызского народа от алкоголя, представляющую настоящую угрозу его деградации. В отношении их, а также нарастающих темпов роста наркомании и токсикомании все острее ощущается необходимость принятия неотложных мер по активной и эффективной государственной антиалкогольной и антинаркотической политики. Наиболее эффективной государственной политикой является не только стратегия комплексного социального и индивидуального предупреждения и противодействия негативным социальным девиациям, но и ограничение ареалов их распространения, определив зоны и установив барьеры для распространения алкоголизации и наркотизации населения. Такая изоляция инфекций должна быть надежной, иметь системный характер, учитывать сложную природу и сущность, а также закономерности этиологии и механизмов распространения социальных инфекций такой разновидности. То есть меры должны носить самый настоящий противоэпидемический характер и масштаб. Во всем мире, любая зависимость – алкогольная, наркотическая, игровая плохо поддается терапии. Это достаточно специфическое заболевание, поэтому мы никогда не говорим, что пациент вылечился, что он здоров, а говорим о наступлении ремиссии. Прямо как при инфекционном процессе.
Вышеуказанная закономерность сохраняется и в отношении любой социальной инфекции, вызывающей аддиктивное поведение – стремление уйти из реальности посредством изменения своего психического состояния. В особенности это касается наркомании и токсикомании – виды социальной инфекции, характеризуемые как смертельные зависимости, а также страшные по последствиям и трудноизлечимые в плане лечения. Если источником инфекции является человек, а «возбудителем» наркомании – наркотик, который по своей природе являются ядом, поражающими все системы человеческого организма, то «возбудителем» токсикомании – ненаркотические вещества. Распространение, развитие этих социальных инфекций в мировом масштабе принимает форму не только эпидемии, но и пандемии. Этому способствовали такие факторы, как расширение сети международных коммуникаций государств, развитие транспорта, открытость границ, международная торговля, функционирование межнациональных наркокартелей, легализация употребления некоторых наркотиков, сокращение расстояний между странами, континентами и народами. Первое место по количеству наркоманов занимают США (6% населения), второе – Эстония, а третье – Беларусь. В первую десятку стран с высокой долей наркоманов входят Монголия, Канада, Гренландия, Россия, Казахстан, ОАЭ, Дания, Польша, Украина, Норвегия. Кыргызстан занимает 23-е место. И если для малоимущих людей наркотики – это способ уйти от окружающей их «грязной» действительности, то в среде богатых и состоятельных имеет место «кайфожорство» тяга к комфорту, покою и удовольствию. Для физического здоровья последствия наркомании и токсикомании, по сути, необратимы (!), так как даже в случае полного излечения от зависимости у человека остаются стойкие нарушения деятельности головного мозга, обуславливающая его он психическую неполноценность. Если нет ремиссии, то происходит выраженная и стремительная социальная и моральная деградация человека, у него наступает дереализация окружающего мира, а далее психоз, слабоумие, инвалидность, самоубийство.
Доказано, что борьба с наркоманией и токсикоманией должна вестись на таких же принципах как и при биологической инфекции: жесткая изоляция, уголовные наказания за производство, перевозку и распространение наркотиков и токсикологических веществ. Комплексные меры включают предупреждение об опасностях этих социальных инфекций, блокирование путей распространения, ограждение людей от употребления наркотических веществ, широкая пропаганда здорового образа жизни, создание у людей негативного отношение к употреблению наркотиков, формирование у людей представление о нормах, ценностях и опасностях жизни, а также критического отношения и осуждения наркотических привычек, отчуждение их от тяги к наркомании и токсикомании. Несмотря на предпринимаемые меры вышеуказанного характера, по данным экспертов, число наркоманов в стране, начиная с 2022 года превышает 20000 человек. Причем, 61% наркоманов используют инъекционный способ, а 30% – курение. Как правило, в большинстве случаев мотивом к потреблению является погоня за удовольствием, любопытство, желание забыться, снять стресс, боль, развлечься, какие-то неблагоприятные жизненные обстоятельства. Что касается путей распространения такой инфекции, то нужно отметить следующее. «Если раньше наркотики выращивали, то сейчас используют синтетические. С каждым годом увеличивается количество лабораторий, которые изготавливают этот вид наркотиков. Распространяют их осуществляется через интернет и другие современные технологии. Эксперты прогнозируют, что если наркоситуация в стране сохранится на этом же уровне, то максимум через 10 лет наше общество столкнется с большими проблемами медицинского, социального, психологического характера.
Одной из социальных инфекций, имеющих потенциал пандемии во всем мире является иллюзионизм. Такой инфекцией, к сожалению, заражена и наша страна. Обобщая опыт наших революций или государственных переворотов можно говорить, что в нашей стране находит свою реализацию именно «закон социального иллюзионизма». Суть закона заключается в разрыве между принципами и идеалами, декларируемыми политиками, и реальной действительностью. Как известно, периоды флуктуации общества сопровождаются флуктуацией его идеалов и ценностей, специфика революционного периода заключается в том, что ценности и идеалы, которые провозглашаются на этом этапе, – иллюзорны. Сопоставляя лозунги и декларации, выдвигаемые в ходе февральской и октябрьской революций, с практическими действиями революционных правительств спустя два-три года после установления революционной диктатуры, по П.И.Сорокину (2014), можно полностью осознать всю показательность их полной несовместимости. Вместо обещанных гражданских свобод (свободы совести, слова, печати, оппозиций) – установление жесткого контроля со стороны власти над всеми сторонами социальной жизни и поведения (ограничение свободы слова, печати, собраний, митингов, публичной критики). Вместо провозглашавшего мира – на деле установился диктаторский, полуманархистский режим. Декларировался принцип свободы и демократии, но вместо них установилось жесткое централизованное и бюрократизированное управление, четкое ограничение свободы слова и свободы действия граждан страны. Вместо уничтожения коррупции – разрушена цивилизационная стратегия развития экономики страны.
Что подвигло в свое время кыргызский народ – выйти на площадь с протестами? Прежде всего, подавление инстинктов определенных групп в дореволюционные периоды возрастает не столько абсолютно, сколько относительно, акцентируя внимание на релятивности наших представлений о степени жесткости применяемых репрессивных мер: «человек, объем прав которого достаточно обширен, чувствует себя ущемленным перед лицом более существенных привилегий у других». Подавление базовых инстинктов ведет к разрушению «условных фильтров поведения» и к «биологизации поведения», подталкивает людей к совершению антисоциальных актов. Действие, в мирное время квалифицировавшееся как преступление, в переломные эпохи, став массовым, высокопарно именуется «революцией». Попытки разрешить кризис переходного периода чисто политическими методами – модификацией форм правления – не увенчались успехом и в Западной Европе. Огосударствление общества, по мнению социологов, не предусматривает селекционный механизм, позволяющий в процессе конкуренции и хозяйственного риска отсеивать людей бездарных и выдвигать действительно талантливых, что неизбежно ведет к безынициативным, примитивным способам ведения хозяйства и к эскалации политического насилия. Во время кризисов действия людей подчиняются закону «позитивной и негативной поляризации». По этому закону люди не ведут себя однозначно: одна часть общества становится более склонной к социальной аномии (негативный полюс), а другая – к моральному совершенствованию и религиозности (позитивный полюс). Человечество и каждый отдельный человек стоят перед экзистенциальным выбором. В зависимости от типа личности, превалирования в ее поведении биологического или социального начала, индивиды тяготеют либо к одному полюсу, либо к другому. В политике этот процесс сказывается в распространении всевозможных тиранических диктатур и в постепенно набирающих силу народных движениях, участки которых выступают за создание компетентного, честного, морально ответственного правительства из народа, волей народа и ради народа. Примерами «негативной поляризации» может быть рост эгоизма и самоубийств, ожесточения, тупая покорность судьбе, криминальные деяния и т.д. «Позитивная поляризация», по П.И.Сорокину (2014), проявляется в росте творческих усилий и альтруизма, в жизни по моральным заповедям, возникновении и развитии пацифистских и ненасильственных ассоциаций, во взаимном проникновении и интеграции разных мировоззренческих ориентации. Результат «эпохальной борьбы» между силами «позитивной» и «негативной поляризации», считает автор, никто не в состоянии предсказать с уверенностью. Однако тенденция, по мнению ученого, оптимистическая: силы позитивной поляризации обнаруживают способность для сдерживания и уменьшения гибельных действий сил «нерелигиозности и деморализации». Какая из этих альтернатив осуществится зависит от каждого из нас. Окончательный исход этой борьбы во многом будет зависеть от того, сумеет ли человечество предотвратить новую мировую войну.
Одним из распространенных социальных инфекций является авторитаризм – тип недемократического политического режима, основанного на несменяемой централизованной власти одного лица или группы лиц (политпартии) при сохранении в стране определённого уровня экономических, гражданских, идейных свобод. Такой режим установился во многих государствах, включая и страны Центральной Азии, а потому о природе режима население хорошо информировано. Режим предполагает подавление оппозиции или её полное отсутствие, а также невозможность для легальной оппозиции существенно влиять на политику государства. Авторитарные лидеры используют власть, не принимая во внимание отличные от мнения власти и разрешённой оппозиции политические взгляды, и их почти невозможно сменить путём выборов, что наблюдается в Туркменистане, Таджикистане. Если авторитарные режимы в этих странах являются откровенными диктатурами, то в остальных странах Центральной Азии режимы носят характер «соревновательного» либо «электорального авторитаризма». Вообще, следует отметить, что почти треть государств в современном мире классифицируются как авторитарные. Причем, авторитаризм имеет свойство высокой заразительности. Об этом свидетельствует появление тенденции перенимания авторитарного режима во многих странах. Правителей привлекает то, что авторитаризм – это, прежде всего, социально-политическая система, основанная на подчинении государству и его лидерам. По сути, устанавливается «полицейский» тип управления, единовластие, когда верховная власть, по сути, узурпирует все ветви государственной власти. Лидеры таких стран считают, что такая социальная установка вселяет им уверенность в том, что в обществе должна существовать строгая и безусловная преданность правителю, беспрекословное подчинение людей авторитетам и властям. На сегодняшний день, становится очевидным как Кыргызстан, некогда прославившейся островком демократии в азиатском континенте постепенно скатывается к диктатуре. Это означает то, что политический режим, соответствующий принципам авторитарности, начинает отрицать демократию как в отношении свободного допуска до выборов, так и в вопросах управления страной. Нужно отметить, что авторитарные режимы в странах Центральной Азии, Кавказа произошла из тоталитарного прошлого и использует прежние рычаги в мобилизационных целях: стимулирование экономического роста, наращивание национальной мощи, сохранение политического контроля над обществом. Между тем, в ряде стран бывшего Советского союза все большее значение приобретает так называемый «технократические» способы принятия решений, а именно нацеленность на удовлетворение корпоративных интересов страны в пользу решения общенациональных задач (Эстония, Латвия, Литва, Грузия). В мире существуют и так называемые теократические авторитарные режимы, когда политическая власть сконцентрирована в руках духовенства (Иран, Ирак). Кроме того, выделяется такой вид авторитарного режима как корпоративный авторитаризм, при котором власть находится в руках олигархических, бюрократических или теневых группировок, которые совмещают в себе и власть, и собственность. Авторитаризм представляет собой очень «вирулентную» социальную инфекцию.
Одним из значимых социальных инфекций такого же порядка является тоталитаризм. Если при авторитаризме власть воздействует на общество и публичное пространство лишь по мере необходимости с целью сохранения политической стабильности, то при тоталитаризме власть стремится по умолчанию контролировать все общественные процессы и взгляды каждого гражданина. Если для авторитаризма характерна завязанность на первых лиц, потому что они обеспечивают прежде всего государственный курс, а не идеологию, то для тоталитаризма первостепенна идеология, а не публичный вождь, хотя он всегда присутствует в целях поддержания легитимности политического строя и всеобъемлющей идеологизации населения. В этом аспекте, тоталитаризм более стойкий, не заканчивается с уходом первого лица и практически не способен разрушиться без влияния внешних сил. Нужно отметить, что тоталитаризм часто связан с желанием построить утопическое государство, в то время как авторитаризм в основном предназначен для решения конкретных текущих задач, быстрой мобилизации всего государства. Принцип тоталитарного режима – «запрещено всё, что не разрешено законом», а принцип авторитарного – «запрещено всё, что вредит власти». В отличие от тоталитаризма, население при авторитарной власти не идеологизировано, так как официальная идеология либо отсутствует, либо распространяется только на государственный аппарат. Поэтому оппозиция авторитаризму, как правило, существует, хотя и существенно отличается от оппозиций в условиях демократии. Все эти черты характерны для настоящего времени для Кыргызстана, где уровень терпимости народа к правящей верхушке постепенно падает. Между тем, такая тенденция порождает ответную реакцию со стороны оппозиции и широких слоев населения. Естественно, что предпринимаемые меры на основе оправдания насилия, усиления диктатуры, противоправных способов принуждения населения приводят к народным волнениям, бунтам. В этом плане, Кыргызстан за свою тридцатилетнюю историю уже пережил три социально-политических кризиса со сменой властной верхушки. Все в ожидании, чем же закончится тотализация власти в стране.
Одним из негативных социальных инфекций, имеющих свойство проявить себя эндемией, эпидемией и даже пандемией является бюрократизм. Во всем мире бюрократизм представляет собой отдельно взятые проявления бюрократии, которые в организации управления и власти выражаются в следующих аспектах: волокита, канцелярщина, безответственность, отписки, приписки, протекционизм, семейственность, клановость, местничество, регионализм, трайбализм, взятничество, казнокрадство, делающие работу соответствующей организации неэффективной. Негативность бюрократизма как явления: во-первых, в политическом плане – это чрезмерное разрастание и безответственность исполнительной, законодательной, судебной ветви власти, пренебрежение обратной связи с народом, приводящим к потери ее доверия; во-вторых, в социальном плане – отчуждение этой власти от народа, установление жёсткой вертикали влачи с ослабленной обратной связью, что является непосредственной причиной возникновения конфликтных ситуаций; в-третьих, в организационном плане – канцелярская подмена содержания формой, волокита, плохая взаимосвязь между центром и периферией, между «верхами» и «низами»; в-четвертых, в морально-психологическом плане – бюрократическая деформация сознания, безволие, снижение общественно-политической активности граждан, потеря доверительного отношения к власти. Бюрократизм, если не препятствовать ему, то он имеет свойство заразительно распространяться, за счет чего падает эффективность работы людей на всех этапах, увеличивается формализм, безответственность, инертность работников, усиливается круговая их порука, растет противодействие любым социальным изменениям, инновациям, разрастается конформизм сотрудников. В конечном итоге, власть превращается в самодовлеющую организацию, ставящую во главу угла лишь собственные интересы, игнорируя общественные.
Обращает на себя внимание следующие элементы бюрократизма: во-первых, особый характер отношений между обособленными аппаратами управления и обществом; во-вторых, особые отношения между звеньями бюрократической организации; в-третьих, особые интересы и основанные на них стандарты сознания и поведения чиновников. Б.П.Курашвили различает два типа бюрократизма: добросовестный (максимум общественной пользы при максимуме задаваемого сверху порядка и минимуме доверия к управляемым, минимуме их самостоятельности и инициативы в их собственном деле и в общественной жизни в целом) и своекорыстный (максимум карьеры и корыстного использования служебного положения при минимуме заботы об общественной пользе). Создается впечатление, что в нашей стране превалирует именно своекорыстный бюрократизм. Тем не менее, далеко не безопасным является и добросовестный бюрократизм. На любом уровне у нас можно видеть армию добросовестных и честных чиновников, которые тем не менее со временем успевают пропитаться не только эгоцентрическим духом аппарата, профессиональным снобизмом, технократическим высокомерием, ведомственностью, но и чувствами семейственности, клановости, местничества, регионализма, трайбализма, национализма. Все эти негативные последствия бюрократизма сказываются своекорыстным обособлением и отчуждением аппарата управления от общества, использование в корыстных интересах предоставленных им властных полномочий, элитарно-кастовые тенденции в их среде. Эти явления заразительны и ведут к тому, что наступает: во-первых, подмена общих, государственных интересов частными, ведомственными, а чаще всего личными интересами; во-вторых, полная апатия по поводу назначения своей деятельности и ее конечного результата; в-третьих, обоготворение местного авторитета, а следовательно и местных интересов; в-четвертых, желание укрыть свои дела под покровом тайны, создавая культ секретности.
Доказано, что бюрократия как система всеми силами стремится вывести из-под контроля общественности большую часть своей деятельности, а также поддерживать социальную дистанцию: секретность, закрытие каналов коммуникации, что обеспечивают им монополию власти. Бюрократизированное государство, к каковым, безусловно, можно отнести и нашу страну, усиливает власть аппарата в ущерб власти иных социальных слоев и групп общества. Вначале социально-экономическое господство, а затем политическое давление, лоббирование и протаскивание различных интересов бюрократизированного аппарата в парламенте страны и превращение одного класса, на который сделана ставка, в господствующий. Этот класс создает условия и механизмы удержания своей власти, подчиняя себе все силовые структуры общества. В данном случае усиливается институт единоличной власти президента и созданной «под него» и ради него политической партии. Развитию и становлению бюрократизма способствует отсутствие контроля за экономической деятельностью со стороны гражданского общества. Аппарат получает в свое распоряжение долю общественного «пирога» независимо от результата своей деятельности, исходя из места в государственной иерархии, степени власти. Парадоксальность ситуации заключается в том, что чем выше государственный служащий занимает место в иерархии рангов, тем более он отождествляет себя с государством. Между тем, еще В.П.Макаренко подчеркивал, если граждане и чиновники – винтики низших уровней управленческой пирамиды – переносят вину на вершину политической власти, то высшее чиновничество склонно винить во всем низшие звенья управленцев и самих жалобщиков. Получается замкнутый круг, который подпитывается стереотипами общественного мнения о том, что только члены властно-управленческого аппарата могут быть носителями правового сознания и политической культуры. По сути, речь идет о саморазвивающейся системе и особой социальной инфекции, отличающейся особой заразительностью и масштабом распространения, когда доминирующим становится не результат, а сам процесс и его абсолютизация.
Важно подчеркнуть, что сохранение бюрократической структуры лишь ради самой себя превращается в единственную цель – надуманно усиленное делопроизводство, бумаготворчество, формализм, приписки, отписки, имитация бурной деятельности, когда чиновник множит подчиненных, но не соперников, чиновники работают друг на друга. Практически в каждой стране ежегодно пытаются сокращать кадры, но тщетно, они вновь и вновь разрастаются. Речь идет о так называемом «болезни С.Паркинсона»: работник, сочетающий полную непригодность к своему делу, но с завистью к чужим успехам, не справляясь со своей работой, всеми силами пытается сделать карьеру и в конце концов выбивается в начальника. Он начинает выживать тех, кто способнее его, и не дает продвинуться тем, кто может заменить его в будущем. В конечном итоге штаты заполняются людьми, которые глупее начальника. Чтобы жить спокойной жизнью в таком учреждении, все принимают эти правила игры и пытаются выглядеть глупее, чем они есть. Трагедия такого учреждения заключается в том, что кадровый состав в целом оказывается профессионально непригодным. Такое учреждение недееспособен. Такая модель характерна для всей вертикали власти, вплоть до высшего властного аппарата. В этом заключается вся трагедия бюрократического государства. Бюрократизированное государство, прикрываясь демократическими лозунгами, на самом деле влечет неимоверную угрозу вначале политической, а затем и иным свободам общества. Характерной чертой бюрократизированной правовой системы является приоритет нормативных актов, изданных исполнительными структурами власти (указов, постановлений, распоряжений, инструкций), над нормативными документами законодательных органов. И нередко подзаконные акты необоснованно имеют гриф «для служебного пользования» и не доступны для прочтения простому гражданину.
Выясняя издержки бюрократического управления, следует особо остановиться на имеющей место коррупции властного аппарата. Именно коррупция бюрократических структур выступает главным препятствием в нормальном осуществлении прав и свобод личностью. Уход от должного взаимодействия с властью в область, где это взаимодействие строится на взятках, протекции, знакомстве, нарушает правовые механизмы данного отношения. Коррупция – это порча, растление, разложение. В коррумпированном государстве права и свободы человека, с одной стороны, и ответственность власти, с другой, существуют в ограниченном и извращенном виде, что уменьшает эффективную деятельность государства. Коррупция дискредитирует и право, как основной регулятор общественных отношений, формирует устойчивое представление о беззащитности граждан, о невозможности в некоторых случаях реализовать те или иные права и свободы. В умах людей утверждается мысль о том, что коррупция – это единственно возможная форма эффективных отношений между государством и обществом. Коррупция – это прежде всего серьезнейшее злоупотребление своими должностными обязанностями и служебным положением. Взяточничество как самую мощную составляющую коррупции можно считать «традицией» любой бюрократизированной государственности. Чем сильнее государство вмешивается в экономическую сферу, тем масштабнее коррупционная деятельность, характерны и многомиллионные взятки, и включение чиновников в состав акционеров банков, предприятий, коммерческих структур. Бюрократизм порождает коррупцию, а коррупция укрепляет бюрократию. Понимая такой порочный круг, работники заражаются друг от друга такой инфекцией, которая со временем охватывает все более широкие слои общества.
Мир на пороге очередной мировой войны и как утверждает А.Дугин, милитаризация государств в настоящее время все чаще приобретает эпидемический и даже пандемический характер. Как известно, милитаризация означает перевод общества на военные рельсы. Естественно, когда в мир спокойно, нет войны и серьезных вооруженных конфликтов, когда жизненным интересам государств, самому его существованию ничто не угрожает, то чрезмерная милитаризация не нужна. Конечно, любая страна соблюдает некий баланс военных и оборонных интересов, содержит армию, вооруженные силы, способные в критической ситуации его защитить. В политике говорят, что полная демилитаризация есть не что иное, как отказ от суверенитета и согласие с абсолютной зависимостью от какой-то внешней силы. Но интенсивность и размах милитаризации всегда варьируются. В настоящее время уже третий год идет широкомасштабная война между Россией и Украиной. Эксперты говорят о перманентной мировой войне, так как в этой войне принимают участие страны НАТО (Евросоюза, США). «Милитаризация общества в условиях ведения такой войны считается абсолютной необходимостью», – считает А.Дугин. Такой политикой, естественно, заразились не только воющие страны (Россия, Украина), но и все страны НАТО и мира, которые стали переводит свою промышленность на военные рельсы. Если в России и Украине на военные рельсы перевели все государство и общество целиком, то в остальных государствах пока только свои оборонно-промышленные комплексы. Вот-так в мире началась милитаризация по всем направлениям, обострилась старая вражда между некоторыми странами (Израиль и Иран, Северная и Южная Корея, Китай и Тайвань и др.). Все чаще спорные проблемы, борьба за ресурсы и пространство влияния начались решаться военными методами (Ливан, Сирия, Палестина, Ирак). В мире начались масштабные военные учения-угрозы, активизировалась военная идеология, идеология победы в самом настрое военных и народных масс, в психологии повседневной жизни, когда враждебная идеологическая сила, замешенная на альянсе неонацизма, глобализма и либерализма заметно и повсеместно выросла. В очереди идеологизация всего общества. В таких условиях, естественно, в выигрыше бывают авторитарные режимы: установление военного порядка, запрет проведение выборов, диктат строгой дисциплины, наказание за критику политики государства, власти, церкви. Лишь закон, патриотизм, пропаганда идеи, рост экономики, призывы и пополнение военного состава, все во имя победы. Перечисленные события лишь подтверждают заразительность идеей насильственного решения межгосударственных проблем.
Самым распространенным в мире социальной инфекцией экономического характера является безработица. В 2020 году по данным Международной организации труда в мире насчитывается 400 миллионов безработных, что составляет 5,26% населения планеты. В Кыргызстане, который является аграрной страной большинство людей жили и живут за счёт земли и разведения скота. Начиная с 2000-х годов люди больше стали мигрировать в города, где покупая еду у продавцов, вместо того, чтобы выращивать сельхозпродукты у себя в селе, заниматься там животноводством, чтобы прокормить себя и свою семью, лишь увеличивали число безработных. Как известно, зависимость от работы как от источника денег для приобретения еды и жилища является основой безработицы. Безработица как явление стала постепенно входить в экономическую мысль по мере усиления индустриализации и бюрократизации. Миграция, маргинализация, безработица, рост нищеты и бедности – вот результат такой социальной инфекции, имеющий характер пандемии, если учесть их масштабы по всему миру. Экономический характер носит и такая социальная инфекция как теневизация экономики, которая сопровождается угрозой национальной безопасности государства. Теневая экономика – это не только различного рода нелегальные экономических отношений в сфере производства, потребления и предоставления услуг, но и любое сокрытие доходов, то есть «черного нала». Теневую экономику можно условно разделить на части: во-первых, неформальная экономика, «серый рынок» включает сделки, совершаемые на законных основаниях, но при этом их объёмы скрываются либо занижаются (частный извоз, репетиторство); во-вторых, криминальная экономика, «черный рынок» включает сделки или операции, запрещённые на законодательном уровне (наркобизнес, торговля оружием, проституция); в-третьих, фиктивная экономика представляет собой предоставление различного рода взяток или привилегий, которые законодательно запрещены (субсидии, льготы, квоты). Предпринимателю всегда выгоднее уйти в теневой сектор экономики, чем заниматься официальным оформлением своей деятельности. Потому, они стараются обходить законы и положения, а это и есть переход в теневую экономику. Ускоренный рост теневой экономики может послужить высокой напряженности в обществе, криминализацией экономических отношений, технологическим отставанием, оттоком капитала за границу, что способствует ослаблению конкурентоспособности государства, ослаблению политической власти с утратой доверия населения. Совершенствование государственного контроля, рациональная и справедливая политика способна противостоять теневизации экономики. С учетом высокого дивидентства теневой экономики все страны мира заражены этим недугом. Если проецировать это явление на карту мира можно убедится в том, что у этой инфекции есть все признаки пандемического распространения.
Обзор показывает, что перечень социальных болезней, имеющих потенциал пандемии довольно внушительный. П.И.Сорокин (2014) при составлении своего перечня социальных болезней исходил из общепринятого понимания того, что такое "психологические", "политические" и "экономические" феномены. Как видно, все три группы социальных болезней представлены их значительными количествами. Это значит, что данная классификация адекватна реальному состоянию большинства человеческих обществ, тем процессам, которые в них происходят. Тем не менее, в классификации, беря во внимание специфику эпохи глобализации и экстропии можно выделить «технократические» феномены: цифровизация, автоматизация, кибернетизация, виртуализация, аватаризация, биочипизация, роботизация. Между тем, учитывая гуманитарный кризис можно выделить и «социологические» феномены: деморализация, деэтизация, эвтанизация, деперсонализация, дереализация. Одним из демонстративных видов подобной социальной инфекции можно считать социофобию ― разновидность тревожного расстройства, при котором человек чувствует сильный страх и тревогу при любых социальных взаимодействиях. Пациент, страдающий этим расстройством, испытывает панику из-за того, что его слова и действия будут негативно оценены окружающими, поэтому избегает контактов с социумом. При этом страх и тревога не соответствуют фактической угрозе. Все этом может закончится оформлением социальной инфекции в виде распространяющегося социального тревожного расстройства человека и общества. Нынешняя социальная сеть является далеко не безобидной технологией передачи такой инфекции. На то или иное событие люди обрушиваются и пишут обидные, ироничные, саркастические, гневные комментарии в соцсетях, которых читают множество подписчиков, делятся своими суждениями об этом. В результате у человека появляется вся симптоматика инфекции в виде избегания социальных ситуаций, страх перед критикой и оценкой, беспокойство и тревога, нежелание зрительных контактов, ограничение повседневных активностей, страх сделать что-то неловкое и глупое, боязнь стать объектом осуждения или насмешек, повышенное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение, мышечное напряжение.
Как известно, эпидемия – это вспышка заболевания, которая происходит в определенной географической области, тогда как пандемия, напротив, происходит, если заболевание распространяется на несколько областей или на весь земной шар. Изначально возникает вспышка социальной инфекции – резкое увеличение количества людей, заболевших той или иной социальной болезнью. В разгаре данной болезни наступает поражает одновременно множество людей. Если не будут приняты меры, то эпидемия может приобрести статус пандемии. Речь уже идет о распространении той или иной социальной патологии на весь мир. В мире описаны эпидемии тотальной ненависти, русофобии, ксенофобии. Сегодня модно ненавидеть. Любое политическое событие провоцирует в обществе новую вспышку злобы и недоверия, которая выплескивается в окружающее пространство – на улицы и площади, на ТВ и печать, Интернет и социальной сети, которые становятся не только источником социального заражения, но и средством распространения этой инфекции. Истина в том, что социально-политическое манипулирование, психологический массовый гипноз, конечно, существует, но его невозможно навязать, если он не оказывается созвучен уже существующим общественным мнениям. Любая социальная эпидемия цепляется за уже имеющиеся лозунги, идеи и тренды. И вряд ли ненависть так легко легла бы на души нашим людям, если бы за ней не стояли вполне определенные насущные человеческие потребности.
По мнению кыргызского философа Ж.Урманбетовой, даже митинги имеет смысл рассматривать как проявление социальной инфекции. Если то или иное социальное явление обнаруживает востребованность, то оно с неизбежностью стимулирует его количественный и качественный рост. В случае с митингами в нашей республике эти параметры обнаруживают свою удивительную стойкость. Митинги порой имеют спонтанный характер, однако в большинстве случаев они провоцируются и управляются определенными личностями. В этом смысле основной причиной организации митингов является вездесущий конфликт интересов. Чаще всего инициаторами разного рода митингов выступают представители экс-элиты или оппозиции. Митинги в качестве социальной силы спустились на низовые уровни, они все больше являют собой форму решения мелких конфликтов, а не глобальных, с точки зрения общества, социальных движений. Между тем, митинги тиражируют негативные чувства участников, главным образом, чувство ненависти. Следует отметить, что ненависть, прежде всего, снижает душевное напряжение людей.
Сегодняшняя ситуация – ползучий экономический кризис с его периодическими экзальтациями и санкциями, странная война у границы страны, резкое обострение во внешней политике, сокращение социальных программ – все это не может не вызывать массовую фрустрацию. Выручает ненависть. Она вытесняет все нежелательные переживания – от «мы» к «они», из пространства личной ответственности в стан противника. Противник может быть разным в зависимости от политических предпочтений и ценностей ненавидящего. Главное, чтобы он был, этот враг. Затуманивает взгляд. Но затем, по выздоровлению у людей открываются глаза на истину, у них появляются скорбь, боль, раскаяние, а за ними – и чувство обновления, внутренняя сила, уверенность в себе. Тем не менее, в период развития социальной болезни злоба, неверие и ненависть надолго превращается в нечто вязкое, в переживание, из которого так и не извлекается смысл. В период так называемой реконвалесценции инфекции людям приходит чувство того, что они обесценили не только противников, но и себя, свое переживание. У них еще надолго сохранится тяжелое чувство вины, недоверия, неискренности в отношениях. Как и при постинфекционном выздоровлении от банальной инфекционной патологии, после социальной инфекции медленно вырабатывается своеобразный защитный механизм – ксенофобия, за которой стоит потребность и желание сохранять статус-кво и уменьшить тем самым внутреннюю тревогу. Так или иначе за ненавистью и обесцениванием прячется важная потребность людей ощущать свою собственную ценность, в каком бы статусе они ни находились. Это и есть тот самый глубинный, экзистенциальный мотив больного социальной патологией.
Социальной пандемией называется одновременное или последовательное возникновение у большинства населения планеты той или иной идеи, обуславливающих с их стороны одинаковых стилей мышления и действий. Такое возбуждение и влечение есть следствие основного психофизиологического явления, заключающегося в том, что люди испытывают повальное влечение к этой идее и у них создается своеобразная зависимость от нее. Такое чувство людей есть не что иное, как видоизмененное чувство самосохранения, самоидентификации, самосознания. Присоединившись к остальным людям, они чувствуют себя успокоенным, в большей безопасности, и то же чувство, которое влекло их к всему человеческом сообществу, в виде солидарности, из которого вытекает как необходимое внедрится в глобальную интернет-паутину. Здесь особую значимость приобретает сама идея, индуцирующая такое помешательство. В связи со сказанным выше, если исходить из принципа «Пять W», то первый вопрос «Что?» – это сама по себе идеология «кибернетизации» и «виртуализации» как разновидности глобализирующейся социальной инфекции современности. Именно эти идеи и соответствующие концепции являются первым звеном пандемического процесса и составляют суть I фазы – фазы резервации. Как известно, резерватами вышеуказанных социальных инфекций являются, как правило, исследовательские подразделения, специализированные научные институты и центры, которые создаются с целью обеспечения необходимых условий для соответствующих научно-технологических разработок в ранге «ноу-хау», для канализирования усилий определенной группы новаторов нового направления. Согласно концепции эпидемического процесса научно-технологические нововедения в виде кибернетизации и виртуализации следует считать «возбудителями инфекции».
Как известно, присутствие многих людей в одном пространстве уже само по себе действует на каждого из них возбуждающим образом. В настоящее время, «скопление людей» в интернет-пространстве также действует аналогичным возбуждающим эффектом на каждого человека. При этом каждого человека в такой сети следует воспринимать как источника, индуцирующего помешательство идеей цифровизации, кибернетизации, виртуализации. В связи со сказанным, если исходить из принципа «ПятьW», то вопрос «Кто?» – это человек, человеческая популяция, которые являются, с одной стороны, потребителями информационно-технологической продукции указанных двуединых социальных инфекций, а с другой стороны, звеном распространения социальных инфекций, а также их жертвами. Человек и общество являются главным проводником эпидемического процесса, именно они представляют собой II фазу – фазу эпидемического преобразования. На этом этапе развития социальной инфекции, бывшая однородной в фазе резервации со временем становится все более неоднородной вследствие появления восприимчивых к инфекциям лиц и увеличения их количества. Именно на этом этапе начинается непрерывное взаимодействие на видовом (человеческом) уровне «возбудителя инфекции» и человеком. Итак, уже на этапе резервации и преобразования вскрывается сущность эпидемического процесса, то есть внутренняя причины их развития, а также условия, в которых протекает действие причины. Нужно отметить, что систематизация материалов этих фаз позволяет ответить в общих формулировках на вопрос, почему развивается эпидемический процесс.
Нужно отметить, что внушение, немедленно приводимые к вовлечению к идее и действиям большой массы людей, наблюдаются только в тех случаях, где объединенная рядом причин и побуждений массы является уже организованным целым, имеющим некий центр, от которого исходит внушение. И чем быстрей и точнее выполняются внушения, чем более эти внушения носят характер внушений прямых – в смысле агрессивного и назойливого настаивания, тем совершенней организация, знаменующая собой наступление эпидемического или пандемического распространения. В этом аспекте, если исходить из принципа «ПятиW» то вопрос «Где?» – это место, очаг, ареол распространения. Как известно, эпидемический очаг – это место нахождения источника инфекции с окружающей его территорией в пределах которой возбудитель способен передаваться в массовом порядке от источника инфекции к людям, находящимся в контакте с ним. Причем, территориальные границы эпидемического очага зависят от трех основных обстоятельств: во-первых, устойчивость возбудителя к различным факторам; во-вторых, возможности контактов источников инфекции с людьми; в-третьих, механизма передачи инфекции. Нужно отметить, что «кибернетизация», «виртуализация» в единстве развития являются, безусловно, устойчивыми технологиями, имеют сверхэффективными средствами и безотказными механизмами распространения в виде интернет-сети и нейросети. Вначале ареал инфекции ограничиваются пределами исследовательской лаборатории или специализированной научно-информационной компании, а затем уже пределами одного населенного пункта, области, региона, страны, а далее континентов и планеты в целом. Они составляют суть III фазы – фазы распространения. Для эффективного заражения необходима масса воспримчивых к идее, концепциям и технологиям людей.
В целом, ответы на вопросы «Кто?», «Кто?», «Где?» представляют собой первые оценочные выводы о «возбудителях», «источниках», «носителях», «распространителях», а также масштабах распространения вышеуказанных социальных инфекций, тогда как ответы на вопросы «Когда» и «Почему?» – о механизмах и факторах развития и распространения социальной инфекции. Здесь важным моментом познания является свойство восприятия, включающее: предметность, структурность, апперцептивность, константность, избирательность и осмысленность. В свою очередь осмысленность состоит из трех этапов: во-первых, селекция (выделение из потока информации объекта восприятия и познания); во-вторых, организация (объект идентифицируется по комплексу признаков); в-третьих, категоризация и приписывание объекту свойств объектов этого класса. Как известно, выражение идеи в действий и общественный настрой – суть, основной закон жизни. Их следует направлять. Исходя из сказанного и следуя принципа «Пять W» ответы на вопрос «Когда?» характеризуют тенденцию заражения, темпы распространения, охват населения эпидемическим процессом. Именно мировая интернет-паутина и нейросеть являются путями передачи научно-технологической «ноу-хау», как определенная совокупность и последовательность факторов заражения кибернетизацией и виртуализацией населения стран и континентов. Причем, периода инкубации при данной инфекции не существует. Кроме того, невозможно определить территориальные границы очага. Так или иначе пространство эпидемического очага кибернетизации и виртуацлизации как социальных инфекций практически не определяется. Ибо, данные виды инфекции не имеют периода заразительности, практическим неограниченными механизмами и путями передачи инфекции, а также высочайщей степенью восприимчивости людей, а также высоким уровнем устойчивости инфекции.
Нужно отметить, что восприятие идей и концепций социальных инфекций в той или иной форме должна представлять некую целостность, когда всякий объект, идея, суждение, а тем более пространственная предметная ситуация воспринимается как устойчивое системное целое. При этом образ, формируемый в процессе отражения имеет некую совокупность информации. В рамках вопроса «Почему?» центром внимание является установление причинно-следственной связи (этиопатогенез) и механизмов заражения, распространения социальной инфекции (IV фаза). Выше говорилось о том, что высокая вирулентность (заразительность) таких социальных инфекций как кибернетизация и виртуализация объясняется наличием высокоскоростной мировой интернет-паутины и нейросети, которые относятся к беспроводным, а следовательно, неуправляемой сетевой средой – среды в которых происходит непосредственная передача той или иной социальной инфекции по принципу «прямо от производителя к потребителю». Важно отметить, что существующие на сегодня современные топологии беспроводной глобальной компьютерной сети практически невозможно контролировать и тем более блокировать процесс формирования эпидемических очагов и распространение социальных инфекций. Все это являет собой не что иное как предпосылка к развитию эпидемии, а затем и пандемию кибернетизации и виртуализции как социальных высококонтагиозных, высоковирулентных, неуправляемых и опасных по последствиям социальных инфекций уже технократического характера.
Глава II
Биоэтические, технократические парадигмы и
философские аспекты кибернетизации
как социальной инфекции
Генеративная нейросеть, виртуализация и аватаризация как социальные инфекции с явным пандемическим потенциалом. В основе социальной инфекции технократичекого характера лежит пандемический процесс, понимаемый как непрерывный процесс передачи идейного содержания кибернетизации и непрерывная цепь последовательно развивающихся, неконтролируемых, взаимосвязанных за счет сетевой системы инфекционных состояний человека и общества в целом не только до беспрецедентных масштабов их охвата и поражения, но и ужасной перспективой разрушения экологии самого человека и общества. Подобные социальные инфекции отличаются рядом специфических признаков: во-первых, высокой «вирулентностью» (заразностью) соответствующих идеологических начал; во-вторых, высокой «контагиозностью» (распространенностью) за счет интернет-сети, нейросети; в-третьих, очевидной невозможностью достоверного мониторинга, контроля и регулирования за ареалами инфекционного охвата населения; в-четвертых, невозможностью применения противопандемических мер (изоляция, дистанцирование, карантинизация, вакцинация). В эпоху сверхтехнологий искусственный интеллект стал универсальным термином не только для приложений, которые помогают принимать не только более быстрые и эффективные решения за счет использования внутренних и оперативных внешних данных в реальном времени, но и адаптировать возможность такого решения с учетом реальной обстановки. Однако, когда дело касается основополагающих факторов (искусственный интеллект, интернет-паутина, нейросеть), которые активно внедряются во все сферы деятельности человека, то вышеприведенные функции лишь способствуют пандемическому расширению ареалов распространения кибернетизации и виртуализации.
Алан Тьюринг еще в сороковые годы прошлого века рассматривал вероятность того, что машины когда-либо научатся мыслить. Между тем, на сегодня искусственный интеллект ChatGPT уже прошел этот тест и трудно вообразить, что это значить для человечества в целом даже в ближайшем будущем. Именно А.Тюринг впервые ввел термин искусственный интеллект и представил его как теоретическую и философскую концепцию. Итак, вот уже почти столетие люди задавались реальным вопросом: могут ли машины стать умнее, чем люди? Одни, как, впрочем, Жан-Габриэль Ганасия отрицают такой исход, считая, что это всего лишь миф, навеянный научной фантастикой. Автор напоминает об основных этапах развития этой отрасли науки, о достижениях современной техники и об этических вопросах, все больше требующих к себе внимания. Теперь же, когда искусственный интеллект ChatGPT доказал, что умеет мыслить, ответ на вышеприведенный вопрос стал очевидным – машина стала умнее, чем человек (!). Итак, в настоящее время имеет место тенденция сверхактивного развития и тотализации таких явлений как цифровизация мира, кибернетизация, виртуализация, аватаризация. С точки зрения конспирологов – сторонников «теории заговора» в мире активно продвигается концепция установления Нового Мирового Порядка (Novus ordo seclorum»), а также создания культа технологического совершенствования человека. Идеологами таких веяний считают франкмасонство, конечная цель которых заключается в превращении мира в систематизированную технологическую платформу. Именно об этом говорится в самом начале научно-фантастического романа «Аватар» (Ашимов И.А., 2024). Сюжетное события разворачивается в Центре искусственного интеллекта – признанном научном, суперсовременном и мощном мозговом учреждении (США, Лос-Анжелес) в стенах которого проходит Всемирный Конгресс по нейробиологии под названием «Киберпространство – дом нового Сознания». Именно в этом центре «живет» его Величество современный Бог – искусственный интеллект, как единство тысяч суперкомпьютеров. Кстати, такие центры сейчас существуют практически во всех развитых странах Америки, Европы, Китая, Японии, в которых ежегодно проводятся масштабные научные форумы и счастлив тот, кому бывает суждено окунуться в мир высочайших мыслей, касающихся глобальных проблем человечества, когда ученые и специалисты сообщают о прикладных, концептуальных и фундаментальных проблемах искусственного интеллекта, будущего компьютерной индустрии, цифрового фронтира, сетевых коммуникационных конгломератов, развития киберпространств, виртуалистики, как базы гностической дереализации нашего привычного мира.
Нужно признать, что в решении таких глобальных проблемах, безусловно, тон задают выдающейся ученые и специалисты ведущих мировых держав, которые, как оказывается, так или иначе представляют идеологи и сторонники «Novus ordo seclorum», которые проявили себя проводниками идеи мирового господства. Именно они составляют нынешнюю повестку дня важнейших мировых форумов и тематику исследований важнейших учебных и научных центров мировых держав, касающихся глобальных проблем, в числе которых проблемы тотальной цифровизации, кибернетизации, виртуализации мира, аватаризации мирового социума. В истории науки известны громкие имена идеологов нового Сознания – Генри Форда, Бенджамина Франклина, Дэвида Ноубла, Джона Дезагулье, Чарлза Линдберга, Джона Гленна, Базза Олдрина, Джона Локка, Дэвида Юма и др. Всегда на слуху мирового научного сообщества были имена гениальных ученых из этого же мирового клана, представляющих на многочисленных международных форумах лидирующие в мире Университеты, Центры, Институты, лаборатории и Фонды, в которых они угнездились и разрослись как социальная сеть. Если обратить внимание, именно они выступают практически на всех сегментах мировых форумов модераторами обсуждения проблем искусственного интеллекта, интерфейса электроники и мозга, виртуальной реальности, создания «нового сознания». Так или иначе идеологами, инициаторами, организаторами подобных мировых научных, образовательных, культурологических форумов выступают именно ученые франкмасонского клана. Об этом говорится и в романе «Аватар», определяя их приверженцами философии деизма, которая, как известно, утверждает, что Бог, завершив процесс творения, удалился на покой, предоставив людям самостоятельно совершенствовать его творение. Что правда, то правда, действительно, франкмасоны возомнили себе, что в будущем именно они должны править миром с помощью новых и сверхновых коммуникативных технологий.
Популярность термина «искусственный интеллект» во многом объясняется тем, что все чаще идет толкование о некоей искусственной сущности, который, якобы, будет наделен разумом, а потому, вероятно, будет конкурировать с людьми. Хотя такое объяснение далеко не ново. Вспомните миф о Големе, которого в свое время реанимировали знаменитый британский физик Стивен Хокинг, американский предприниматель Илон Маски, американский инженер Рэй Курцвейл, а также Джон Мак-Карти, Марвин Мински и другие сторонники создания так называемого сильного или общего искусственного интеллекта. Между тем, для них искусственный интеллект изначально представлял собой область науки, занимающейся компьютерным моделированием различных способностей интеллекта, идет ли речь об интеллекте человеческом, животном, растительном, социальном или филогенетическом. В основе этой научной дисциплины лежит предположение о том, что все когнитивные функции – обучение, мышление, расчет, восприятие, память, научное открытие или художественное творчество, могут быть описаны с точностью, дающей возможность запрограммировать компьютер на их воспроизведение. В романе «Аватар» речь идет о совершенно новой технологии такой же природы, но несколько парадоксальной, по сути, разработке. В фабуле романа американские ученые из Центра искусственного интеллекта (Лос-Анжелес) и Института мозга в Сан Антонио (Техас), интегрированные в научную компанию «ADI-ARS» в рамках реализации проекта «Trans-Time» разработали биоинформационный комплекс «F-Ash-53», функционирующий на основе интерфейса искусственного интеллекта плюс изолированного головного мозга. На базе математизации биологии и, наоборот, биологизации математики, компания смогла создать так называемое «новое сознание».
Итак, мир стоит на пороге создания технологии кибернетизации, виртуализации, аватаризации личности, когда виртуализированная личность создается внутри виртуального пространства, что само по себе составляет основу для будущей научной сенсации. Обзор научной литературы показывает, что в настоящее время исследования в области искусственного интеллекта пошли именно в таких новых направлениях. Считают, что не так далек тот час, когда вышеприведенная фантастическая идея компликации искусственного и естественного интеллекта наконец произойдет. Нынешние ученые сильно заинтересовались психологией памяти, механизмами понимания, которые они пытались имитировать на компьютере, и ролью знаний и новых когнитивных технологий в мыслительном процессе. Если обратится к истории развития интерфейсов «человек – машина», то ясно, что уже с конца 1990-х годов искусственный интеллект стали объединять с робототехникой и интерфейсом «человек – машина» с целью создания интеллектуальных агентов, предполагающих наличие чувств и эмоций. Это привело, среди прочего, к появлению нового исследовательского направления – аффективных (или эмоциональных) вычислений (affective computing), направленных на анализ реакций субъекта, ощущающего эмоции, и их воспроизведение на машине, и позволило усовершенствовать диалоговые системы (чат-боты). Как отмечалось выше в романе «Аватар» речь идет уже об интерфейсе искусственного интеллекта и «мозга в контейнере» с «рождением» виртуализированной личности – аватара. Интересна по сути, эпизод, когда Джозеф Олсон – директор компании «ADI-ARS» предложил назвать виртуализированную личность «объектом». Почему «объект», а не «субъект»? «Объект» – это графическое изображение, созданного интерфейсом искусственного интеллекта плюс «мозг в контейнере». То есть представляет собой результат не что иной, как дематериализации человека, который превращается в информационно-цифровую единицу. Соответственно, он, утрачивает телесность и традиционную форму репрезентации, а потому логично говорить не о «субъекте», а об «объекте». С позиции философии становится понятным то, что на смену материально-телесной константности человека приходит виртуально-цифровая его аватаризация, благодаря чего вышеприведенный «объект» получает возможность почти безграничного виртуального перевоплощения. Естественно, правильно назвать виртуализированную личность не «объектом», так как это слишком обезличивает, а обозначить его как «аватар», представляющий собой уже игровой онлайн-персонаж виртуальной реальности.
Даже сравнительно недавно искусственный интеллект подразумевали рациональный анализ и воспроизведение при помощи компьютеров большинства аспектов интеллекта, так как он значительно превышают когнитивные способности человека в большинстве областей. Между тем, именно это заставляет опасаться некоторых этических рисков. Это риски трех видов: во-первых, дефицит работы, которая вместо людей будет выполняться машинами; во-вторых, последствия для независимости человека и, в частности, для его свободы и безопасности; в-третьих, опасения, что более «умные» машины будут доминировать над людьми и станут причиной гибели человечества. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что работа для людей не пропадает, а трансформируется, требуя новых навыков. Точно так же независимость человеческой личности и ее свобода не подвергаются неминуемой опасности из-за развития искусственного интеллекта – при условии, однако, что человек остается бдительными перед лицом вторжения технологий в частную жизнь. В середине девяностых годов прошлого столетия мною (Ашимов И.А.) была выдвинута «Концепция запасных частей в хирургии», но осмыслить то, что в качестве запасных частей когда-либо станет и головной мозг мне представлялась в то время далеко не очевидной. На самом деле и сегодня далеко не просто осмыслить многие теоретические конструкты фантастической, по сути, сенсационной технологии создания интерфейса искусственного интеллекта плюс «мозг в контейнере». Представьте себе, изолированный мозг человека помещают в специальный контейнер с питательной средой. Каким-то образом налаживают тесную связь его с искусственным интеллектом, то есть создают интерфейс искусственного и естественного интеллекта («мозг плюс компьютер»). В результате искусной стимуляции определенной группы нейронов «мозга в контейнере» создается виртуальный мир, воспринимаемый изолированным мозгом уже «погибшего» человека, в качестве реального. Таким образом, виртуализированная личность находится в матрице, представляющая собой сон, в котором как будто бы он, то есть «мозг в контейнере» или иначе «аватар», находится, но сам того не осознавая. Интерфейс искусственного интеллекта плюс изолированного мозга создает для «аватара» иллюзию жизни в «реальном мире». Так или иначе, в любой момент времени виртуализированная личность, это чей мозг помещен в контейнер и сохраняет там свою интеллектуальную деятельность, не может быть уверен, что спит или бодрствует в реальном мире.
Естественно, вышеприведенная технология начисто отрицает идею о том, что в противоположность некоторым утверждениям, машины не несут в себе экзистенциального риска для человечества, поскольку их автономия носит лишь технический характер и в этом смысле не соответствует цепочкам материальной причинности, идущим от информации к принятию решений. Многие разработчики пока теряются в иллюзиях о том, что изолированный интерфейс искусственного интеллекта с человеческим мозгом не самостоятелен в моральном плане, и потому, даже если иногда они сбивают нас с толку и вводят в заблуждение своими действиями, они все же не обладают собственной волей и подчиняются тем целям, которые мы перед ними ставим. В романе «Аватар» речь идет об интерфейсе искусственного интеллекта и изолированного человеческого мозга, как о «новом сознании» с потенциалом решения и некоторых морально-этических вопросов. Отсюда, понятно, что искусственный интеллект содержит в какой-то мере сознание, которое не локализуется в физическом теле. Но при этом нужно понимать, если мы признаем, что сети, в которые, к примеру, я включен, и которые вместе со мной осуществляют мыслительные процессы, – это часть моего расширенного сознания, то рассматривать меня, мое эго как действующего субъекта уже не так просто. То есть уже непонятно, кто здесь действует – я действую, или сеть действует мной. Ключевая проблема, которая возникает, это не столько проблема замены сознания человека мыслящей технологической сетью, сколько проблема доказательства того, что человек плюс искусственный интеллект – это лучше, чем просто искусственный интеллект. Где тогда находится человек? Этот мозг – это система каких-то его вычислений? Что тогда останется от человека, что есть «я»? Мозг – это последняя надежда тех, кто хочет локализовать сознание на каком-то очень и очень надежном материальном носителе. Это ныне главная метафора для человеческого эго. В этих условиях мозг оказывается, как бы внешним, мы проводим некоторую границу между нами и нашим мозгом. Мы говорим: наш мозг влияет на нас. Но если мозг влияет на нас, значит, мы – это что-то другое? Мой мозг – это «Я». Мозг служит идентификационным признаком «Я». Вот мы – человечество и мечтаем о создании интерфейса «мозг плюс суперкомпьютер».
Однако, к сожалению, пока еще с трудом понимаем не только, где будет «мозг в контейнере», то есть «я» «аватара» и где будет искусственный интеллект, но и какими будут результаты такого интерфейса – «мозг плюс искусственный интеллект»? В этом случае, однозначно, при «мозге в контейнере» физическое тело отсутствует, а это полная свобода для мыслительной деятельности мозга. Но здесь есть над чем задуматься: мозг человека, интегрированный в общемировую компьютерную сеть искусственного интеллекта, станет уязвим для потенциальных вирусов, которые смогут превратить «мозг в компьютере» в психопата. Если искусственный интеллект будет у него обучаться, то прогнозы будут плачевными. В целом, нужно признать, что интеллектуальное развитие человечества достигло своего апогея, что стать умнее у человека уже не получится, что носителем мыслительной деятельности могут быть оцифрованные устройства. Вот и в романе «Аватар» Джозеф говорит о том, что процесс развития человечества идет не в сторону изменения и улучшений качеств каждого отдельного человека, не а в сторону простого увеличения объема памяти и новых способов изучения информации из памяти. – «Мы на правильном пути. Наша цель – создать надежный интерфейс искусственного интеллекта плюс «мозга в контейнере». Речь идет не о рядовом нейропротезировании, не о поиске надежных носителей оцифрованных мыслей, а о создании или иначе генерации «нового сознания».











