Читать онлайн Слава, деньги и невроз. Тёмная сторона признания и успеха
- Автор: Егор Альтман, Циала Крихели
- Жанр: Личная эффективность, Истории успеха
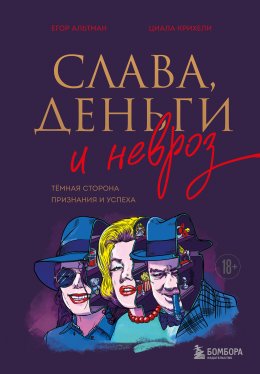
© Егор Альтман, Циала Крихели, текст, 2024
© Глеб Солнцев, иллюстрация на обложке, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Посвящается моим детям Даниэлю и Николь, а в их лице всем детям мира.
Циала Крихели
Посвящается моим детям Еве, Матвею и Иде. Эта книга – мой откровенный разговор с ними и напутствие, в какую сторону двигаться не нужно.
Егор Альтман
Если наша книга поможет переосмыслить значение любви и принятия, а это сделает счастливее хотя бы одного ребёнка в мире – значит, мы всё сделали правильно.
Предисловие от Бориса Бермана
Парадоксальное сочетание лёгкости и трагизма, быть может, и есть главное достоинство этой книги. Читаешь и быстро ловишь ассоциации, словно прибрежным ветерком заполняют текст аргументы, примеры возникают, как капли летнего дождя… Но выводы далеки от лёгкости. Металлическим трагизмом они оседают в сознании. И заставляют думать.
Эту книгу не стоит читать тем, чья картина мира устоялась давно и навсегда: они-то знают ответы на все вопросы. Авторы же, нисколько не смущаясь, задаются вопросами, которые могут показаться стыдными и даже кощунственными. Но поиск истины всегда сопряжён с «неудобными» вопросами, ибо ответы на них и способны привести к цели. Впрочем, ответа может и не быть. Потому что нередко (и я это знаю по своему многолетнему опыту интервьюера) вопрос бывает важнее, чем ответ. Читатель потом сам попытается прийти к истине. Не сразу, но – попытается. Если он, конечно, лишён греха мнимой премудрости. Именно на таких читателей и рассчитана эта книга.
«Слава, деньги и невроз», безусловно, провокативный труд. Егор и Циала пытаются разобраться не только со своими героями, но и с вами. Не то что залезть к вам в душу, нет, – пробудить размышления о том, о чём, полагаю, вы уже отчаялись размышлять: ответ не найден – и с плеч долой. Но у этой книги есть, я бы сказал, «феномен эха»: вы, я уверен, вернётесь к ней, вернётесь к тому, о чём размышляют авторы. И будете размышлять сами. А размышление, как известно, это привилегия мыслящего человека. Ценная привилегия.
Предисловие от Михаила Кожевникова
Очень необычная, живая книга. Ожидаешь спокойного биографического описания известных людей, их больших достижений за счёт таланта, трудолюбия, ума и других достоинств. Но, оказывается, всё совсем не так просто! У каждого из этих безусловно талантливых и неординарных людей есть свои глубинные психологические проблемы, даже отклонения.
Становится ещё интереснее, когда начинаешь понимать, что эти необычные сочетания разных граней личности имеют столь серьёзное влияние на формирование отношений каждого из персонажей со своими близкими. Прежде всего, с родителями, партнёрами и детьми. Внимательный разбор психологических аспектов и причин таких отношений, показывает, насколько болезненно и сложно любому человеку самому справляться с глубинными внутренними конфликтами, тянущимися с детства. Очень интересный язык книги привлекает внимание своей лёгкостью изложения и описания проблемных аспектов простыми словами. И если вы хотите понять самого себя, найти корни своих внутренних проблем и переживаний, найти способ идеального общения со своими талантливыми детьми (а талантлив каждый ребёнок), а самое главное – понять, как сделать свою жизнь СЧАСТЛИВЕЕ, то эту книгу обязательно стоит прочитать!
Предисловие от Александра Шуткова
Авторы – известный галерист и большой знаток повседневного искусства признанных гениев вместе с профессиональным психоаналитиком – раскрывают важные слагаемые универсальной формулы успеха, известные лишь тем, кто оказался на пути – своём или чужом – к славе и богатству, а также специалистам, погружённым в тему. Искусные и глубоко прочувствованные в личном опыте психоаналитические эссе о ранней нарциссической травме разнообразны по стилистике, по технике исполнения, сюжету и выбору изобразительных средств. В этих зарисовках читатель ощутит вкус классицизма Уотвуд, примитивизма Пикассо и Шагала, конструктивизма Татлина, поп-арта Уорхола и… акционизма Альтова.
Жизнь как в сказке
Случай – это обличье, которое принимает Б-г, чтобы остаться инкогнито.
Жан Кокто
Ты можешь получить от жизни всё!
Это грандиозный обман XXI века, вогнавший в депрессию не одну сотню людей.
Нужно только очень-очень захотеть. Ну и, конечно, вставать в пять утра, пить зелёные смузи, читать по книге в неделю, повторять аффирмации, визуализировать, медитировать (нужное подчеркнуть).
Чуть более продвинутые потребители курсов по саморазвитию знают, что, по правилам богатых и знаменитых, надо: не экономить, а зарабатывать, водить дружбу с нужными людьми, одеваться стильно, питаться правильно, отдыхать своевременно. В общем, жить как сильные мира сего. И будут тебе автопарки, виллы, гардеробы, образование, путешествия, статус и возможности – всё как в сказке.
Смогли они – сможет каждый!
Эксперты утверждают, что верный способ встать в один ряд со Стивом Джобсом или Илоном Маском – создать нечто революционное.
Но и это не всё! Тренд на успешный успех опирается на гипотезу: «Только истинные страдания могут сотворить шедевр». Ещё Демокрит сказал: «Человека, находящегося в здравом уме, нельзя считать истинным поэтом».
С научной точки зрения утверждение спорное, но в целом дискомфортно близкое к правде. Не один психиатр исследовал эту тему, и многие, так или иначе, пришли к выводу: счастливый человек ничего не создаёт.
Сами успешные гении – те же Джобс и Маск,– продавая людям мечту, в каждой своей речи описывают физические и психологические проблемы, сквозь которые они пробились к высотам. А каким романтическим флёром и загадочностью овеян путь «наверх»! Получается, если даже они подвержены обычным земным страданиям, более того, нашли способ черпать в них вдохновение, то чем хуже мы, простые смертные, с нашим бесконечным роллеркостером из проблем?!
Экзистенциальные трудности – универсальный продающий инструмент. Ведь они есть буквально у каждого. Если слава и деньги идут рука об руку с неврозом – нужно этот невроз заработать.
И вот эпидемия безумного успеха охватила планету.
Целое поколение медитирующих стартаперов коллективно возжелало жизни богатой и знаменитой. Все «нормальные» современники жаждут денег, славы и власти! Хоть и с трудом, но наскребают на атрибуты состоятельности: iPhone последнего поколения, китайскую копию Birkin, иномарку (пусть подержанную и купленную в кредит), отдых в трёхзвёздочной Турции.
И, конечно, куда ни глянь, все с энтузиазмом диагностируют у себя депрессию и «биполярку», радостно находят признаки обсессивно-компульсивного расстройства в перерывах между паническими атаками. Ну а кто у нас не социопат, тот точно нарцисс. Во времена моей практики подобные жертвы успешного успеха регулярно приходили ко мне если не за лечением, то хотя бы за диагнозом. Психический недуг стал своего рода негласным пропуском в мир изобилия.
Но что-то идёт не так…
Сильное-пресильное желание жить как в сказке у всех жаждущих есть. Атрибуты роскошной жизни разумным или неразумным приложением усилий они себе создают. Психическое расстройство – найдём. А осязаемых славы и богатства – как не было, так и нет. Всё вокруг – иллюзия успеха. Копия «жизни как у них», совсем как та китайская сумочка. И эта иллюзия рано или поздно разбивается о разочарование или усталость. У каждого «успешного» – тотальная неудовлетворённость, глобальная тревожность, хроническая раздражительность и глубокая депрессия. Самооценка вчерашнего мечтателя низвергается с небес в геенну огненную и вынуждает его задуматься о терапии. Ну раз уж раньше за диагнозом не пришёл.
Сложно не предаться унынию. Как вариант, можно разочароваться в судьбе и ждать следующей жизни. Авось повезёт родиться под более удачной звездой.
Даже не знаю, порадует вас это или расстроит, но звезда тут совсем ни при чём.
Для того чтобы случился великий, баснословно богатый и знаменитый гений, действительно нужны три составляющих. Но это отнюдь не желание, атрибуты и психическое расстройство. Разве что последнее сойдёт за обязательное условие. Необходимое, но не достаточное. Потому что есть ещё два.
Формула безумного успеха родилась в прекрасном партнёрстве с Егором Альтманом. Его лекция о связи психологических проблем и гениальности художников XX века, на которую я попала зимой 2022 года, вызвала массу вопросов. «Что он может понимать в психиатрии?! – возмущалась я, отправляя коллеге фотографии слайдов презентации. – Не может психопатию от нарциссизма отличить, а берётся лекции читать?! Типичный нарцисс!» Лекция превратилась в дискуссию спикера и слушателя, которую мы продолжили в кофейне.
И завершили решением писать книгу.
Я – Циала Крихели – психоаналитический психолог, Егор Альтман – хозяин арт-галереи.
Я – прагматик, он – романтик.
Я верю в науку и Б-га, он – убеждённый атеист и предприниматель.
Оба мы из интеллигентных семей, можем похвастаться целым рядом психических недугов и имеем за плечами годы психотерапии.
СЛАВА И ДЕНЬГИ, НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ И ВЛИЯНИЕ ВСЕХ ГЕРОЕВ ЭТОЙ КНИГИ – НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ПОБОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЧАСТЛИВОГО (ИЛИ НЕСЧАСТЛИВОГО?) СТЕЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
И оба неистово хотим изменить мир.
Более года мы исследовали жизни людей: знаменитых, всеми любимых, выдающихся талантом и баснословно богатых. Их судьбы не только будоражат умы миллионов поклонников, но и откликаются нам, нашим собственным травмам и победам.
Случай свёл нас в нужное время в нужном месте, чтобы родилась гипотеза о том, почему:
• миллионы людей создают потрясающие воображение предметы искусства, но Пабло Пикассо только один;
• миллионы женщин красивы, соблазнительны и артистичны, но Мэрилин Монро только одна;
• миллионы поэтов рифмуют строки и имеют зависимость, но Владимир Высоцкий только один;
• миллионы страстных, трудолюбивых, усидчивых, даже талантливых не могут стать «как они».
Представляем вам анализ жизней 10 громких личностей последнего столетия:
Пабло Пикассо,
Владимир Набоков,
Мэрилин Монро,
Владимир Высоцкий,
Энди Уорхол,
Анджелина Джоли,
Коко Шанель,
Илон Маск,
Майкл Джексон,
Уинстон Черчилль.
К концу исследования стало очевидно, что одиннадцатую главу я должна написать про самого Егора. Да, остальные персонажи – на слуху. Их легче использовать в качестве примера. Но в нашей повседневности тоже есть гении «на минималках». И пусть до славы Пикассо, Джексона или Маска они не дотягивают, в определённых кругах могут быть очень популярны. И, несмотря на не столь великий размах крыльев, они имеют ту же клиническую картину. Егор – один из таких безумных гениев.
Слава и деньги, народная любовь и влияние всех героев этой книги – не что иное, как побочный результат счастливого (или несчастливого?) стечения обстоятельств. Их жизнь в известности и роскоши действительно похожа на сказку – чем дальше, тем страшнее. Возможно, все они хотели бы прожить жизнь обычную, тихую и спокойную. И прожили бы, если бы в истории каждого из них не столкнулись три основные движущие силы, неизбежно вызывающие баснословный успех.
Вместе с тем истории эти во многом универсальны. В любой вы непременно найдёте отражения себя. Возможно, проведёте аналогии с собственной жизнью, когда осознаете причинно-следственные связи поступков наших героев и принимаемых ими решений с теми обстоятельствами, в которые их окунула судьба. И, может быть, поймёте, чего же на самом деле хотите вы сами.
В чём выражается успех именно для вас?
Хотите стать миллиардером, повести за собой толпы фанатов и обзавестись персональной звездой на Аллее славы в Голливуде? С детства мечтаете вершить судьбы народов, собирать стадионы или создать маленькое чёрное платье? Вполне возможно, что вам не хватило внимания одного из родителей (или его было с избытком), а признание другого необходимо как воздух.
Гипотеза, которую мы выдвигаем в книге, и доказательства, которые приводим, ярко показывают, что за блестящим фантиком успеха скрываются годы реального безумия, отчаяния, страха и удушающего одиночества.
Чем дальше мы погружались в исследование, тем ярче звучала во мне мечта:
если хотя бы один читатель поймёт, насколько решающую роль любовь и забота играют в благополучии каждого человека, и применит это понимание к своим близким – в мире станет на одного счастливого позврослевшего ребёнка больше.
Конечно, наша книга не сможет решить все ваши проблемы. Но, возможно, узнав об истинных желаниях и переживаниях наших героев, скрытых за публичными достижениями, вы поймёте, почему безумный успех так и не случился именно с вами. Может статься, вы в одном шаге от цели, а может… вам не стоит продолжать гнаться за ней. Дабы не войти в высшую лигу успешных безумцев.
Учтите: не исключено, что, закрыв книгу, вы воскликнете: «Слава Вс-вышнему, я не Илон Маск! Похоже, я уже успешен, в меру талантлив, и, главное, относительно здоров психически». Прочтение опасно тем, что вы можете не обнаружить у себя всех трёх ингредиентов баснословного успеха и… нечаянно стать довольным своей жизнью.
Формула успеха
Гипотеза
Каждый сотый человек имеет психическое расстройство в явно выраженной форме – утверждает современная статистика. Но не каждый талантлив, богат, успешен и известен на весь мир. В то же время миллионы людей обладают талантами, но стать всемирно известными гениями им не суждено.
На первый взгляд очевидно, что прямой связи между гением и безумием попросту нет. Однако во все времена находились люди, упорно пытающиеся её разглядеть.
Высказывание: «Не бывает великого ума без примеси безумства», – приписывают ещё Аристотелю. Швейцарский медик эпохи Возрождения Феликс Платер отмечал, что люди, которые отличались талантами в разных искусствах, были помешанными. Его поражали странные неприличные поступки таких людей и их нелепая страсть к… похвалам.
Проблема взаимосвязи гениальности и безумия всегда будоражила умы учёных и обывателей всего мира. Именно безумием часто объясняется бешеная работоспособность, идейность, талант, упорство, нестандартность видения. Издавна в представлении людей гениальность идёт рука об руку с психопатологией. В средние века граница между гениальностью и душевной болезнью вовсе размывалась, эти явления были почти тождественны. Психически больных, равно как и мыслящих сильно за рамками пуританской морали, считали заколдованными, одержимыми дьяволом; в то время как душевнобольных, остающихся внутри системы, – например страдающих религиозным бредом, – с энтузиазмом причисляли к святым.
Только гораздо позднее людей с незаурядными способностями, посмертно достигших всемирной славы, стали называть гениями. Печально известный Джордано Бруно – яркий тому пример.
В 1863 году свет увидела книга итальянского психиатра и криминалиста Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство». Автор пытался доказать, что гениальное творчество – следствие скрытой эпилепсии, которая проявляется приступами творческого вдохновения. К счастью, теперь мы знаем, что он ошибался. Полтора столетия спустя его теории неоднократно были пересмотрены, опровергнуты, пересмотрены опять и снова частично опровергнуты.
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ, РАВНО КАК И МЫСЛЯЩИХ СИЛЬНО ЗА РАМКАМИ ПУРИТАНСКОЙ МОРАЛИ, СЧИТАЛИ ЗАКОЛДОВАННЫМИ, ОДЕРЖИМЫМИ ДЬЯВОЛОМ.
Все без исключения последующие исследования взаимосвязи гениальности и психопатологии отталкивались от идей, выдвинутых Ломброзо. И хотя его можно причислить к учёным, которые привносят вклад в науку своими заблуждениями, в сознании масс представление о гениальности как о своеобразном безумии укоренилось именно благодаря его тезисам.
А потом наступил ХХ век и появился Зигмунд Фрейд, который сказал: «Талант представляет собой врождённое умение сублимировать свои глубинные сексуальные комплексы; такая сублимация влечёт порою невротические или психотические осложнения».
Позднее выяснится, что умение это совсем не врождённое, а сублимация не влечёт за собой невротических или психотических осложнений. Она – их прямое следствие. Но начало было положено. С тех пор взгляды на взаимосвязь гениальности и психопатологии будут не просто в корне пересмотрены – они будут почти доказаны благодаря расширению понимания работы человеческой психики. С некоторыми оговорками.
О них и пойдёт речь в нашей книге.
Причин, по которым человечество столетиями стремится объяснить гениальность безумием, может быть несколько.
Первая возможная причина – банальное обесценивание. Срабатывает защитный механизм, призванный уберечь человека «обычного» от мук собственной неполноценности. Всегда приятнее причислить откровенно одарённого человека к душевнобольным, чем столкнуться с осознанием, что кто-то превосходит тебя интеллектуально.
Вторую причину можно связать с феноменом, который Фрейд в своей работе «Психология масс и анализ человеческого Я» описал как гипотезу «козла отпущения». Находясь в группе, человек регрессирует к первобытному состоянию: подчиняется большинству, становится консервативным, ненавидит всяческие нововведения, предпочитает иллюзию реальности, уважает силу и почитает доброту за слабость. Иными словами, инстинкты берут верх. Но самое главное – он испытывает агрессию ко всем, кто как-то выбивается из общей массы. А значит, каждый, кто обладает способностями, выходящими за рамки понимания масс, должен быть причислен к безумцам. Безумие автоматически накладывает клеймо социально опасного – хотя бы своими идеями. Такого индивида следует немедленно подвергнуть остракизму.
Третья возможная причина до невозможности банальна – желание понять. И снова обратимся к Фрейду, который считал, что одна из движущих сил на земле – зависть. В основе зависти лежит фантазия о неограниченном удовольствии, которое проливается дождём из рога изобилия на того, у кого есть что-то, чего нет у нас. Талантливые, гениальные, успешные и знаменитые получают всё восхищение и обожание мира – кому не хочется так же?
Зависть вполне естественна, в её основе лежит фантазия о благополучии. А тот, кто испытывает это непростое чувство, того самого благополучия лишён. Справиться с этим противоречием позволяет процесс идентификации с объектом зависти. В быту мы называем его фанатизмом. Выбирая объект поклонения, человек одновременно наделяет его качествами, которые ему самому хотелось бы иметь, и присваивает качества, которые, как ему кажется, есть в объекте обожания и которых недостаёт ему самому. Фанат начинает «жить жизнью» своего кумира, когда успехи последнего – это успехи фаната, провалы – провалы фаната, слава – это слава фаната.
Механизм присоединения к успеху какой-то популярной личности даёт возможность справиться с завистью. Которая, напомню, – абсолютно естественная эмоция. Когда мы очень хотим быть на кого-то похожими, потому что, нам кажется, это принесет столько же любви, внимания, принятия и одобрения, – мы пытаемся узнать об этом человеке как можно больше. Погружаемся в его творчество, интервью, светские вылазки и так далее. Иными словами, становимся ещё одним винтиком в системе производства всемирно известных, богатых и успешных людей-брендов.
Однако мало кто задумывается, что гении творят не потому, что ищут материальную выгоду, а потому, что не могут не творить.
Богатство и успех часто становятся приятными (а для кого-то и нет) бонусами. Творчество – единственное, что помогает им не разрушиться под натиском реальности. За внешней оболочкой богемности, богатства и успеха всемирно известных художников, музыкантов, писателей, кинематографистов, политических деятелей и создателей новых технологий стоят порой невообразимые душевные муки, неразрешённые внутриличностные конфликты и экзистенциальный ужас.
Если бы этот факт был широко известен и понят, возможно, миллионы людей, вместо того чтобы предъявлять к себе несправедливые обвинения в никчёмности, вдруг осознали, что поистине счастливы.
Быть гением означает быть избранным. Избранность гарантирует успех. Успех обеспечивает всеобщую любовь. Значит, гения нужно во что бы то ни стало создать, взрастить – в себе самом, а если не удалось – в своем ребёнке. И вот мы уже бежим впереди паровоза с твёрдым намерением сделать, добиться, получить, доказать.
Дело однако вовсе не в душевных расстройствах – их при желании можно обнаружить почти у каждого. Если бы для безумного успеха было достаточно психического расстройства, поверьте, каждый третий человек на земле был бы великим, баснословно богатым и всемирно известным. Но в реальности процент таких людей ничтожно мал.
Тогда в чём же дело?
Психическое расстройство входит в состав «рецепта гениальности».
Нет никаких сомнений, что, например, Винсент Ван Гог – гениальнейший из художников, которых знает мир. И то, что он был тяжело травмирован, – исторический факт.
Так почему же тогда этот человек умер в абсолютной нищете?
Видимо, для безумного успеха одной лишь гениальности недостаточно. Есть ещё два важных ингредиента.
И чтобы гений случился, в жизни будущего условного Маска или Пикассо обязательно должны сложиться все слагаемые.
Все три.
Психическое расстройство, наличие которого у богатых и знаменитых гениев заставляет нас думать, что все они немного нездоровы на голову, – это не что иное, как навязчивое повторение травмы. Травма, в свою очередь, – это столкновение психики с чем-то новым, тем, что невозможно распознать, переработать и осмыслить, чаще всего из-за нехватки опыта. Такое переживание получает травматическое значение из-за двух основных обстоятельств:
• внешнего – реального внезапного события, при котором адекватная реакция невозможна (например, угроза жизни);
• внутреннего – внутрипсихической интерпретации события как угрожающего (хотя, возможно, угрозы и не было).
Это означает, что в рамках прежних представлений о мире новый опыт невозможно переработать и осмыслить.
Так, Винсента Ван Гога в возрасте 11 лет родители отправили учиться в школу-интернат. Решение близких причинило ребёнку столько страданий, что он не смог переработать его последствия до конца жизни.
Казалось бы, мало ли детей прошлого и позапрошлого столетий обучались вдали от дома. Но у Ван Гога эффект от расставания с родителями стал вишенкой на целом «торте» из травмирующих обстоятельств.
Винсент был старшим ребёнком в многодетной семье. Но не первым из родившихся. Ему дали имя, предназначавшееся первенцу, который не прожил и дня. Такое обстоятельство уже с раннего возраста создаёт почву для всевозможных расстройств психологического толка. В случае с Ван Гогом это были проблемы с идентичностью.
Если проанализировать детские годы Ван Гога, можно предположить, что он страдал от нарушений в зоне привязанности. О том же говорят его частые и беспорядочные связи и неудачные любовные переживания. Всё это привело к аддиктивному поведению, то есть всевозможным зависимостям. Ведь зависимость – это побег от реальности, с которой в сознательном состоянии человек совладать не может.
В России самые распространённые травмирующие события:
• физические наказания – шлепки, подзатыльники, битьё как ремнём, так и кулаками, и даже наказания едой (ограничение и закармливание);
• психологическое насилие – оскорбления: от намёков «да так каждый дурак сможет», «что ты за наказание» до прямых «скотина», «дебил» или ещё пожёстче; постоянная критика, часто необоснованная, обвинения, сравнения с другими детьми не в пользу того, кого сравнивают; наказание молчанием;
• развод или алкоголизм родителей…
Этот список можно продолжать долго.
Неотреагированный травмирующий опыт «застревает» в психике, как инородное тело, и вызывает сильные переживания, справиться с которыми невозможно из-за их неизвестности и интенсивности.
В результате возникает противоречие между внутренним и внешним – собственно, психический конфликт. Невозможность разрешить его способна разрушить личность изнутри. Сложные переживания, не поддающиеся переработке, переполняют психику и прорывают психические защиты. Основная задача которых – беречь сознание, в частности устранять тревогу и помогать самостоятельно выживать в действующем конфликте.
Чаще всего травма не проявляется на сознательном уровне как болезненное воспоминание или страдание и как будто не влияет на повседневность. Однако она ведь всего лишь «забывается», но никуда не девается из психического аппарата. Периодически напоминает о себе неприятными симптомами и жить всё-таки мешает. В повседневной жизни это может выражаться, к примеру, в постоянном неадекватном реагировании на ситуации, провоцирующие ассоциации с переживаниями, испытанными в момент травмы. Конечно, если те не названы, не переработаны и не усвоены.
Гений постимпрессионизма страдал от множества тяжёлых физических заболеваний, которые с возрастом усугубляли его нестабильное психическое состояние. Точный диагноз художника неизвестен, однако есть версии, что он страдал эпилептическим психозом, биполярным аффективным расстройством, его мучали разные психосоматические симптомы, такие как проблемы со слухом (периодическая глухота, звон в ушах), клиническая депрессия.
Разумеется, решение – в терапии. Она помогает встретиться с конфликтом и разрешить его. Но для этого сначала нужно встретиться с защитами и ослабить их. Конфликт разрешится, когда изменятся внутренние условия, которые привели к его возникновению. Если это будет сделано, травмирующую ситуацию удастся поднять на уровень сознания и отреагировать. Появится возможность назвать, понять и усвоить непереработанное переживание, связанное с травмой. Проще говоря, встретиться лицом к лицу и прожить.
Итак, психическое расстройство – это набор симптомов и поведенческих характеристик, возникших в результате полученной когда-то травмы и направленных на то, чтобы с этой травмой справиться. Поскольку это невозможно сделать самостоятельно, любые попытки психики защитить себя от пагубного воздействия пережитого опыта будут, скорее всего, заканчиваться неудачей. Именно поэтому психические расстройства вызывают столько страданий.
Само по себе психическое расстройство не способно подарить миру гения, хотя это первое и самое главное условие на пути к славе. Гениальность – это крайняя форма таланта, и психическое расстройство лишь выполняет роль среды, благоприятной для созревания этого таланта.
Чтобы на основе психического расстройства, причём очень серьёзного, зародился гений, необходим ещё один элемент. Человек должен с раннего, по возможности, возраста усиленно и регулярно, никуда не сворачивая, заниматься ремеслом, которому посвятит всю жизнь. Причём упорство, усилия и системность в выбранном направлении должны быть очень мощными. Это важно. Не менее серьёзными, чем уровень психического расстройства.
ЕСЛИ БЫ ДЛЯ БЕЗУМНОГО УСПЕХА БЫЛО ДОСТАТОЧНО ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА, ПОВЕРЬТЕ, КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ БЫЛ БЫ ВЕЛИКИМ, БАСНОСЛОВНО БОГАТЫМ И ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ.
Ван Гог был подростком, когда устроился на службу в торгово-художественную компанию дяди в качестве продавца. В то же время он начал много посещать музеи и выставки. Благодаря близкому контакту с искусством с достаточно юного возраста Винсент быстро начал разбираться в живописи.
Есть раннее начало, но! Нет последовательности и постоянства.
Уже сложившаяся психическая картина, в которой явно можно наблюдать тенденции к биполярному аффективному расстройству, выбивала гения из творческого процесса. Ван Гог часто терял интерес к работе, хоть и снова возвращался к ней спустя время. То есть очевидно, что у него были фазы активной работы и фазы потери интереса к ней.
По большей части этот человек уходил в творчество, спасаясь от депрессии и меланхолии, то есть сублимировал в живопись свое тяжёлое психоэмоциональное состояние.
Все герои нашей книги без исключения не только имеют или имели расстройства психического толка, но и многие годы упорно занимались ремеслом, которое привело их к всемирной известности. Большинство из них начало оттачивать мастерство с раннего детства и занималось этим всю жизнь. Не обязательно быть как Моцарт, который написал первую симфонию в пять лет. Илон Маск, например, начал заниматься программированием уже в подростковом возрасте, как и Ван Гог живописью. Такие варианты развития событий тоже можно считать достаточно ранним началом. Здесь хочется сделать упор не на то, когда человек начал работать в выбранном направлении, а на последовательность его действий и решений, на неотвратимость и преданность делу. У Винсента Ван Гога эта часть формулы хромала – он то писал, то не писал, то его мотало где-то. Он никогда не относился к своему таланту серьёзно, не стремился развить его и сделать источником дохода.
Учитывая, что:
• у каждого сотого жителя на Земле имеется психическое расстройство в ярко выраженной форме,
• можно предположить, что хотя бы четверть из них в достаточно раннем возрасте выбирают ремесло, которому посвящают всю жизнь,
получается, что гениев в мире не так уж и мало. Так почему же не все они успешны?
Бывает, что за вундеркинда делает выбор кто-то из взрослых или… он определяется средой, в которой ребёнок растёт и развивается. Что приводит нас к следующему, последнему ингредиенту успеха.
Итак, уже становится очевидно, что для развития гения важно соблюдение минимум двух условий: крайней формы психопатологии и раннего начала. Только ведь нас интересуют не просто гении и не просто люди всемирно известные. Мы исследуем феномен, подразумевающий в том числе и баснословное богатство. К Ван Гогу известность пришла посмертно, а умер он в мучительной нищете. Но ведь времени, которое Винсент уделял развитию своего таланта, оказалось достаточно для создания более 2000 полотен! Сегодня их стоимость исчисляется сотнями миллионов долларов! Так чего же ему не хватило для того, чтобы эти миллионы настигли его при жизни?
Очевидно, для полного пакета «знаменитый и успешный» ему недостаёт ещё одного слагаемого.
Работы Ван Гога не воспринимались публикой. Никто не хотел покупать его картины, и это очень ранило художника. По легенде, за всю жизнь он не продал ни одного полотна. Но, скорее всего, это действительно романтизированная легенда. В последнее время всё же находятся свидетельства того, что какие-то работы Ван Гога продались при его жизни, а за два года до смерти он-таки начал получать незначительное признание среди авангардистов. Но этого никак не достаточно, чтобы сказать, что художник получил значительное признание при жизни, не говоря уже о финансовом процветании.
Поскольку с раннего детства никто не ставил себе цели увидеть и развить в ребёнке талант, который мог бы в дальнейшем стать инструментом монетизации, интерес к живописи появился и развивался стихийно. Как мы уже предположили, он был средством самоконтейнирования в моменты наиболее острых периодов психоэмоциональных кризисов.
Получается, что в случае Ван Гога формула содержала лишь одну полноценную составляющую: травма. Есть подтверждение раннего старта в развитии мастерства, но не было постоянства. То есть второе слагаемое не получило усиливающего коэффициента. А поддержки художник не имел вовсе. Его способности не культивировались ни семьёй, ни знакомыми. Питательной среды не возникло. Третье слагаемое отсутствовало как данность.
Постоянное присутствие рядом человека или нескольких людей, которые на протяжении всей жизни неустанно культивируют талант и даже в какой-то мере стремятся его монетизировать, – третье и неотъемлемое условие. Без него невозможно формирование известной на весь мир, неприлично богатой, исключительно неординарной личности.
Да, человеку нужен человек. Даже если намерения последнего не всегда соответствуют общепринятым представлениям о морали и чести. Как станет известно из историй наших героев, многим приходилось в качестве поддерживающей силы иметь в окружении как раз таких морально нечистоплотных людей.
К сожалению, исследование показало, что среда может быть не только питательной, но и «доительной». Как, например, у Мэрилин Монро, которая, по сути, жила в психиатрических клиниках и выходила в мир только на съёмки, когда должна была принести продюсерам прибыль. Мы ещё вернёмся к ней, этот случай сложнее. Но суть не меняется. Если отсутствует одно из слагаемых, вероятность, что успех не случится, очень и очень высока.
Не верите?
Что ж, перед вами 11 доказательств.
Может показаться, что некоторые утверждения в попытке проанализировать личность наших героев несут осуждающий, категоричный или оценочный характер. Мы ни в коем случае не преследовали такой цели. Глубоко уважаем талант каждого из этих гениев, восхищаемся их достижениями и с трепетом относимся к их нелёгким историям жизни.
Доказательство I
Пабло Пикассо
Связи сексуального характера с несовершеннолетними, неоднократное доведение до самоубийства, нанесение тяжких телесных повреждений, физическое и психологическое насилие, ограничение свободы. Так мог бы звучать список преступлений перед вынесением приговора серийному маньяку-убийце. Но это всего лишь сухая выжимка из отношений главного художника ХХ века Пабло Пикассо с ближайшими к нему людьми.
Свою первую возлюбленную, Фернанду Оливье, художник запирал дома, избивал, из ревности запрещал ей позировать другим художникам. Ольге Хохловой – следующей значимой своей женщине, – не давал развода, чтобы не делить имущество, но в открытую изменял и унижал её. А когда она заболела раком – проявил полное равнодушие. Мари-Терез Вальтер было всего 17, когда уже немолодой 46-летний Пикассо совратил её. После его смерти она повесилась в своём гараже, так никогда и не познав другого мужчину. Талантливый фотограф Дора Маар с изначально неустойчивой психикой и хрупкой нервной системой рядом с известным художником превратилась в посредственного живописца и пациентку психиатрической клиники, где её лечили электрошоком от затяжных депрессивных эпизодов. Бедняжка ушла из искусства, выбрав затворничество, и провела остаток жизни в полной нищете. Жаклин Рок стала второй мадам Пикассо после смерти Хохловой и была почти на 50 лет его моложе. И хотя с ней у Пикассо сложились отношения, ровно противоположные всем предыдущим, – жертвой стал он сам, – Рок всё равно ждал трагический финал. Она застрелилась.
Судьба всех этих женщин сложилась печально уже потому, что они повстречали на своём пути Пабло Пикассо. Франсуаза Жило – единственная из его спутниц, сумевшая отделаться малой кровью. Ей удалось выйти из отношений с художником, сохранив жизнь и рассудок, повторно выйти замуж и добиться какого-то успеха в карьере.
Отношения Пикассо с близкими людьми были пропитаны эмоциональным, психологическим и физическим насилием. Однажды он заявился в дом к Ольге Хохловой в сопровождении молоденькой Мари-Терез Вальтер с младенцем на руках и, словно пощёчиной, оглушил законную жену фразой: «Этот ребёнок – произведение Пикассо».
Всех женщин, с которыми его связывали романтические отношения, Пикассо унижал, оскорблял и ни во что не ставил. Равно как и потомство от них. Ему принадлежит леденящая кровь цитата: «Для меня существует лишь два типа женщин – богини и тряпки для вытирания ног. Величайшим наслаждением в жизни является превратить первую во вторую».
Весьма типичная модель взаимоотношений для человека с нарциссическим расстройством личности. Поначалу все объекты влюблённости кажутся ему «небожителями». Однако очень быстро низвергаются с пьедестала обожания наказующим кнутом безразличия и медленного психологического истязания. Это происходило и в случае Пикассо: он терял всякий интерес к женщине, стоило ей забеременеть или заболеть. Окружающим он объяснял своё поведение так: «Всякий раз, меняя жену, нужно сжигать предыдущую. Вот так бы я от них избавлялся… Может, это вернуло бы мне молодость. Убивая женщину, уничтожаешь прошлое, которое она собой знаменует».
Безрассудный садизм Пикассо распространялся не только на спутниц жизни. Законного сына Пауло, рождённого в браке с Ольгой Хохловой, художник ни во что не ставил. Считал его абсолютно никчёмным и демонстративно держал в качестве личного шофёра. Пикассо не упускал случая напомнить сыну о его несостоятельности – как мужчины, отца и человека. С незаконными детьми от Франсуазы Жило он прекратил всякое общение после публикации её книги. Внука Пикассо – сына Пауло – тоже ждала трагическая судьба. «…Паблито, игрушка его садизма и безразличия, покончил жизнь самоубийством в 24 года, выпив хлорку», – писала внучка художника Марина в своей книге «Дедушка». Именно она нашла брата, как описывала, «с сожжённой гортанью и пищеводом, разорванным желудком и остановившимся сердцем». Внукам великий художник, который был баснословно богат, почти не уделял внимания и не давал ни копейки, даже когда те нуждались в медицинской помощи. «Молоко, которым нас вскормили, было отравлено, это яд сверхчеловека, который мог позволить себе всё и давил на нас», – вспоминала Марина.
Можно с уверенностью сказать, что, живи великий творец XX века в наши дни, беспощадные жернова культуры отмены перемололи бы его и всё созданное им подобно тому, как это произошло с Харви Вайнштейном[1]. Вероятно, высшим силам очень нравилось творчество Пикассо, раз злодеяния не просто сошли ему с рук, но и не помешали прожить долгую и насыщенную жизнь.
Факт остаётся фактом: несмотря на все ужасы, ставшие плодом его личности при жизни, невозможно отрицать гений Пикассо. Что же всё-таки позволило ему войти в историю как самому богатому художнику XX века и как неоспоримому гению современности, чьи картины похищают чаще других? Безумно успешными и богатыми не становятся просто так. Как, впрочем, и садистами. Для этого необходимы условия, которые нашему герою были обеспечены с первых секунд жизни. Здесь могла бы быть надпись: «Не пытайтесь повторить в домашних условиях, все трюки выполнены профессионалами». Впрочем, эти «трюки» вряд ли зависят от нашей воли. В игру часто вступает её величество Случайность.
У матери Пикассо были тяжёлые роды. Настолько тяжёлые, что сначала младенца посчитали мёртвым. Акушерка уже сообщила роженице трагическую весть, когда дядя – брат матери, который беспрестанно курил сигары, – вошёл в комнату. Недолго думая, мужчина выпустил струю дыма аккурат в лицо решившему умереть младенцу. Неожиданно тот подал признаки жизни – тихонько заплакал.
Тяжёлые роды не могли не сказаться на малыше – он оказался совсем хилым. Но, несмотря на это, вместе с ним родилась целая эпоха.
Мало того, что у новорожденного, судя по всему, были бессознательные причины не хотеть появляться на свет, стоит ли говорить с каким ужасом он столкнулся, когда его всё-таки вернули к жизни. Этот ужас принял вид густого облака сигарного дыма и буквально окутал его слабые лёгкие. В первые минуты Пикассо столкнулся с серьёзной травмой – угрозой выживания и безопасности, которая отразилась на всей его дальнейшей жизни. Эта травма сформировала определённые защитные механизмы. Например, отвращение к болезням и всевозможные фобии: он боялся отдавать свою одежду малоимущим, опасаясь, что «перетянет» на себя их судьбу или «отдаст» свою.
Родители, да и дядюшка, раз уж на то пошло, оказали фундаментальное влияние на формирование будущей личности художника.
Начнём с того, что травматичный опыт, полученный сразу после рождения, только кажется незначительным. Однако для младенца, который ещё не понимает, куда он попал и что происходит, крайне важна физическая близость с матерью с первых же мгновений жизни. Она гарантирует полную и безоговорочную безопасность, защищает от базовой тревоги. Если контакта с матерью не было, – а у Пикассо его очевидно не было, – это может нанести огромный вред ещё не окрепшей психике младенца. Сильная тревога будет проявляться каждый раз, когда в его фантазии возникнет угроза быть оставленным.
У Пикассо можно наблюдать фиксацию[2] на совсем ранней стадии развития, связанную с травмой угрозы жизни. Такая травма может привести к застреванию на младенческом уровне, который характеризуется проблемой самостоятельного существования и выживания в этом мире, так как младенец не идентифицирует себя отдельно от мамы.
Когда будущий гений уже научился понимать слова и реакции, от матушки он часто слышал о своих предстоящих небывалых успехах. Радуясь, что чадо, доставшееся таким трудом, растёт здоровым и невредимым, да к тому же подаёт большие надежды, маменька любила повторять: «Если ты будешь солдатом, то непременно дослужишься до генерала, а если монахом – то станешь Папой». Однако ни тем, ни другим Пикассо становиться не торопился.
Завышенные ожидания сами по себе могут нанести ребёнку травму. А если вкупе с любовью идёт чрезмерная опека, восхваление, иногда даже обожествление – это приводит к абсолютной несамостоятельности ребёнка. Вырастая и выходя за пределы своей семейной системы, он осознаёт, что, помимо него, в мире есть множество других людей, и некоторые из них – такие же «божки». Происходит конфликт интересов. Не выдержав его, человек скатывается в инфантилизм: «Мне никто не нужен, я лучше всех, никто меня в этом не переубедит». Но без здоровой критики психика не развивается. Умеренная (это важно) критика необходима для развития: когда, вырастая, человек допускает, что может где-то ошибаться, в чём-то уступать, быть более слабым и медленным и менее успешным.
Есть и обратная сторона медали, когда ребёнок получает послание: «Сколько бы ты ни старался, что бы ты ни делал, этого всё равно будет недостаточно» или «Ты нравишься мне, только если ты лучший». В обоих случаях к ребёнку предъявляют завышенные требования. Это усиливает тревогу быть оставленным и стимулирует потребность постоянно самосовершенствоваться, чтобы оправдать ожидания значимого человека. И это – первый ингредиент в рецепте: сильная бессознательная мотивация что-то доказать родителям, или, попросту говоря, травма, которая искажает внешний мир. Информация о жизни преломляется через полученную травму (например, установку «ты у меня лучше всех…») и становится основой, на которую нанизывается весь будущий опыт.
Говорить ребёнку «ты лучше всех» – не плохо. Важно количество и качество таких посылов. Часто мама или папа, у которых есть ощущение собственной недостаточности, желание что-то доказать миру, начинают делать это через ребёнка, постоянно повторяя: «Он у меня лучше всех». Родитель вроде хвалит малыша, но на самом деле восхваляет себя: он такой, потому что я его таким сделал. Чадо становится нарциссическим расширением[3] своего родителя. Не кем-то автономным, а просто продуктом – удавшимся или нет.
Следующий ингредиент величайшего успеха – раннее начало в сочетании с постоянством и последовательностью. В девятилетнем возрасте, будучи учеником своего отца, Пабло написал свою первую серьёзную картину маслом – «Пикадор» (с ней он не расставался на протяжении всей жизни). Картина была так хороша, что её появление заставило отца бросить живопись. Ученик превзошёл учителя. Это превосходство позволило маленькому Пикассо реализовать эдипову фантазию[4] – одержать победу над отцом. Дальнейшее развитие событий было предрешено: скоро мир увидит эгоистичного, эгоцентричного, жестокого, импульсивного, падкого на лесть, но не верящего в неё, крайне чувствительного к оценкам и критике, абсолютно равнодушного к чужим страданиям, склонного к ипохондрии, зацикленного патологического нарцисса.
Особенностями личности Пикассо объясняются и его небывалая работоспособность, и стремление во что бы то ни стало оправдать свою грандиозность. Последнее у него явно получилось на все сто. Во многом именно благодаря, как бы парадоксально ни звучало, травматическому опыту.
Как же травма влияет на талант и работоспособность? В случае Пабло ему приходилось из кожи вон лезть, чтобы подтвердить эту грандиозность. Чтобы мама, уверенная в его идеальности, не узнала, что у него есть недостатки, и не отказалась от него. Во взрослой жизни, сталкиваясь с женщинами, которые, в отличие от мамы, не считали Пикассо идеальным, он был жесток и высокомерен. До тех пор пока они не признавали его божественность. Аналогичное требование – ожидание выдвигалось ко всем окружающим художника людям. И это можно считать той самой питательной средой, которую парадоксально сам Пикассо и культивировал, патологически требуя признания и обожествления. Только внутренний страх недостаточности подстегивал его работать больше и создавать лучше, чтобы питаться от всеобщего обожания.
На основе психодиагностики и психоаналитических исследований мы предполагаем, что Пикассо не умел по-настоящему любить. Также и его сложно было искренне полюбить в ответ. Им руководил необузданный страх перед собственной уязвимостью. Люди были нужны ему, чтобы заткнуть пустующее место в душе, каждую минуту грозящее его поглотить. Временно заделав эту дыру созависимыми отношениями с многочисленными женщинами, он всё же продолжал жить в постоянной тревоге: его отвергнут, покинут, бросят. Поэтому спешил бросить первым и быть тем, кого невозможно отвергнуть.
Он просчитался только с одной женщиной. Франсуаза Жило сумела уйти от него с двумя детьми на руках. Она построила жизнь, свободную от чумы по имени Пикассо. Возможно, эту «оплошность» можно списать на немолодой возраст художника к моменту их с Жило встречи. У каждого агрессора глубоко в подсознании заложена программа «жертвы», которая активизируется именно в преклонном возрасте.
ЖИВИ ВЕЛИКИЙ ТВОРЕЦ XX ВЕКА В НАШИ ДНИ, БЕСПОЩАДНЫЕ ЖЕРНОВА КУЛЬТУРЫ ОТМЕНЫ ПЕРЕМОЛОЛИ БЫ ЕГО И ВСЁ СОЗДАННОЕ ИМ
Вероятно, с приходом старости страх быть брошенным стал для гениального художника абсолютно невыносимым. Убедив себя в том, что люди так и норовят уязвить, отвергнуть и бросить, он переключился в режим «обратного старения». Подобно Бенджамину Баттону[5], Пикассо постепенно возвращался в зависимое, но при этом безопасное младенческое состояние блаженного единения с последней своей женщиной – Жаклин Рок. Он забрал её в отдалённый замок, отгородил от мира, оставив только для себя, и так реализовал фантазию абсолютного слияния с матерью.
Можно ли простить человеку аморальные поступки по отношению к ни в чём не повинным людям лишь за то, что тот провёл жизнь в невыносимых душевных муках? Можно ли простить гению его злодеяния, потому что он сформировал всё современное искусство?
Однозначно нет. Но можно попытаться понять внутреннюю агонию, сопровождавшую художника на протяжении всей жизни. Ту, что одновременно выступила и вечным двигателем для беспрецедентных свершений, и адским пламенем, в котором сгорали все, кто слишком близко к нему подлетал.
Пикассо первым отказался от фотографически детализированной живописи и обратился к психологизации искусства. «Я пишу не то, что вижу, а то, что знаю», – любил повторять он. Художник одним из первых перешёл от отражения внешней действительности к фиксации внутреннего мира – через символы, а не объекты. До Пикассо живопись считалась обыкновенным ремеслом, источником не самого большого заработка или способом разрядки душевных метаний. С появлением стиля Пикассо искусство стало доступным, популярным, массовым.
Для этого были и экономические предпосылки: в XX веке появилось много людей со средним капиталом, которые стали покупать произведения искусства, чтобы украшать дома, – возник массовый запрос. Пикассо уловил эти тенденции и лучше других художников встроился в новые реалии. В этом, по нашему мнению, и заключается его гениальность.
Возможно, прозвучит дерзко, но всё, что мы, Поколение Y[6], имеем сегодня: социальные сети, культуру мемов[7], NFT[8], TikTok[9] – естественным образом эволюционировало из феномена, начало которому было положено Пабло Пикассо. Он создал не просто искусство, а целый язык обмена визуальными данными, запустил волну изменений, которые много позже трансформировались в новые форматы доставки контента – соцсети и так далее. Все эти новые формы сегодня и есть популярное современное искусство.
Ф. Гваттари[10] сказал: «Кино – это кушетка для бедных». В равной степени это применимо и к изобразительному искусству, которому посвятил свою жизнь Пикассо.
Считается, что эффективный психоанализ может проходить только на родном языке, поскольку символизация – это очень индивидуальный процесс[11]. Однако мы можем многое узнать о себе, посмотрев корейское или индийское кино, – для этого не нужен язык вербальный. Задействуется язык символов – родной язык бессознательного. Взаимодействуя с работой, созданной по законам символизма в противовес законам реализма, мы считываем глубинную информацию, зачастую не заложенную туда автором, по крайней мере, сознательно. Эта информация перекликается с нашими собственными переживаниями, что логично, так как любое искусство – сублимация бессознательного.
Почему говорят, что здоровые и счастливые люди не создают великих произведений? Как правило, искусство рождается из боли. Боль творца резонирует с болью потребителя, у которого тоже личных драм предостаточно. Бессознательное зрителя и создателя начинают «общаться». При этом тот, кто получает информацию, может вложить в неё смысл, отличный от того, что имел в виду автор, проецируя что-то своё. Искусство этим и ценно – оно является идеальным контейнером для переживаний потребителя.
С точки зрения бессознательного картины Пикассо – это в первую очередь символическое отражение психических процессов, нашедшее выражение на холсте. А такое искусство сонастраивается с нашими собственными переживаниями. Например, человек, который лечится от онкологии, чаще всего находится в эмоциональном раздрае. Когда он сталкивается с каким-то произведением искусства, он вкладывает в него свою боль и переживания, как бы фантазируя о том, что понимает боль автора. Это происходит, потому что всё его бессознательное сконцентрировано на проблеме, которую он в данный момент проживает.
В поисках сокрытой бессознательным первобытной, чистой, ничем не замутнённой энергии, движущей мощи всего живого на Земле Пикассо обращался к мотивам иберийской скульптуры и африканских резных масок. В этой примитивной форме, чрезвычайно популярной у парижских художников и любителей искусства того времени, в 1907 году Пикассо пишет картину «Авиньонские девицы», знаменующую конец эры канонической живописи. В картине нет сюжетности, но она наполнена почти мистическим смыслом, который окутывает зрителя с первого взгляда. Помимо формы, в которой она выполнена, сама суть эмоционального сюжета картины раскрывается как некий психологический вызов. Изображённые на холсте фигуры имеют резкие, непривычные формы, обилием граней, клиньев и углов больше напоминающие живую изгородь, чем реальных людей. Тела распадаются на неестественные составляющие и не соединяются воедино. И всё это парадоксально целостно, непрерывно, обтекаемо.
Существует две категории людей: одни безоговорочно считают Пикассо гением, другие видят в нём лишь успешный бизнес-проект. Как правило, вторых очень злит этот успех.
Злость (в том числе в адрес феномена Пикассо) возникает обычно у людей, максимально отстранённых от собственных чувств. Она появляется из-за невозможности выдерживать свои истинные, не прикрытые защитными реакциями переживания. Злость помогает защититься от самих себя как ничто другое в этом мире.
Пусть это станет пищей для размышления в финале главы, посвящённой неоднозначной личности, но всё же безоговорочному гению.
Доказательство II
Владимир Набоков
Скандальный роман «Лолита» увидел свет в 1955 году, после чего не раз был экранизирован на Западе. Книгу пытались запретить во многих странах мира, в том числе в Америке. Но, несмотря на супертабуированную по тем временам тему сексуальных отношений с подростками, эта история имеет огромную читательскую аудиторию. Сегодня имя Лолита стало нарицательным. Оно символизирует раннюю зрелость и запретное сексуальное влечение.
В чём же феномен Лолиты? Откуда такой сюжет мог взяться в голове потомственного дворянина, семья которого эмигрировала в 1919 году, спасаясь из-под обломков рухнувшей Российской империи? Что происходило с этим холёным мальчиком, любившим ловить бабочек и тоскующим по Родине?
Счастливое детство, любящие родители, среда культурных, образованных людей… Что пошло не так? Опираясь на известные факты, мы позволим себе выдвинуть гипотезу о роли травм нашего героя в рождении культового романа, который сделал его одним из самых популярных писателей современности.
Родители Набокова оба были родом из титулованных семей – династий, наделённых властью и деньгами на протяжении сотен лет. По отцу его род тянется с тех времён, когда дворянский титул присуждали боярам за гражданскую или военную службу. Мать была из менее титулованной, но всё же купеческой семьи.
В среде аристократов до революции браки заключались старым добрым сватовством. Родители тщательно подбирали пару своим чадам. Так два объединяющихся рода не только не теряли свой капитал, но и приумножали его. О любви или хотя бы симпатии речи не шло. Тем не менее родители писателя стали редким для тех времен случаем союза по любви. Бытует мнение, что ребёнок, рождённый в таких отношениях, да ещё и не испытывающий никаких лишений в детстве, редко выделяется особыми талантами.
На счастье, а может, и на беду Владимир Набоков был не совсем обычным ребёнком. В наследство от матери он получил врождённое отклонение. Которое, кстати, впоследствии оказалось и у его жены. Синестезия – когнитивное расстройство, при котором стимуляция одного органа чувств вызывает ощущения в другом.
Чтобы вам было проще понять, что чувствуют синестеты, проведём эксперимент: представьте себе лимон. Что произошло, как только вы его представили? Вы его просто увидели (пусть и у себя в голове), но ваш мозг сразу запустил последовательную цепочку реакций. Наверняка ваш рот наполнился слюной, а скулы слегка свело, как будто вы и вправду положили в рот дольку кислого лимона.
У синестетов – носителей этого расстройства – подобные отклики «не тех» органов чувств происходят постоянно. Причём иногда конечная реакция может быть логически совершенно не связана с первоначальной. Например, Набоков видел буквы или цифры в цвете. Это называется графемно-цветовая синестезия. Цифра «1» может быть красной или розовой, «7» – бордовой, буква «В» – жёлтой, а «О» иметь стальной отлив.
В каком-то смысле синестезия – это дар. Или её можно назвать геномом творчества. У людей с этим расстройством гораздо больше шансов добиться успеха в науке или искусстве. Имея дополнительные источники впечатлений, синестеты могут описать свойства вещей совершенно иным, отличным от привычного способом. Тем самым расширяя для остальных возможности восприятия. Например, художник-синестет может описать запах при помощи красок и кисти. А писатель-синестет может передать цвет словами таким образом, что читатели, не видя описываемого объекта, могут прожить всю полноту передаваемого художником опыта. Такое вот УТП[12].
Звучит неплохо, правда? Но у всего есть обратная сторона, так сказать, побочные эффекты. Синестет интуитивно понимает (или же ему это объяснили), что звук не имеет вкуса, а цвета не пахнут. Противоречащая логике информация поступает постоянно, подвергая синестета длительному травмирующему воздействию. Такая гиперстимуляция органов чувств вызывает пресыщенность впечатлениями, которые мозг и психика не успевают перерабатывать. Происходит вытеснение, своего рода защитная реакция, при которой синестет забывает событие, вызвавшее сильную эмоциональную реакцию.
Шанс, что такой человек проживёт обычную жизнь, достаточно мал. А если, помимо этого, жизнь складывается драматически, то возможность условной нормальности сводится к нулю. Так случилось с Набоковым.
Вероятно, одним из самых травмирующих событий для писателя стала вынужденная эмиграция. Семья, имевшая статус аристократии и все сопутствующие привилегии, привыкшая к уважению и признанию, к роскоши и свободе, вдруг оказалась в совершенно невозможных условиях послевоенного Берлина, обнищавшего вследствие гиперинфляции и репараций. Так как Родина символизирует образ матери, иммиграционный процесс для Набокова-младшего стал своего рода разрывом, насильственной сепарацией от всего, что олицетворяло семью, дом и безопасность.
Одним из главных компонентов феномена «Лолиты» мы считаем отношения писателя с отцом. Оговоримся, что мы интерпретируем факты на основе классических психоаналитических теорий. Так как с точки зрения психоанализа любое художественное произведение – это сновидение, или, точнее, визуализация снов, мы полагаем, что главный роман Набокова – это бессознательное развёртывание его собственной злокачественной эдиповой проблематики. А злокачественным эдипов конфликт можно считать, когда ребёнок идентифицируется с родителем противоположного пола и испытывает неосознанное влечение к родителю своего пола[13].
Стоит ещё раз напомнить, что мы имеем в виду, говоря об эдипальном влечении ребёнка к родителю. Мать – первый объект, который удовлетворяет наши первичные потребности: в еде, сне, справлении нужды, заботе и безопасности. Все эти потребности напрямую связаны с получением удовольствия. Например, когда в младенчестве ребёнок долгое время не получает пищу, это может вызвать чувство брошенности, что в дальнейшем провоцирует базовое недоверие к миру и тревогу за своё существование. И наоборот, когда мама удовлетворяет потребности ребёнка – держит его на руках, вовремя кормит и обеспечивает эмоциональный и физический комфорт, появляется чувство защищённости. Закрыв базовую потребность, ребёнок получает подтверждение, что он нужен, его любят. Поэтому, когда мы говорим о влечении, мы не имеем в виду сексуальные или романтические отношения. Исключительно фантазии об удовольствии, которое даёт ребёнку близость с родителем. Такого рода психические аспекты называются психосексуальными.
В случае с Набоковым влечение могло возникнуть из-за того, что с отцом у писателя с детства установились особенно близкие отношения. Многие отмечали их тесную психоэмоциональную связь. Например, во время домашних приёмов, которые семейство часто устраивало для своих друзей, старший и младший Набоковы использовали секретный невербальный язык. С помощью мимики, жестов, взглядов они могли обмениваться друг с другом мнением о происходящем и «беседовали» таким образом часами. Именно отец привил будущему писателю любовь к ловле бабочек. Вместе они проводили за этим занятием много времени. Это были важные для мальчика моменты единения с отцом.
В царской России недопустима была даже малейшая интерпретация, что мальчик может испытывать влечение к отцу. Это было немыслимо. Однако сегодня мы уже знаем, что с точки зрения психоанализа табуированные желания, вытесненные в подсознание, могут порождать причудливые сюжеты и образы, каким, возможно, и стал сюжет скандального романа. Другими словами, такая фантазия, окутанная всевозможными переживаниями, в частности стыдом и страхом, могла настолько сильно повлиять на психику писателя, что появилась «Лолита». Справиться с этими переживаниями было возможно, только сублимируя их в творчество.
Описание жизни девочки, влюбившей в себя «отца», может говорить об автобиографическом подтексте романа «Лолита». Поскольку мы можем предполагать, что эдипов конфликт у Набокова развивался злокачественно, то есть идентификацией с матерью, а не с отцом, бессознательно в писателе больше от девочки, чем от мальчика. Это даёт основания предположить, что роман «Лолита» – попытка привлечь внимание отца.
На формирование психотравмы писателя повлияла и трагическая гибель отца. Это случилось в один из самых сложных моментов для семьи Набоковых – через три года после эмиграции. Все они ещё не до конца оправились после потрясений, связанных с революцией и вынужденным бегством из России. Владимир Набоков-старший погиб во время покушения на эмигранта-монархиста Петра Милюкова: в здание, где проходило собрание Конституционно-демократической партии в Берлине, ворвались террористы. Будучи кадровым офицером, Набоков бросился под пули и своим телом прикрыл Милюкова. Это трагическое событие оказало на писателя сильное воздействие, от которого он не мог оправиться всю жизнь. Можно предположить, что горечь утраты повлияла и на создание его главного романа. Набоков не успел насытиться обществом и вниманием отца при жизни и через написание «Лолиты» отгоревал утрату.
Мы видим, что у Набокова, подобно всем нашим героям, присутствует нарциссическое расстройство личности с весьма сильным истерическим компонентом. Есть достаточно оснований считать, что без этого отклонения вообще невозможно ярко проявиться в любом виде творчества и стать известной личностью. Набоков любил эпатировать и жаждал внимания. Например, во время преподавания в колледже он единственный из мужчин носил брюки пастельных тонов и розовые рубашки. Такое сочетание в то время могли позволить себе только дамы. Из-за злокачественно прошедшего эдипова периода у писателя могли быть проблемы с половой идентичностью, что также указывает на истерический тип личности. Обращаем ваше внимание: Гумберт в «Лолите» тоже носил розовые рубашки.
Стоит учитывать, что мотивация демонстрировать себя у нарциссов и истерических личностей отличается. Нарциссы чаще всего хотят продемонстрировать своё превосходство, власть, силу. И желание это проистекает из внутренней недостаточности. А истерики – сказать: «Увидьте меня! Я есть!» Это мольба ребёнка, эмоции которого систематически игнорировались, были никому не интересны, справляться с ними приходилось самому. Писатель не пытался казаться кем-то большим или лучшим, он просто испытывал потребность быть замеченным и принятым. Написание «Лолиты» и последующая публикация романа, вопреки всем рискам и здравому смыслу, тоже указывают на стремление быть увиденным.
О нарциссическом расстройстве говорит и детское увлечение бабочками, которое переросло в научный интерес. Набоков всю жизнь изучал мир этих загадочных созданий, писал о них исследовательские работы, а его коллекция мёртвых чешуйчатокрылых насчитывала по разным оценкам около 4300 экземпляров. Сейчас эта коллекция хранится в одном из швейцарских музеев.
Что такое бабочка с точки зрения аналитического восприятия? Отвратительный червяк, волшебным образом превратившийся в прекрасное создание. Для людей с нарциссическим расстройством бабочка может интерпретироваться как маска, под которой прячется всё тот же жалкий червяк. Эта маска позволяет почувствовать себя кем-то иным, большим и значимым, привлекательным и желанным. Кроме того, учитывая короткий срок жизни этого насекомого, такая фиксация может означать страх смерти и невыносимую тревогу: я ничего из себя не представляю, и даже прекрасная маска спадёт через сутки.
Набоков не просто охотился на бабочек, он их коллекционировал. Для этого, как известно, нужно умерщвлять живое существо, протыкая его тельце специальными тонкими иглами. Бабочка, как мы понимаем, образ женский, и, возможно, для писателя это была попытка уничтожить женскую часть в себе, чтобы возмужать и быть принятым в обществе.
Как видите, жизнь всемирно известного писателя трудно назвать счастливой. Травмирующие внутренние и внешние процессы заставляли его психику вновь и вновь использовать защитные механизмы. В период, когда Набоков ещё сочинял на русском языке, и его читателями в основном были друзья-эмигранты, он издавался под псевдонимом Владимир Сирин. Причин для того, чтобы взять себе псевдоним, было несколько. Во-первых, писательство в аристократических кругах считалось занятием неподобающим. Во-вторых, фамилию Набоковых хорошо знали в политических кругах благодаря отцу, а значит, писать под своим именем было небезопасно. В-третьих, для Набокова это было средством психологической защиты. Псевдоним в психоанализе указывает на расщепление личности. Оно происходит, когда основной личности угрожает какая-то серьёзная опасность и психика не справляется со страхом. Основная субличность начинает наделять новую (или, если их несколько – новые) качествами, которых нет у неё самой, чтобы «постоять за себя». Как правило, страх, породивший субличность, безоснователен. Субличность – это фантазия о неком взрослом, который должен защитить. При этом основная личность уже не появляется, за исключением редких случаев.
Писатель вернул свою фамилию только после переезда в Америку, где начал издаваться на английском языке. Вероятно, всё, что угрожало его личности раньше, со сменой континента, окружения и, главное, потенциального читателя, уже не имело такой значимости.
НАРЦИССЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ХОТЯТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЁ ПРЕВОСХОДСТВО, ВЛАСТЬ, СИЛУ. А ИСТЕРИКИ – СКАЗАТЬ: «УВИДЬТЕ МЕНЯ! Я ЕСТЬ!»
Отношения писателя с женщинами заслуживают особого внимания и являются подтверждением его истерических и даже мазохистических наклонностей. В его семейной жизни присутствуют и садомазохистические наклонности, причём с обеих сторон, и подмена ролей, и стремление к полному слиянию. Обо всём по порядку.
Начнём с того, что в качестве будущей жены Набоков выбрал еврейскую девушку – Веру Слоним. В то время в кругах российских эмигрантов такой союз вызывал сильнейшее социальное неодобрение, а потому казался невозможным. Она – еврейка, он – православный столбовой дворянин. Это были люди из очень разных религиозных прослоек. Для российской элиты до 1917-го года религия и православие были моделями неотделимыми. Весь быт и светская жизнь семьи Набокова были тесно связаны с религиозными канонами. То же самое и со стороны Веры – евреи в дореволюционной России были ультрарелигиозными. Так что, если бы они попытались пожениться до эмиграции, скандал был бы покруче, чем описанная Толстым трагедия Карениных, в чью идиллическую семейную жизнь вторгся красавец Вронский.
Выбор девушки-еврейки означал добровольное согласие Набокова с тем, что всё окружение возненавидит его и, где бы он ни появлялся, будет с осуждением провожать взглядом. В те годы это было сродни социальному самоубийству. Вероятно, в этом поступке присутствовал компонент подросткового бунта: «Я выберу того, кого родительская фигура в виде социума не принимает». В результате мы видим двух людей, которые разорвали все социальные связи. Сознательно и открыто на такое идут только люди с мазохистическим типом личности.
Кроме всего прочего, это была необычная пара. На первое свидание с Набоковым Вера пришла в маске волка. Фрейд бы назвал волка её тотемным животным. Мы не знаем этого наверняка, но, если интерпретировать её поступок согласно теориям Фрейда, он говорит о том, что, в отличие от Набокова, Вера идентифицировала себя с мальчиком. Вытянутая форма волчьей пасти – это фаллический символ, который свидетельствует о маскулинности Веры и явно выраженном у неё мужском начале. С психоаналитической точки зрения тотемным животным становится то животное, которое мы хотим поглотить – вобрать в себя. Любое тотемное животное – это проекция неких внутренних аспектов. Присваивая тотемное животное, мы как бы наделяем себя его силами, характеристиками и качествами. Тотемное животное может приходить к нам во сне или в некоем видении, ведь сновидение – это реальность, закодированная в ассоциативный ряд, посылаемая нашему бессознательному.
Выбрав в качестве тотема волка, Вера как бы поместила в этот объект то, что для неё желанно, но в то же время страшно и опасно. Волк – в первую очередь хищник, тот, кто ест других живых существ, часто больных. Больной – значит, слабый, без пяти минут мёртвый. Это дает иллюзию превосходства.
Если не копать глубоко, а просто посмотреть на эту пару и на то, как была устроена их жизнь, не сразу понятно, кто из них мужчина, а кто женщина. Например, Вера почти всегда ходила с пистолетом и отлично стреляла. При оформлении разрешения на оружие она сказала, что пистолет нужен, чтобы отстреливаться от змей во время охоты на бабочек. Представляете, как хорошо нужно стрелять, чтобы попасть в змею? При этом змея – тоже фаллический символ. Довольно интересно, что эта женщина одним фаллическим символом пыталась защититься от другого.
В романах Набокова прослеживается фиксация на этом огнестрельном оружии. Возможно, из-за того, что у самого писателя этого внутреннего «пистолета» не было. Он был у Веры, и это могло стать основой созависимых отношений. Кстати, знакомство с Верой совпало с периодом, когда Набоков потерял отца, и, вероятно, девушка в каком-то смысле заменила писателю погибшего родителя.
Набоков долгие годы не мог получить признания и почти ничего не зарабатывал. Какое-то время пара вела абсолютно нищенское существование: романы, которые издавал автор, никто не читал, кроме русской эмиграции. Взяв на себя заботы о материальном благополучии, Вера позволила писателю творить. Она была его редактором, негласным менеджером и, как сказали бы сейчас, продюсером.
В период, когда Набоков преподавал в Корнельском университете, Вера носила за мужем портфель, стирала с доски в аудиториях, читала лекции вместо него, когда он болел, устанавливала связи с издательствами и занималась продвижением рукописей.
Набоков «выстрелил», только когда они с Верой уехали в Америку. Там, начав писать на английском, он и создал бестселлер «Лолита», который принёс ему бешеную популярность.
Можно сказать, что Набоков как личность был отчасти нефункционален и в высокой степени инфантилен. Это похоже на перверсивные отношения. Или, проще говоря, на перестановку ролей, когда жена оказалась мужем, а муж – женой. При этом Набоков всю жизнь заводил романы на стороне и порой даже не скрывал этого. Можно предположить, что с женой Набоков не спал – она была для него отцом-мужем, но не объектом вожделения. Его измены приносили страдания обоим.
На одной из своих лекций в Париже, уже будучи известным писателем, Набоков познакомился с девушкой Ириной, тоже русской эмигранткой. У них завязался бурный роман. Эти отношения стали публичными, и Набоков даже хотел уйти от Веры. Из Парижа Ирина отправилась с Набоковым в его с Верой семейный дом, и какое-то время они жили все вместе. Любовники преспокойно ходили загорать и купаться на пляж, вели себя так, будто ничего не происходит. В этом любовном треугольнике Вере приходилось особенно несладко. Однако даже после этого она не ушла от мужа. Анализируя её личность, можно предположить, что от страданий она получала выгоду. Человек с мазохистическим типом личности подсознательно моделирует ситуацию, в которой партнёр изменяет, бьёт или ещё как-то причиняет боль и унижения.
Если с супругами Набоковыми и их садомазохистическими наклонностями всё понятно, то для чего такой опыт понадобился их новой знакомой Ирине? Вероятно, поездку в дом Набоковых и попытку влезть в отношения семейной пары можно расценивать как фантазию попасть в родительское ложе. Залезть в кровать папы с мамой и лечь между ними, чтобы защититься от базовой тревоги, чувства исключённости: «Я нужен родителям, я не одинок».
Часто родители позволяют ребёнку спать с ними. В таком случае ребёнок не научается работать с тревогой, у него не развивается самодостаточность. В дальнейшем такой человек может вмешиваться в чужие интимные отношения. Такое вмешательство, как и участие в групповом сексе, в психоанализе расценивается как стремление почувствовать себя частью чего-то важного с целью «выжить».
Очевидно, что многие люди не способны выдержать одиночество. Они не расстаются с партнёрами, даже когда им плохо в отношениях, потому что остаться одному равносильно смерти. «Если меня не видят – меня нет». В конце концов стремление создавать семьи и размножаться – это не что иное, как попытка избежать смерти.
Вернёмся к нашему любовному треугольнику. В период, пока Ирина проживала с Набоковыми под одной крышей, у писателя обострился псориаз. Это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое проявляется в виде бляшек розово-красного цвета. Поражённая поверхность сильно шелушится и покрывается чешуйками. Всё это может сопровождаться зудом и болями, причиняющими страдания как физические, так и моральные. Если рассматривать болезнь как проявление психосоматического поведения, псориаз может быть признаком трёх разных потребностей. Первая – привлечь к себе внимание. Человек бессознательно пытается подать сигнал, чтобы его пожалели. Вторая – наоборот, укрыться от внимания. Выглядеть отталкивающе, чтобы никто не подходил и не трогал. Третья – обрести контакт с самим собой, ощутить своё тело. Эта потребность обостряется, когда человек входит в психотическое состояние и задается вопросами: где я, кто я, часть чего я или что часть меня?
У Набокова болезнь проявилась, когда в его жизни возникла вторая женщина, связь с которой не просто была открытой – он оказался с женой и любовницей под одной крышей. Писатель метался в попытках решить, с кем ему остаться, и, вероятно, хотел спрятаться от обеих женщин за психосоматической маской неприкасаемости.
Итак, мы выяснили, что нарциссический компонент, который прослеживался в чете Набоковых, выражался в садомазохистических отношениях. Им обоим нравилось и страдать, и издеваться. Если такие люди соединяются, они уже не могут друг без друга. Их отношения – это форма слияния. Есть такое психологическое явление, когда два неполноценных человека, сливаясь, пытаются образовать один объект. Как птицы, которые соединяются, когда у каждой повреждено разностороннее крыло. Можно лететь дальше, но этот полёт не назовёшь естественным и гармоничным.
Полное слияние супругов выразилось даже в способе их погребения: прах Веры был смешан с прахом Набокова и развеян. Мы видим, что личных границ и рамок в этом союзе просто не было.
Неизвестно, как отношения с реальными женщинами повлияли на написание главного романа Набокова. Было сделано немало попыток провести нить, соединяющую реальную жизнь писателя с историей его героев. Пик нападок и разоблачений пришёлся на момент выхода романа. Причиной послужили многочисленные слухи о сексуальных отношениях писателя со студентками во время его работы в университете. Однако фактов связи Набокова с малолетними никто так и не обнаружил. Вероятно, их и не было: тема интимных отношений несовершеннолетней Лолиты и Гумберта – это, как мы уже выяснили, выражение бессознательной фантазии писателя, а точнее, его внутреннего подростка, который у Набокова был женского пола.
Источником визуального образа Лолиты, как внутренней, так и книжной, могла послужить реальная девочка. В юности Набоков стал случайным свидетелем купания своей ровесницы Поленьки, дочери кучера. Можно сказать, что это был его первый сексуальный объект. Примечательно, что им было по 14 лет, как и героине скандального романа.
ЧАСТО РОДИТЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ РЕБЁНКУ СПАТЬ С НИМИ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ РЕБЁНОК НЕ НАУЧАЕТСЯ РАБОТАТЬ С ТРЕВОГОЙ, У НЕГО НЕ РАЗВИВАЕТСЯ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ.
Есть ещё одна нить, связывающая фантазийный мир писателя с реальным. Правда, речь уже не о сексуальной жизни автора, скорее о неоригинальности его идеи. Сара Вейман, американская журналистка и криминалист, написала книгу «Настоящая Лолита» (The Real Lolita), в которой доказала существование связи между романом и историей громкого преступления. 11-летняя девочка по имени Салли Хорнер два года находилась в сексуальном рабстве у 40-летнего Фрэнка Лассаля. Мужчина увёз школьницу в другой штат и жил с ней открыто, убеждая окружающих, что это его дочь.
Казалось бы, это многое объясняет! Писатель услышал леденящую кровь историю и решил положить её в основу романа. Но и в этом случае стоит учитывать, что человек без отклонений не стал бы так глубоко погружаться в подобные истории. Мы всегда подсознательно ищем то, что есть в нас самих. И если человек не в состоянии реализовать свою фантазию в жизни, он пытается сублимировать её через увлечения. Если отношения Гумберта и Лолиты – это, в случае Набокова, отношения внутреннего подростка с отцом, получается, писатель присвоил себе эту историю как очень подходящую.
Набоков – уникальный писатель, который не только сохранил стиль русского романа, но и сделал его всемирно известным. Судя по популярности «Лолиты», поднятый им вопрос сексуального аспекта взаимоотношений детей и родителей отозвался в умах огромного числа людей. Эта тема не перестаёт интересовать читателей на протяжении более чем полувека. Набоков не побоялся вынести на публику глубоко личные травмы, связанные с половой самоидентификацией.
Благодаря поддержке окружения, в частности жены, он смог посвятить всю жизнь писательству. «Подогретая» идеями Фрейда, фривольная американская публика была готова принять и переварить то, что предложил ей Набоков. Она дала писателю ту самую питательную среду в виде так необходимого ему внимания к собственным вытесненным переживаниям. А то, что книга была написана на английском языке, стало настоящим реактивным топливом для взлёта его популярности во всём мире. Всё это позволило читателям заглянуть в самые тёмные и неприятные закоулки коллективного бессознательного, а Набокову – стать самым известным русским писателем XX века.
Его наконец-то «увидели».
Доказательство III
Мэрилин Монро
Белокурой малышке пять лет. За ней гонится огромная собака. Оскаленная пасть, пена на губах, бешеные глаза. Собака молча – и от этого ещё страшнее – приближается. Крошка Норма бежит к маме, и в последний момент, когда спасение так близко, мама равнодушно отворачивается и уходит.
Мэрилин с криком просыпается и тянется к таблеткам. Она никак не может успокоиться.
Пожалуй, сложно назвать детство Мэрилин Монро (урождённой Нормы Джин Бейкер) безоблачным. Девочка была третьим – нежеланным – ребёнком. Её мать Глэдис Перол проводила жизнь в любовных утехах, переходя от одного мужчины к другому. И поэтому даже не знала, кто отец девочки. По другим данным, папаша сбежал сразу после появления Нормы на свет.
Мать страдала психическими расстройствами и была абсолютно не готова воспитывать ребёнка. Она отдала Норму своей сестре, которая, в свою очередь, перепоручила заботы о малышке сиротскому приюту.











