Читать онлайн Алхимик Великой империи
- Автор: Евгений Зеленский
- Жанр: Современная русская литература, Историческая литература, Научная фантастика
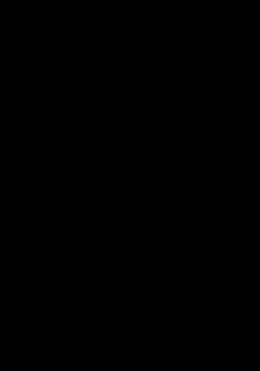
Часть 1
Глава 1
Санкт-Петербург, ноябрь 1752
Огненная вспышка прожгла покрывало темноты, накрывшее величественный город Петра. Тугая волна взрыва выбила стекла невысокого кирпичного здания, выстроенного на второй линии Васильевского острова, неподалеку от Невы. Звеня и бросая блики отраженных луны и пламени, брызги стекла оросили улицу, спугнули случайных прохожих. Пара деревенских на вид мужиков в драных армяках, для отдохновения души устроивших хмельной вояж по ночному острову, бросились наутек, истошно подвывая:
– Як колдун зело лютый! Ай Федька бегом отседа пока животы не поклали!
Второй согласно подвывал что-то, стараясь не поскользнуться на свежем льду, глазурью покрывшем мостовые ноябрьской столицы.
Надругавшись над покоем спящего города, взрыв почти сразу утих. Морозный ветер хлынул внутрь здания, сдувая танцующие языки огня, весело заплясавшие на остатках деревянных рам.
«Профессор химии, – писал Михаил Васильевич Ломоносов, – должен жить поблизости от того места, где будут проводиться химические операции. Так как последние часто длятся целые дни, то необходимо и чтобы дом его соединен с химической лабораторией был».
Михаил Васильевич вынырнул из-за железного короба, где предусмотрительно укрылся от случившейся вскоре оказии. Стуча каблуками по осколкам, издававшим жалобный хруст, ученый бросился к письменному столу. К величайшему облегчению три свитка не пострадали.
Сделанные из прочной кожи они, казалось, слегка светились в сумраке лаборатории. Пульсирующее их мерцание гипнотизировало и всякий, завидев шероховатую поверхность, отчетливо ощутил бы, как руки сами тянутся потрогать, развернуть, узнать, какие тайные знания там затаились.
Михаил Васильевич с облегчением выдохнул и опустился на стул, чудом не опрокинутый взрывом на холодный каменный пол. Прямо напротив стола равнодушно гудела печь, тепло от которой грело во время долгих ночных экспериментов. Ветер надвигающейся зимы набросился и жалил ледяными укусами – Ломоносов зябко поежился.
– Чаво стряслося-то, барин? Живы али как? – в проеме двери, исцарапанной осколками разлетевшегося стекла, показалось бородатое лицо, с лихим блеском и нотками укоризны глядящее на безумства местного колдуна. Давно, впрочем, к оным привыкшее.
– Жив, жив, – ответствовал Ломоносов, – ты, Ваня, лучше стеклом займись – ночи больно уж суровы стали – с воды круто дует. Да кладовую поспешно разгрузи – в ней стены кирпичные – там и продолжу. Никого, авось, не задену.
– Славься, Боже, все живы. Вы барин, все суетитесь, да суетитесь, отдохнули б что ль…
Ломоносов смерил приписанного к лаборатории слугу строгим взглядом. Под ледяным взором вспыльчивого господина Иван немедленно стушевался и потупил взор, глядя на усталые валенки, носимые им большую часть года. Глядя на его притворное раскаяние, Михаил Васильевич смягчился.
– Ленивый человек, Ваня, в бесчестном покое с неподвижною болотною водою сходен. А она, да будет тебе известно, кроме смраду да презренных гадин, ничего произвести не способна!
– Угу, – гулко согласился Иван, – а это, про кладовую то. Это мы поняли! Это мы быстро-с! – мужик развернулся и бросился хлопотать, раздавая указания паре вбежавших следом, также разбуженных взрывом служителей. У профессора химии таковых в сей год было три – а больше и не надобно.
Протирая сонные глаза чумазыми руками, мужики похватали веники – лаборатория вспорхнула суетой. Дыры в окне были наспех закрыты досками, поверх которых набросили старое, набитое соломой и каким-то ткацким мусором одеяло, невесть откуда притащенное. Приткнули щели старыми тряпками. Сразу стало теплее, сквозняки улеглись.
Михаил Васильевич удовлетворенно цокнул, развернулся на каблуках и, бормоча себе под нос какие-то расчеты, обвел комнату рукой, словно чертя невидимую окружность.
– Бор? Может, окись бора? Да нет – не то! – ученый возбужденно расхаживал по лаборатории не замечая ничего вокруг, погруженный в размышления. Крепкие каблуки давили стекло, белым порошком растирая его на каменном полу.
Придворный алхимик императрицы Елизаветы Петровны, Михаил Васильевич совсем не гордился этим, почти насильно врученным ему титулом. Он не любил бывать при дворе. Неизбежные ужимки, интриги, подхалимство и лебезящие языки, на все готовые, лишь бы хоть на миг согреться в лучах тепла Ее Величества, побыть фаворитами. Нет, этого Ломоносов не терпел – право же, тошно!
За эту невольную гордость двор платил Михаилу Васильевичу взаимностью – на теплоту и поддержку он рассчитывать не мог. Да что там – бывало, даже малейшие его просьбы к казне о выделении средств холодно игнорировались. Что же до немцев в Академии – они и подавно вставляли палки в колеса научной мысли гениального, но слишком уж вызывающего своей загадочностью русского мужика. Пришедшего невесть откуда, с дремучего Поморья, просвещать молодую империю взялся… а кто таков то будет? Непонятно!
– Так, а ежели…? Да-да, вот это можно попробовать! – Ломоносов бросился к печи, в горниле которой были расставлены тигли1 с пузырящимися, расплавленными металлами, окисями и один Бог ведает чем еще. Поддев один такой кочергой, Михаил Васильевич вылил содержимое в упорное к температурам корыто с жарко мерцающей рыжеватой, густой жидкостью – расплавом стекла. Глухо булькнуло, словно стекло знакомилось с гостями и, повздорив, зашипело, вздымаясь пузырями. В точности как оно бывает у людей!
Ломоносов удовлетворенно кивал, продолжая бормотать что-то себе под нос. Пара ловких движений и в корыто вылилось содержимое еще одного тигля. Стекло вновь зашипело. Рыжая, раскаленная его поверхность пошла волнами, то тут, то там сверкая серебристым отливом. Какое-то время ученый увлеченно выдувал из получившейся смеси шар, стараясь придать его стенкам правильную форму и избежать, насколько возможно, пустот.
Снова стало жарко. Под шерстяным камзолом, поверх которого Ломоносов набросил привычный, прожженный в нескольких местах халат, заструился пот.
– Там, барин, милость ее Елизавета Андреевна, жена-с истребовать Вас очень уж велит! Испужались… Уточнить велят, чтобы, так сказать, собственными глазами в Вашем благополучии то полном убедиться-с…
Зная, что встречи все равно не избежать и проклиная день, когда решил выстроить лабораторию непременно рядом с домом, Ломоносов коротко кивнул Ивану. Покидать лабораторию, успокаивать родных, слушать все эти искренние, но такие долгие причитания… А кто закончит эксперимент? В тиглях бурлило. Лопались пузыри.
Взволнованная супруга, метая искры праведного гнева, с немецким акцентом отчитывала двух служивых, не пускавших даму внутрь лаборатории.
– Никак невозможно, сударыня, помилуйте! Не велено, совсем нельзя! – отбиваясь от взволнованной женщины твердили сторожа.
– Михаэль, Михаэль! – воскликнула Елизавета Андреевна с облегчением, едва за их спинами показался силуэт Михаила Васильевича. Глаза Елизаветы Андреевны светились укоризной.
Наспех накинув меховую шубу поверх ночной рубашки, она стояла в сопровождении приосанившегося домашнего слуги. Весь ее облик наглядно сообщал Ломоносову – своими фокусами ты сведешь меня в могилу, ну за что!?
– Порядок, Лиза, полный порядок! Домой, иди скорее домой! Я уже совсем близок, сейчас не могу, не могу, клянусь тебе! – ученый попытался выпроводить жену, чтобы поскорее вернуться к работе, пока смеси не успели затвердеть, а реакция остановиться. Это оказалось совсем не просто – хваткая немка вцепилась и не позволяла мужу покинуть полуночную аудиенцию не выслушав все ценные советы, предостережения и пожелания, вихрем вылетавшие из напуганной женской головы.
Несколько минут бурных объяснений ушли на восстановление порядка и, едва отправив Елизавету Андреевну домой, Ломоносов проворно забежал обратно в лабораторию, хлопнув при входе окованной железными полосами дверью – для прочности.
– Ванька, готово? Ну как там? Уже разобрали склад, как я велел?
– Дык это, само собой, барин, все как приказывали-с – Иван, на пару с дюжим мужиком в зипуне, вытаскивали какой-то увесистый мешок, оставляя на каменном полу заметные следы. Что-то пролилось, ну да и Бог с ним. Кажись вот все и вытащили.
– Да какой я тебе барин то, Ваня… – задумчиво пробормотал ученый. – А впрочем, да это все равно – зови, как знаешь, – Михаил Васильевич удовлетворенно кивнул.
***
– Когда стекло подвергается равномерному давлению со всех сторон, а именно это там сейчас и происходит, расстояние между атомами в нем быстро сокращается и они… ну как бы сближаются. Понимаешь?
Иван округлил глаза и согласно замычал. Было страшно – сейчас ведь как рванет…
– Структура его внутренняя изменяется, придавая прочность такую, что и огонь любой держать способно, да и того мало – от давления изнутри не разрывается.
– Страх-то какой! А зачем это-ть все, барин? В акадимиях за такие штуки хитрые денег много плотют?
– Если бы… – усмехнулся Михаил Васильевич. – Это, Ваня, для потомков. Мало ли где и на что оно им сгодится..? Вещь в своем роде уникальная! Я ж тебе говорю – любые температуры, любое давление…
– Так-то оно так, барин – согласился Иван, – а ну ежели как в прошлый раз шибанет?
За стеной зашипело. Нагнетающе дрожал воздух. Профессор слышал испуганное сопение Ивана. Мгновения, казалось, сливались в единое тягучее полотно напряженного ожидания – выдержит или нет?
– Там Ваня сейчас газ нагревается – я внутрь его много закачал. А ты вот что мне скажи— происходит то с ним что? Ежели температуры высокие?
– Б-у-у-х? – Иван бесхитростно улыбнулся, обнажая зияющую щель на месте переднего зуба – кабацкие приключения, к наукам непричастные.
– Сам ты бух! Горячие газы расширяются. А стекло их удерживает! Газы в ответ ну, знаешь, сердятся – а давление на стенки оттого растет, понимаешь?
На роль помощника великого ученого Иван подходил скверно. В качестве же собеседника о сложных материях физической или иной какой науки не годился и вовсе. Ну так и что? Не в тишине же ждать! Человеку словом обмолвиться приятно, разъяснить… А уж понимай или нет – это дело десятое.
Стало тихо. Иван громко сопел, готовый к любому повороту событий. Ожидал, конечно, худшего – у барина вечно так. Что ни взрывается, то раскалывается. Что ни раскалывается – непременно прольется.
– Посмотрю, штоль?
– Не сметь! – Ломоносов ухватил повернувшегося было к двери Ивана за рукав армяка, удерживая безрассудного смельчака. – Взорвется – осколками тебя насквозь изрешетит, дурень! Тут и помрешь!
Резкий свист пронзил тишину и оба подпрыгнули от неожиданности, озираясь и прислушиваясь. Звук вышел жутковатый, словно ребенок протяжно заплакал.
– Никогда прежде так долго не выдерживало – какой удивительный материал получился! – восхищенно прислушивался Михаил Васильевич.
Ничего. Тишина. Через несколько минут стало ясно – стекло выдержало. Возбужденный, охваченный радостью новой победы, Ломоносов бросился в соседнюю комнату и с размаху сел за писчий стол. Звякнула сотня стеклянных предметов, покачиваясь и едва не падая с полок.
Схватив перо, Михаил Васильевич убористым почерком, нетерпеливо, пока еще свежо в голове, записывал все детали нового открытия. Желтоватой бумаге, хрустящей под его пером поверялись с трудом и смертельным риском вырванные у мироздания тайны. Плоды многочисленных ночных изысканий.
«Форма шаровидная, без пустот, состав надлежит испробовать следующий…» – писал ученый.
«К расплаву добавить три окиси, а в качестве катализатора…» – рука порхала над бумагой.
«Сойдет за яйцо, что алхимики европейские на свой манер философским именуют. Однако же, оное и на наш манер русский может в делах разных пригодиться, где температуры высокие с давлением огромным место иметь могут и управляться с ними как-то надобно».
Когда ученый закончил – за окном уже светало. Первые лучи солнца тусклыми тенями ложились на пол, тут и там пробиваясь сквозь дыры в одеяле, нелепо наброшенном поверх забитого досками оконного проема. На длинной полке, прибитой сразу над массивным дубовым столом, расставлены были стеклянные фигурки. Большинство из великого их здесь множества выдувал лично Михаил Васильевич. Красные, словно рубины – к которым в сплав золото добавлено было, зеленые, лазурные, бордовые и цвета штормового моря – разные окиси и составы придавали стеклу и конечным из оного изделиям удивительные свойства и любой окрас.
– Вовсе и не хуже, чем мы у римлян находим, – профессор удовлетворенно провел рукой по мозаике, блеснувшей в рассветных лучах, – а может даже чуточку лучше – Ломоносов улыбнулся.
Натруженные пальцы скользнули по гладкой, отполированной поверхности смальты. Лишенный пор материал призван был послужить долго, на века сохраняя новизну и блеск всякой мозаичной картины, что из него сложат умельцы и творцы. Сваренная смальта очаровывала красочной глубиной и филигранно пригнанные один к одному края ее создавали эффект цельного, неразрывного образа.
Словно живой, на усталого Ломоносова взирал отец императрицы Елизаветы Петровны. Вздернутые усы, прямой длинный нос, загадочная, будто слегка насмешливая улыбка – Петр Великий смотрел куда-то сквозь первого русского академика, словно и восхищаясь своим подданым и веля голове его светлой не кружиться от успехов чересчур. Не останавливаться в неустанных трудах на пользу молодой отчизне. Много еще испытаний предстоит!
Искренне восхищаясь самодержцем, сумевшим могучим рывком выдернуть Россию из болота многовековой архаики, Ломоносов задумал было украсить мозаиками множество стен Петропавловской крепости. Мысль разбавить ее мрачную, по-военному скупую атмосферу хотя бы и такой небольшой толикой благородных искусств давно крутилась на уме. Изыскать бы только средств. Убедить в полезности сего проекта дворцовых сибаритов. Куда там… не живут же они там! Оно им зачем будет важно?
Закончив описание, Михаил Васильевич обернулся на свитки, лежавшие на другом конце стола. Мерное свечение, так часто замечаемое им по ночам сейчас, казалось, пропало. Отодвинув стул Ломоносов встал, с хрустом усталых позвонков выпрямился во весь свой статный рост и шагнул к свиткам, ухватив лежавший посередке.
Беззвучно развернувшись, словно в ответ тот полыхнул гущей непонятных значков – пиктограмм, испещривших древнюю, ссохшуюся от времени поверхность кожи. Свиток в руках был белым, цвета молочной пенки. Рядом лежали еще два – черный и алый. Тут и там виделся почерк Михаила Васильевича. Некоторые знаки объединяясь в группы.
Положив развернутый пергамент на стол, ученый потянулся за пером, небрежно макнул в чернильницу кончик и обвел новую группу символов, поставил рядом увесистую галку. На миг показалось, что свиток вздрогнул, а пиктограммы вспыхнули, словно приняли ответ. Наверное, просто луч солнца скользнул по поверхности.
Устало бросив перо, профессор выпрямился и отпустил свиток. Медленно, словно нехотя, он сворачивался, принимая привычную форму. Лишь новая галка, блеском свежих чернил выделялась на желтоватом полотне, словно чернильная птица расправила крылья и вот-вот готова вспорхнуть ввысь.
Михаил Васильевич взял обитый кожей плотный тубус и аккуратно вставил все три свитка в подходящие им отверстия – пазы, выбитые внутри легкого, но очень прочного чехла, с которым он предпочитал не расставаться. Далеко не единожды уже его пытались выкрасть. Да чего уж там – впервые, еще в Германии, во Фрайбурге, когда совсем молодой, но уже умевший постоять за себя, Ломоносов обнаружил в своей спальне профессора горного дела, места которому там совершенно не было.
Какой разразился скандал! Вмиг утративший все благородство Михаила Васильевича, даровитого выпускника славяно-греко-латинской академии, перед застигнутым врасплох немецким профессором сжимал пудовые кулаки Михайло – русский мужик с сурового русского Севера – с Поморья.
Отколошмаченного, протрясенного и униженного, профессора выносили с поля брани два сторожа, поливая Михайло отборными немецкими ругательствами, но бессильные ему что-либо предъявить. Устав не предполагал профессорам, пусть даже и горного дела, проникать в спальни студентов, позоря и себя и академию и, что куда страшнее, строгие лютеранские нравы! Это же надо, какой бесславный конфуз!
Сейчас, много лет спустя, охотники до тайн Ломоносова стали намного опаснее. Могущественный Шумахер со всей иностранной кликой наперевес. В Академии ученые мужи конкурировали так лихо, словно не тайны природы изучать здесь собрались, а лишь свою собственную персону самодержцам подороже предложить. Поговаривали, что и кто-то из дворцовых внимание проявлять удумал, приглядывать за профессором. Нужно держаться начеку! Втираясь к царям да царицам в расположение, даже и вчерашний холоп, ежели в фавориты пролезет, великое могущество обрести может. Многое натворить способен делается. Да оно впрочем ведь и не на одной Руси так – слаб человек, даже ежели и Государь миропомазанный, на Царствие благословленный…
Много лет Михаил Васильевич беспокоился о сохранности таинственных свитков, вот только совсем не потому, что крылось в них что-нибудь до того ценное, за чем охотиться бы, хоть жаждущим богатства, хоть любопытным до вселенских тайн стоило. Едва ли кто-то во всей молодой империи и оказался бы способен понять их содержание.
Ну уж нет! Не здесь и не сейчас. Дело было совсем в другом. Любой ценой Ломоносову нужно было довести назначенную ему свыше работу до конца. Расшифровать красный свиток. Расшифровать их все! Прочесть то, что немыслимо сложным шифром закодировали в формулу, обещавшую раскрыть секрет природы и превращения всех веществ. Что там откроется? К чему приведет?
О том лишь сумевший не свернуть, не сбиться и пройти весь путь до конца узнает. Если таковой во всем свете вообще отыщется. Не каждой ведь эпохе такой дан…
Глава 2
Санкт-Петербург, август 1884
– Сашка, беги сюда! – махал рукой Вильгельм Эренфрид Пель, для удобства и на русский манер нарекший сам себя Василием Васильевичем – так и записали!
На хрипловатый, добродушный голос обернулся русоволосый мальчик лет девяти, одетый в аккуратное, хотя местами уже изрядно протершееся пальто, из-под которого виднелись загнутые (на вырост) брюки и шерстяная жилетка, словно Сашка был ростом еще маленьким, но в остальном уже хотел казаться взрослым.
– Сейчас, Василь Василич! Я забегу! – звонкий голос заставил обернуться булочника, вытиравшего испачканные мукой руки о свой фартук и извозчика на проезжавшей мимо телеге. Ломовая лошадь его устало пыхтела, цокая давно просившими новых подков копытами по пыльной булыжной мостовой.
Окружающие приветственно улыбнулись – Василия Васильевича тут знали все. Преуспевающий фармацевт, вот уже почти пол века минуло, как он выкупил дом номер шестнадцать, что на седьмой линии Васильевского острова. С немецкой обстоятельностью организовал здесь скромную аптеку, стал исправно работать, а она возьми да разрастись в целое производство, с лабораторией в довесок.
Не жалея средств закупив на исконной своей родине оборудование и реагенты, профессор Пель объявил священную войну поддельным лекарствам, затопившим Петербург стараниями тысяч шарлатанов и случайных проходимцев. Не было отбоя от желавших легкой наживы, а лекарства стоили дорого, население темное, подделать не велика мудрость. Может ли скверный человек перед соблазном быстрых барышей устоять?
Педантичность, упорный труд и подчеркнутая вера в невозможное давали свои плоды – безвестный прежде доктор Пель смог объединить всех аптекарей громадной столицы в гильдию, ввести методы контроля сырья и чистоты, отстаивая честь своей профессии. Дела фармацевтов и без того издавна были окружены ореолом всевозможных подозрений. Далеко не всегда светлых.
Дом семейства Василия Васильевича на седьмой линии, лихо разрастаясь и вширь и ввысь, послужил даже в некотором роде таможней, сквозь строгую линзу которой проходили все привезенные в столицу ингредиенты для будущих лекарств. Контракты с нечистоплотными поставщиками безжалостно рвались, мошенники сажались в казематы – здесь царская канцелярия всегда принимала сторону обрусевшего немецкого доктора, зная и уважая его за безукоризненную честность.
Невозможное предпочло случиться – сын простого сапожника, Василий Васильевич Пель стал Поставщиком Двора Его Императорского Величества Александра III, получив от государя дворянский титул и даже право иметь полноценный герб! Передавать его по наследству. Деньги заслуженным потоком хлынули к семье Пелей, так что уже на излете 1875 года Василий Васильевич с облегчением передал бразды правления семейным делом старшему сыну – Александру.
– Дерзай, мол, на рельсы встали. Разгоняй дальше этот поезд сам – вези аптекарское дело столицы в светлое будущее.
Пока одни возвышались – иные падали. Отец Сашки – граф Владимир Сергеевич Толстой, был дальним родственником Льва Толстого, которого он был порядком младше. Хитросплетением судьбы ветви их рода давно разделились, так что они не общались и даже случись такое однажды – не признали бы друг друга в лицо на улице.
Держа нос по ветру, вдохновившись веяниями эпохи, Владимир Сергеевич заложил поместье в земельном банке, выручив кругленькую сумму ассигнациями. Рассчитывая научить доставшиеся от предков деньги работать на новый лад, с азартом игрока он умножал в голове проценты, подсчитывая будущие прибыли. Конечно, цифры выходили баснословные!
Наняв комнаты в прекрасном доходном доме на Литейном, граф перевез семью, чтобы с головой окунуться в омут деловой жизни Петербурга. Накупил себе шелковых и бархатных фраков. Жене – элегантных платьев. Семья Толстых зажила на широкую ногу. Фланировать вдоль широких проспектов столицы, плясать на лаковых паркетах меблированных гостиных то у тех, то у этих, оказалось безумно занимательно!
Немного расслабившись и нежась в лучах первых удач (капали первые дивиденды) Владимир Сергеевич отвлекся на азартные игры, завел любовницу и даже стал помышлять о покупке нового экипажа, чтобы не стыдно было выезжать в свет. Все-таки Петербург – блестящая столица!
Высокие проценты – высокие риски. Несколько неудачных вложений в иностранные предприятия поставили семью на грань финансовой катастрофы. Карта не ложилась. Кредиторы не входили в положение, а деньги стремительно таяли. Владимир Сергеевич продал все, что оставалось, попытался спасти ситуацию вложившись в куда более надежные заводы на Урале, но снова не повезло.
Разоренный и опозоренный, граф запил, перессорился со всей родней, предпочитавшей с тех пор не замечать его и прятать все свидетельства столь неудачного родства, похоронил умершую от туберкулеза жену и отправил Сашку, единственного своего выжившего ребенка, к старому приятелю, на Васильевский. Собрав все, что смог утаить от кредиторов – надобно же уплатить за воспитание сына – Владимир Сергеевич попрощался с мало что понимавшим Сашкой, выпил, оделся в лучший фрак и застрелился. Такое не было редкостью в ту эпоху перемен. Старые правила ломались, а новые еще не были ясны. В мире хищных дельцов – класса невиданного прежде в России —не было места ни титулам, ни заслугам родовитых предков. Непонятная новая игра для многих оказалась жестокой рулеткой.
С семи лет Сашка жил у Петра Григорьевича, неизменно называя его дядей Петром и не получая от него особенного внимания. По доброте душевной, да по личной просьбе старого друга, оставившего послание в предсмертной записке, Петр Григорьевич не отдавал Сашку ни на военные, ни на прочие попечения. Однако, всерьез возиться с чужим отпрыском было уж как-то чересчур.
Куда больше времени юный, скромно одетый граф проводил в кругу семьи Пелей, где детей было много – целых восемь – дела шли замечательно и лишний рот, вкупе с парой любопытных глаз, совершенно никого не смущал. Устранившись от дел еще полным жизненных сил, Василий Васильевич занялся тем, для чего, как считал, и был создан – поиском святого Грааля множества ученых от начала веков – алхимией.
– Ты заходи, Лена чай сготовит, попьем. Продолжим сегодня заниматься? – глаза старика, блестели вдохновляющим светом.
Сашка был единственным в его окружении, кто всерьез воспринимал увлечения Василия Васильевича, не почитая их за средневековые бредни и баловство праздного аптекаря. Юный граф с готовностью вызвался учиться, едва не подпрыгивая от нетерпения. Старый Пель во многом заменил отца и хотя такого же родного тепла, наверное, получить от стороннего человека никак нельзя – Василий Васильевич не без успехов старался прививать Сашке любознательность, дисциплину и веру в свои силы, принимая мальчика как члена собственной семьи.
Сашка обожал уютную атмосферу у Пелей. Длинные застекленные шкафы, внутри которых хватило бы интересных надписей и предметов, чтобы разглядывать хоть целый день. Весы, медные, оловянные и железные аппараты, инструменты, склянки и флаконы – все здесь было заставлено предметами ремесла, словно дом Пелей был и квартирой и лабораторией одновременно. Множество книг – пыльных фолиантов с кожаными переплетами – гордо стояли за стеклами, словно говоря любопытному мальчишке: «Нет, тебе еще рано!».
Конечно, Сашка не слушал книжный шепот и с удовольствием листал то одну, то другую, с усилием снимая тяжелые тома, мало что понимая из написанного, но никому в этом предпочитая не сознаваться. Отмечая похвалами за тягу к познанию, Пель составил ему программу на первые годы и всякий месяц исправно выдавал по книге, посвященной то физике, то химии, то географии, с удовольствием обсуждая прочитанное и усвоенное Сашкой. Готовя к достойной титула гимназии. Василий Васильевич любил детей и сейчас, когда ему было уже давно за шестьдесят, разница между родными и прочими для него таяла – лишь бы был интерес. Свои то вон уже выросли…
Самое увлекательное – сказочный и неизведанный мир волшебства – жило в подвале, куда вела крутая лестница. Ее свод, словно уводя в преисподнюю, иного мог бы и напугать, но в радостном предвкушении новых открытий молодой граф ловко сбегал по каменным, протертым за полтора века ступеням. Потолки здесь были ниже, зато мысли уносились куда выше, чем у любых, кто суетился в мирских заботах наверху.
Посреди комнаты гудел, изрыгая пламя, атанор – прославленная печь алхимиков, в пламени которой вещества меняли свою природу. Пускаясь в пляс в зрачках Сашки, огонь зажигал его любознательную натуру желанием познать как можно больше. Желательно, конечно, все!
– Первым алхимиком, как говорят, был в далеком Египте Гермес Трисмегист, написавший легендарную Изумрудную скрижаль. Потом на нее алхимики во все следующие столетия опирались.
– А что такое Трисмегист?
– Переводится как трижды Величайший. Это, ну вроде как, его фамилия. Видел когда-нибудь трехглавых орлов? Их немало в нашем городе.
Сашка охотно кивнул.
– Говорят, что это все связано! Общая символика. Вообще на троице многое построено, и далеко не только у попов в церкви. Некоторые и наш герб с двуглавым орлом сюда приписывают, будто бы третью голову просто убрали, но уж это, по-моему, какие-то глупости. Змей Горыныч то вон мол трёхглавый… читал о нем сказки?
– Я вообще-то уже предпочитаю книги о науках – возразил Сашка, смешно задрав нос.
– То есть, думаешь, чудес не бывает, ты вырос, а сказки лишь для детей? Ну так я тебе сейчас покажу!
Василий Васильевич, поправив толстый халат, схватился за кусок желтоватого картона, ловко выправляя из него какую-то фигурку. Пальцы старика порхали над бумажными краями. Время от времени он хватался за ножницы и в тусклом свете подвальной лаборатории Сашка видел, как картон плавно превращается в искусно смастеренного льва.
– Львы желтые, не так ли?
– Конечно желтые!
– А зеленые бывают?
– Я бы об этом знал! – насупился Сашка, полагая, что его разыгрывают.
Улыбаясь и посмеиваясь, Пель схватился за стоящие тут же на полках флаконы из толстого стекла, поливая импровизированного льва какими-то растворами. На этикетках значились сложные символы, аккуратно выведенные латинскими буквами. Местами мелькали совсем уж загадочные значки.
– Так, а теперь возьмем немного серы – львы не выносят ее запаха и зеленеют, если ты не знал. Хотя сама она желтая.
Василий Васильевич сбрызнул льва чем-то, поджег высыпанную на край большой медной тарелки кучку серы и, прежде чем лаборатория наполнилась удушливым запахом, плотно накрыл стеклянным колпаком. Перед изумленным взором Сашки лев вздрогнул и начал быстро зеленеть, словно его поливали болотной тиной, прилипающей к жесткой шерсти страдающего царя зверей. Несколько мгновений и от желтого окраса ничего не осталось. Подождав еще мгновение, Пель поднес накрытую колпаком тарелку поближе к гудящему атанору и снял стекло. Пахнуло серой, но не сильно – запах вылетал в трубу, затягиваясь вглубь бурлящего огнем жерла алхимической печи.
Приоткрыв рот, юный граф внимательно смотрел на химические фокусы, испытывая приятное волнение от столкновения с неизведанным, магическим. Прямой нос его с легкой, едва заметной горбинкой, был окружен двумя румяными, покрытыми крохотными веснушками щеками.
– Вот! Зеленый лев, пожирающий солнце – один из главных символов алхимиков. Они символизируют золото и кислоту. Я тебе потом объясню подробнее, если пожелаешь.
Посмеиваясь, Пель вставил в пасть зеленому льву небольшой бумажный кругляшок, окрасившийся от лежавшей на нем серы.
– А пока, может быть ты еще скажешь мне, что львы и летать не умеют? Даже зеленые?
Сашка промолчал, стремительно теряя уверенность и сдаваясь перед находчивостью старого фокусника.
– Так умеют или не умеют? – с азартом настаивал Пель. Глаза его лукаво блестели, выглядывая из-под толстых стекол очков.
Сашка отрицательно покачал головой. Была не была. Не летают львы – это все сказки для маленьких. А он то уже не маленький!
Пель приподнял поднос, еще ближе придвинул к горну и легонько дунул на зеленого льва, уже высохшего от излучаемого печью жара. Сбитый волной воздуха, лев, казалось, кувыркнулся прямо в огонь, но едва коснувшись пламени, словно ужаленный взлетел ввысь, быстро исчезнув из вида где-то там, куда не доставали глаза. Словно неведомая сила подхватила и унесла его.
– В-у-у-у-у-х – Сашка изумленно выдохнул.
– Видел? Он обжегся и улетел! – добродушно улыбнулся Василий Васильевич, разводя руками.
Чудеса, Саша, не только для маленьких – вот возьмем ту же алхимию. Ну, казалось бы, древние поверия, средневековые сказки или, как жена моя говорит, «прочая инфантильная ерунда». А ведь ею занимались великие умы человечества!
Саша с благодарностью слушал старика. Он любил его истории.
– Гете не создал бы своего Фауста, не увлекшись мистицизмом и алхимией. Парацельс не продвинул бы медицину, полторы тысячи лет жившую достижениями одного лишь Галена2. Кто знает, может даже Ньютон бы не открыл закона всемирного тяготения и Бог ведает каких еще, если бы тридцать лет не увлекался этой древней наукой? Лейбниц, Дидро, Гегель и Бойль – а кто-то все еще говорит, что это удел одних лишь шарлатанов!
Искренность восторгов Василия Васильевича, этого сына сапожника, получившего звание врача, профессора, дворянина и личного аптекаря царской семьи, не могло не заразить Сашку – каждый день он с головой уходил в учебу, наверстывая упущенное. Не было гувернанток, не было целой свиты учителей и всех тех, кто обычно помогал людям его класса встать на ноги и не падать в грязь лицом на светских беседах. Дядя Петр не слишком усердно вкладывал оставленное родным отцом Сашки скромное наследство. Образование юного графа не входило в его планы.
Загадка жизни каждого – судьба, распорядилась так, что оно, быть может, было и к лучшему. Учителями Сашки стали люди, которые жили науками, а не только лишь зарабатывали ими на хлеб. Что может быть важнее для воспитания, чем примеры первых учителей?
***
Ночью, когда дядя Петр крепко уснул, а служанка ушла ночевать к себе (Петр экономил, ведь держать прислугу постоянно куда затратнее), Сашка тихо приоткрыл окно, стараясь не скрипеть старыми деревянными ставнями и выбрался на жестяную, ржавую от дождей крышу. Отправляться на ночные прогулки было весьма увлекательно, а в теплые месяцы особенно.
Выделенная ему комната в квартире дяди Петра плотно прилегала к небольшому участку крыши над балконом этажа ниже, так что ловкий и легкий человек вполне мог бы выбраться на нее и, цепляясь за опоры водосточной трубы, подняться выше – на основную крышу.
Несколько мгновений Сашка смотрел сквозь стекло на свою постель, где с похвальным реализмом соорудил из подушек спящий силуэт, а потом лихо вскарабкался и стал красться. Не подходя к краям крыши, скорее чтобы избежать взглядов городовых и случайных прохожих, чем опасаясь высоты, Сашка пролез на крышу следующего дома, стоящего вплотную, а за ним и еще через несколько. Бесстрашно мелькали пятки!
Вот и дом Пелей, где он так любит бывать днем. Крыша еще теплая – за день нагрелась на солнце. Ржавчина – вечный спутник города дождей – идеально подходит для босых ног юного графа, позволяя красться и не скользить, словно ноги сами цепляются за поверхности.
Сашка лег к краю и, свесив голову, заглянул во двор. Большая, длинная кирпичная труба, выше пятого этажа, гордо возвышалась, устремляясь в темное, беззвездное небо столицы. Не трудно было расслышать гудение – где-то там, далеко внизу, в подвале под несколькими слоями кирпича и почвы, очередную ночь напролет трудился Василий Васильевич. Атанор работал в полную мощь – труба мерно гудела, выводя дым, пар и все, во что превращались вещества в цепочке хитроумных опытов старого алхимика.
Возможно ли это? Получить философский камень, – размышлял Сашка, – да и нужно ли? Неужели, кому-то золота не хватает? Почему именно его? Все будто помешаны на этом золоте!
Молодой граф даже видел, как за толстые пачки ассигнаций у Александра Пеля покупают золоченые пилюли разные господа, одетые в тугие, подогнанные словно на манекене костюмы. Говорят, питьевое золото помогает от всего, но когда Сашка спрашивал об этом Василия Васильевича, тот лишь улыбался себе в усы и приглаживал седые, жидкие волосы.
– Кому-то и помогает. Кто-то и любые деньги готов… Так какой же тогда вред? – загадочно улыбался он, – лучше уж у меня купят. Тут, по крайней мере, золото настоящее. В ином то месте и другое что-нибудь добавить могут. Слышал я как-то, еще при Александре Павловиче, утащили мужики со стройки амальгамму – ну, которую для золочения куполов используют. Так и продали ведь как бальзам от всех болезней! Развезли по ближайшим трактирам, так с десяток дураков доверчивых и потравились, померли, а мужиков тех ушлых так и не нашли. Испарились! Как сама ртуть… Да и много ль там в хмельном угаре за игрой в винт уяснишь? Конечно, не подумал никто, блестит же, на золото похоже… – ворчал пожилой аптекарь.
Вспомнились книги, которые показывал ему Пель. Великое делание – три этапа, черный, белый и красный. Когда Василий Васильевич называл их на латыни – нигредо, альбедо и рубедо – весь и без того загадочный процесс приобретал особенный, мистический флер. Манили замысловатые символы и значки в книжках, где иной раз кроме странных картинок не было ничего.
Необычная латинская надпись на обложке одной из книг, которую он видел в подвале старого алхимика, особенно запомнилась Сашке: «Ora et labora». На вид том был очень ветхий – наверное, древний. Сашка, конечно, не утерпел спросить о чем там говорится.
– «Молись и трудись», как это по-нашему будет, – с удовольствием отвечал Пель, – это «Немая книга». Алхимический трактат такой – очень полезная вещь!
От любопытства Сашка даже приоткрыл рот, вглядываясь в непонятные картинки.
– Здесь все зашифровано и символично – ты поймешь позже – а сейчас, Сашка, тебе другое надобно запомнить: ежели я, сын сапожника, стал дворянином через труд, знания и молитву, то кем же с их помощью сможешь стать ты, дворянин по рождению?
С последними словами Пель серьезно взглянул на мальчика. Ему хотелось, чтобы юная память воспитанника крепко ухватила этот урок.
Развернувшись, чтобы размять затекшую руку, Сашка подполз к другому краю крыши, окинув взглядом пустынную улицу седьмой линии. Весь Васильевский остров, строгой петровской геометрией был рассечен на улицы, под прямыми углами пересекающие два крупных проспекта. Кое-что можно было видеть и прямо отсюда. Шпиль Петропавловской крепости маячил вдали, отражая свет луны. Желтоватая, сегодня она, вопреки обычаю, никак не соответствовала цвету серебра, которое олицетворяла в алхимических трактатах, словно сама пыталась притвориться золотом.
Множество огней горели на улочках и аллеях. Кое-где газовые, а где-то уже электрические – с каждой ночью столица империи становилась все светлее. «Ora et labora», – увидел Сашка выведенную на плитке надпись возле герба Пелей. Здесь же были и гордые двуглавые орлы. Ничего себе, фраза из алхимических премудростей их официальный девиз? – подумалось маленькому графу. А что еще скрывает старый алхимик? Он ведь и про двуглавых орлов что-то там такое намекал…
Задумавшись, а знает ли он, как выглядит герб его собственного рода, Сашка поймал себя на неуютной мысли – нет. Позор! А как бы так разузнать это, не раскрывая своего прискорбного невежества..?
Сзади протяжно загудела труба. Внизу кипела работа. Вырываясь вверх, сизый дымок ненадолго пачкал черноту небосклона, растворяясь в бесконечном пространстве покрывшего город купола. Белые ночи давно отошли, короткое северное лето было на излете.
Крыша грела теплом. Труба атанора ворчала. Привычные звуки спящего города дарили уют, которого так не хватало молодому графу в казённом доме. Убаюкивая, симфония ночного покоя подхватила и закружила мальчика, распаляя воображение, уводя в царство грез.
Внезапно Сашка увидел, как кирпичи на трубе засветились, покрывшись набором загадочных цифр, словно мелькнул таинственный шифр. Изумленный мальчик с любопытством подполз к краю, чтобы рассмотреть поближе. Неведомый этот код из загадочных чисел пульсировал, словно светясь изнутри и призывая разгадать эту загадку.
Напрягая зрение и пытаясь отыскать скрытый смысл в последовательности мерцающих цифр, Сашка чуть не свалился, когда с громкими хлопками из трубы выпорхнул грифон. Огромный, размером с карету, могучая его голова повернулась и грифон заметил мальчика. Скользнул взглядом мудрых, насквозь все видящих глаз.
Зеленый грифон шумно зашелестел перьями, словно задрожала густая древесная листва на ветру. Сбросив с себя зеленую краску, облаком изумрудной пыли полетевшую вниз, могучий лев захлопал желтыми крыльями, еще раз огляделся и, оттолкнувшись мускулистыми лапами, вспорхнул над спящим городом. Стекла домов еще долго звенели ему вслед.
Глава 3
Санкт-Петербург, апрель 1765
Граф Григорий Григорьевич с трудом разлепил глаза, щурясь в свете бьющего сквозь пышные портьеры солнца. Голова разламывалась на части. Вчера задорная компания высоких военных чинов бурно отмечала по верным слухам утвержденное, хотя еще и не вступившее в силу назначение. Быть Орлову генералом-фельдцейхмейстером по корпусу Артиллерии, да еще и генерал-директором по Инженерному в придачу! А ведь только год как тридцать стукнуло – через ступени табеля о рангах не всем так взлетать доводится…
Вот только зыбко это все пока, очень уж ненадежно – размышлял граф. Пройдет любовь императрицы – изменит и фортуна, кончится подъем, лопнут пузырьки в бокале. И как бы не остаться потом вот так же в точности, с гудящей и пульсирующей головой. Да и во рту – то ли кошки всю ночь гадили, то ли мышь подохла. Нет! Решено! Хоть в лепешку разбиться, хоть в огонь, но на Кате надо жениться! Она барышня серьезная, а все же переменчива – женщина… И чуть что – не помогут уже ни прошлые чувства, ни даже родившийся ребенок, внебрачный сын их – Лешка. Вспомнив о скором Дне Рождения сына Орлов едва заметно улыбнулся – уже три года – очаровательный мальчишка – весь в отца!
По скомканным одеялам проползая к спуску с бескрайней дворцовой кровати, словно солдат в редуте под обстрелом, Григорий Григорьевич с трудом свесил ноги, пытаясь на ощупь отыскать на холодном паркете громадной залы свои туфли. Куда там – смятый мундир был замечен зорким глазом генерала в другом конце, у выходящих на Неву окон. Иные части гардероба, помельче, затаились у ночного столика – спрятались. Обуви же не было и вовсе – никак босой в спальню императрицы заявился. А что? Может оно и так было. Подумаешь… – Орлов расплылся в самодовольной улыбке, сладко потянувшись.
Раздался короткий вежливый стук и тяжелая, с золотым кольцом вместо ручки дверь спальни Ее Величества начала приоткрываться.
– Да, заходи, кого там принесла – небрежно прикрикнул Орлов, прикрывая нижнюю половину своего могучего тела толстым одеялом.
– Ваше Превосходительство, позволите? – в спальню заглянула напудренная, уложенная по последней моде голова дворцового лакея, – срочные новости, как Ваше Превосходительство проси…требовали!
– Ну, чего там? Говори же!
– Ломоносов умер.
– Умер? Как умер? Ты чего несешь. Михаил Васильевич умер?
– Умер, Ваше Превосходительство. Так точно-с. Вчера по утру душу Богу вручили и отошли-с.
– Ты мне тут давай, без этих вот церковных – граф заметно занервничал, пытаясь найти что-то и прикрыться, встав наконец с кровати.
– Постой, как это вчера. Вчера!?
– Да, Ваше Превосходительство, так точно, вчера-с.
– Так какого же лешего ты мне, идиот, только сегодня об этом заявляешь? Я чего тебе приказывал, пес ты подзаборный? – Григорий Григорьевич взревел, крепко сжав здоровенные кулаки. – Чего велел тебе? Паскуда ты вшивая!
Растерянный лакей с трудом подбирал слова, пытаясь не разгневать всемогущего фаворита еще пуще и незаметно ретируясь к дверям.
Схватив подушку и ею прикрывая промежность, Григорий Григорьевич, шлепая босыми ногами по полу, отправился в сторону храбро павшего у окна мундира. Гневный и возмущенный взгляд в сторону замешкавшего на миг лакея быстро привел того в движение.
– Вчера Ваше Превосходительство в компании… то есть, я хотел сказать, простите, вместе с другими Превосходительствами изволили…
– Пшел вон отсюда, черт!
Напудренная голова в обрамлении искусственных кудрей смекнула ситуацию и проворным разумом бывалого царедворца приняла лучшее решение – немедленно исчезла за дверью. Лишь гулко звякнула золотая ручка.
***
– Что же ты, Михайло, неожиданно то так, да невовремя… – бормотал себе под нос Григорий Григорьевич. Роскошный экипаж, запряженный четверкой гнедых жеребцов, мчался в направлении Васильевского. Позади роскошной кабины, обшитой кожей и мехами, на козлах сидели трое дюжих гвардейцев, прихваченных промежду прочими так, на всякий случай. Выпитая на дорожку рюмка водки, схваченная с подноса предусмотрительного лакея, начала действовать, проясняя рассудок и облегчая страдания сиятельного графа.
Сложный, изрядно запутанный, клубок чувств Григория Григорьевича к Ломоносову нелегко было передать в двух словах. С одной стороны, граф безмерно уважал Михаила Васильевича – русского мужика – чувствуя радость истого патриота перед засильем немчуры в Академии. С другой – немкой была его любовница и, как он не уставал надеяться, будущая жена – российская императрица. Третья же сторона омрачала ситуацию совсем уж безобразно – разбудила самые низменные любопытства ко всему неведомому.
Сам не чуждый тайнам, Орлов прознал про некие таинственные свитки, с которых Ломоносов будто бы никогда не спускал глаз. Оказавшись в ситуации, когда интрига сжигает изнутри и ты то ли хочешь узнать правду, а то ли и боишься этого – Григорий Григорьевич не находил себе места. А ну как в свитках кроются все секреты открытий великого ученого – что тогда? Шарлатан? Позор? Права, стало быть, заносчивая немчура и русский разум на победы в современных умствованиях совершенно не способен?
Нет, признать такое было решительно невозможно! Следовательно, Ломоносова было необходимо оберегать и поддерживать. Не я ли выбил ему должность статского советника? – думал про себя сиятельный граф, – а не то так и сидел бы в титулярных. Тоже, конечно, не великого полета птица – но уже хотя бы что-то. Денег поболе от казны – этот не пропьет. Этот все в науку, в эксперименты!
Орлов и сам бывал близок с науками. На званных вечерах и роскошных балах молодой императрицы любил он потолковать о физике, об анатомии, а порой и по химической части чего-нибудь эдакого. Мог при случае разобраться – чего уж. Хотя высот не бороздил, всегда хотелось щегольнуть чем-нибудь таким, особенным, чего может и в Академии даже, немцы не ведали.
Подкрепляя сложившуюся репутацию если и не эрудита, то уж, верно будет сказано, человека интересующегося – Орлов обустроил во дворце обсерваторию, дабы изучать подробности звездного неба над Петербургом. Какие уж там звезды – роскошные виды на Неву не способствовали долгим наблюдениям, так что самым ярким впечатлением Григория Григорьевича все еще была Екатерина Алексеевна, заявившаяся к нему раскрасневшейся после очередных плясок, в соблазнительном пеньюаре. Ох и ярко же она сияла в той лунной дорожке, что сверкала на лакированном паркете, где их обуяла взаимная страсть…
Пытаясь дознаться до правды, как-то раз Орлов подговорил троих дюжих молодцев с верфей, посулив каждому по золотому червонцу, отобрать у профессора его загадочный тубус. А чтобы уж наверняка они при нем были – следовало дождаться, когда пойдет ученый домой после заседаний в Академии. Портовый мужик сущность честностью далеко не всегда отягощенная, так что дабы не повадно было с деньгами сбежать и в первом же кабаке все в карты продуть – посулил Орлов по доброму империалу3 каждому, ежели преуспеют, а Михаила Васильевича шибко колошматить не станут – человек важности государственной!
Куда там! На следующее утро графу доложили известия, повергшие в шок даже бывалого военного: Узрев нападающих вовремя, с величайшею храбростью Ломоносов оборонялся от трёх разбойников. Одному заехал в скулу так, что тот не то что встать – опомниться лишь к утру смог. Второй, получив пудовый удар успел убежать, заливаясь кровью, ну а третьего Михаилу Васильевичу уже не трудно было одолеть – он повалил его и, держа под ногами, грозил, что тотчас же убьёт, если не откроет он ему, как зовут двух других разбойников и какого черта они вообще к нему пристали. Напугавшись до смерти, сознался во всем мужик, да покаялся. А Ломоносову уже и не до того было – затаил он на Орлова не то что бы злобу – подозрения великие. Интерес власть имущих оно дело-то ясное, но даже и так, как-то совсем некрасиво получается – черти что.
– Вот это ученый! Вот этот академик! За такого не стыдно! – на свой манер восхищался Михайлой граф Орлов.
Грустно усмехнувшись, вспоминая подробности этого фарса, Григорий Григорьевич выглянул в окошко экипажа осмотреться. Кунсткамеру уже миновали, позади осталась Нева. Мчали по первой линии. Ну, стало быть, уже совсем близко!
С удивительным для столь могучей комплекции проворством сиятельный граф выскочил из экипажа и кинулся в сторону дома почившего ученого, широко шагая в военных сапогах исполинского размера. Обгонял едва бегом поспевавших за ним дюжих гвардейцев. Был он каждого выше на целую голову. И, хотя под штыки личной охраны императрицы брали людей, чей вид устрашал простой люд – издалека могло бы показаться, что это переодетые на военный манер дети бегут за своим отцом. Замедлив размашистые шаги лишь перед самыми дверями, чтобы хоть немного приспособить себя к траурной обстановке, Орлов, разрываясь между суетливостью и почтением, вошел в дом вдовы Ломоносовой. Кивком поприветствовав растерянную Елизавету Андреевну, он спешно снял с головы треуголку когда увидел тело в одной из комнат. Уже обмыли.
Пара мгновений почтительной тишины и сапоги графа, грохоча по стонущему от тяжести дощатому полу, направились в сторону кабинета ученого. Меньше половины любой из бесчисленных комнат громадины Зимнего дворца – кабинет всероссийского человека был так плотно уставлен различными инструментами, приборами и книгами, что широким плечам графа едва удавалось лавировать между ними, не задевая и не сшибая с полок весь хранящийся здесь бесценный скарб.
Испепеленный любопытством, граф позабыл об уместной трауру вежливости и принялся суетливо обыскивать ящики стола, расставленных тут и там комодов, переставлять коробки, ворошить бумаги. Тубуса и свитков нигде не было. Выходя из себя и теряя без того недолговечное свое терпение, вспыльчивый фаворит принялся отодвигать мебель, чтобы заглянуть за нее, вставать на стулья, обыскивать верхние части шкафов и полок, греметь крышками сундуков и шкатулок. Где же оно? Ну? Где!?
Неловко развернувшись, плечом он задел край шкафа и грозно закачавшись, тот начал крениться в сторону. Балансируя, чтобы не свалиться со стула, граф не успел подхватить шкаф и тот с оскорбленным грохотом упал, рассыпаясь на секции, звеня разбитым стеклом и рассыпавшимися по полу металлическим инструментарием. Тяжелая астролябия покатилась, царапая паркет. Бахнуло оглушительно! В доме закричали напуганные и возмущенные женщины. С испугом в кабинет заглянул один из гвардейцев – двое других охраняли дом снаружи.
– Ваше превосходительство?
– Вон! Вон отсюда! – взревел разочарованный Орлов, спрыгнув на пол. Тяжелые, окованные сапоги приземлились на пол почти так же тяжело, как нагруженный шкаф. Женщины вскрикнули снова.
– Принести сюда доски и гвозди! Забить здесь все и опечатать! Окна снаружи заколотить! Двери замуровать! Я тут позже разберусь. Приказ ясен?!
Граф тяжело дышал, бросая растерянные взгляды по сторонам. В кабинете царил хаос. Поднятая пыль медленно опускалась, блестя в свете солнца, лучи которого лились сквозь высокое окно. Не долго ему оставалось принимать благодатные лучи.
– Куда же, черт тебя побери Михайло, ты их дел? Куда спрятал? Что там было?? – Григорий Григорьевич не собирался сдаваться.
С жестоким в глазах окружающих любопытством, похожим на одержимость, граф искренне беспокоился о репутации русской науки. Но кто же поверит!
– А коли не я? Коли немчура найдет и байки распустит? Что тогда? Ах Михайло… – стонал граф.
– Ежели спрятал ты их – так уж пусть хоть на века. Уноси с собой! Уноси, Михаил Васильевич!
Перед самым выходом Орлов бросил взгляд на стол, где стопкой лежали книги. Несколько исторических томов и один открытый, исписанный рукой Ломоносова, были выше прочих. Почерк в нем был суетливым, убористым – наверное для заметок, для себя писал, подумал граф. Взяв книгу в руки, Григорий Григорьевич увидел наборы формул, какие-то изображения, не то стекол, не то линз, укором напомнивших ему о собственных астрономических изысканиях. Но все это были мелочи! В целую страницу величиной было нарисовано солнце. Нелепое, словно рисунок ребенка, желтое и с лучиками, с каракулями внутри. Набор неясных, хаотичных записей. Работа не была окончена.
***
Остыв и извиняясь перед Елизаветой Андреевной, граф выспрашивал, может ли он чем-то помочь в сложившихся прискорбных для всех обстоятельствах. Смущенная вдова долго ходила вокруг да около, а потом…
Григорий Григорьевич совершенно искреннее поразился – на похороны великого ученого Российской Империи не находилось средств! Семья Ломоносовых, конечно, не жила впроголодь, но и откладывать средства на всякий непредвиденный случай было решительно не с чего. С прискорбной регулярностью лишаясь поддержки от Академии, усилиями интриг и выпадов герра Шумахера, Михаил Васильевич вынужден был оплачивать все самые важные эксперименты из личного кармана. И был бы этот карман еще широк! Из жалования статского советника… Потрясающая, гнуснейшая нелепость, – возмущался про себя Орлов, – не выбей я ему ранг и останься Михайло в титулярных – наука целой державы могла бы потерять больше открытий, чем иные европейские светила, купающиеся в роскоши и почете, совершают за жизнь. А порой и не совершают. Да что же это такое? Как такое возможно?! Да-а-а, велика Россия! В ней одной такое мыслимо и зримо… Почему идейный человек у нас всегда должен быть без штанов, черт вас побери? – бранился Орлов, словно сам не был вознесен на самый верх несправедливостью общего устройства.
– Ну а как были бы у Михайлы деньги? Да побольше! Что тогда? На какие высоты взлетела бы на их крыльях русская мысль?
В глубоком расстройстве чувств, Орлов щедро усыпал комод при входе в дом золотыми империалами. Не удовлетворившись примерно получавшейся суммой, он, вывернув карманы расшитого золотом и бриллиантами камзола, где нашлись и другие монеты, высыпал все, что было при себе. Тысячу рублей, а может и поболе.
Постоял с сочувственным видом, прислушиваясь к звукам работавших гвардейцев. Откланялся. Кабинет Ломоносова остался надежно опечатанным – гвардейцы забили его досками в несколько рядов, словно дверям несчастной комнаты, где работал великий ученый, предстояло сдерживать неприятельскую армию по меньшей мере до рассвета следующего дня. И это при артиллерийской поддержке у противника!
Глядя на груду крест-накрест нашлепанных крепких досок, многослойным чехлом обросших вокруг окна, Орлов удовлетворенно кивнул – такой солидный конструкт можно разбирать целый день. В лучах солнца блестели широкие шляпки кованых гвоздей. Покинув дом и вновь без труда обгоняя гвардейцев, сиятельный граф зашагал к Зимнему, махнув рукой на экипаж:
– Не поеду!
Хотелось пройтись. Ветер с Невы дул по-зимнему, морозно. Студеный холод, губительный для тысяч чахоточных и болезных, был разгоряченному Орлову лишь на пользу – голову остудить помогает.
Выкупив почти все, что оставил в наследство великий Михаил Васильевич, сиятельный граф сделал что мог, дабы сохранить и уберечь все это от ловких немецких противников Ломоносова из Академии. Удалось не сполна, конечно, но отчасти преуспел. Еще долго это грело душу Григория Григорьевича, да и некоторые записи оказались бесценны, когда русское государство встретили суровые напасти, уготовленные ему будущим – великий мор, да и мало ли их было? Великую силу знания дают, коли в них понимать и к решению задач приспособлять умеючи! Бесценную силу!
Вдова Михаила Васильевича, преданная и любящая немка, при крещении принявшая имя Елизаветы Андреевны, была обеспечена и ни в чем не нуждалась до самой своей смерти.
– Но черт побери, Михайло! – еще не раз взрывался Орлов, вспоминая тот день, – что за чертовщину такую ты скрывал от нас в тех свитках? Куда спрятал? Надежно ли..?
Глава 4
Нижний Новгород, июнь 1896
– Эй, запрыгивай, пока не тронулись, не зависай там! – Александр Владимирович Толстой, студент факультета медицинских наук, кричал своему товарищу из физмата.
– Момент, Саня, прихвачу только пару газет! А ну как в вагоне не найдется симпатичных мамзелей и всю дорогу мы станем унывать в буквы?
– Ну уж это вряд ли – добродушно рассмеялся Александр в ответ.
Мишка был заядлым донжуаном. Хотя особенной внешней привлекательности за ним и не наблюдалось – мощная фигура деревенского батрака, ярко контрастируя со странной для эдакого типажа образованностью, кружила дамам головы. Производя первое впечатление сельского парня, стоило лишь Мишке открыть рот и заговорить о сумасшедших двигателях Яковлева, приводящих в движение тяжелые конструкции, прозванные автомобилями, или о гиперболоидах Шухова, о логарифмах и интегралах – барышни таяли и быстро проходили все метаморфозы: от удивления до восхищения. Слишком уж выразителен был контраст! Слишком обманчиво первое впечатление… Ну, а уж помочь прекрасной особе перейти от удивления к симпатии, поигрывая мощными мускулами и взывая к животной части, не стоило опытному Мишке никаких трудов. Тут была его стихия!
Совсем другим был Александр Владимирович. Воспитанный в интеллигентном семействе Пелей, неизвестно в кого он вырос худым, долговязым юношей с высоким лбом, небрежно забранными назад соломенными волосами и рассеянным, мечтательным взглядом. Прячась под круглыми очками, глаза Александра светились какой-то неугасаемой внутренней работой, словно он пребывал и здесь и где-то еще, в царстве собственных идей и размышлений .
Поприветствовав студентов жесткими лакированными сидениями, поезд отошел от вокзала, выпуская в лазурное июньское небо густые, черные клубы. Московско-Нижегородская железная дорога мчала всех желающих на Всемирную Выставку. Ехали на свои, так что о первом классе не могло быть и речи. Чего уж там – не шла она и о втором. Зато было весело!
Народ, плотно набив вагон, пыхтел папиросами, поедал пироги, прикладывался к фляжкам с горячительным. Травили анекдоты. Седой мужичок с хитроватым прищуром, играл в шашки с соседом – грузным и каким-то расплывчатым мужиком, не по июньским погодам укутанным в шерстяную фуфайку. Старичок, словно стараясь отвлечь своего соперника, с чувством поигрывая интонациями травил анекдоты:
– Пошли как-то, значит, Пушкин и Лермонтов на бал. Сидят там, значит, и кушают арбузы.
– Арбузы? Че? – фуфайка поднял мутноватые глаза на старичка.
– Арбузы, да-да, арбузы! Так вот, съест Лермонтов ломоть, а корку подкладывает Пушкину. Ну, погрызли, погрызли, а потом Лермонтов такой и говорит: «Господа! Вы только посмотрите, какой Пушкин обжора! Вон сколько у него корок!»
В вагоне многие слушали. Головы оборачивались, посмотреть кто там рассказывает. Мелькали улыбки предвкушения.
– А Пушкин, значит, и отвечает: «Господа! Да вы гляньте, лучше какой обжора Лермонтов! Он даже и корки свои съел!»
Ехать в третьем классе было тесно, зато не скучно. Старичок всех обыгрывал в шашки.
– Что думаешь потом делать, как закончишь? На Урал? – Александр смотрел в окно.
Мерный стук колес, бескрайние пейзажи России настраивали на мечтательный лад. Хотелось смотреть вдаль не только бескрайних полей, стелившихся за окном поезда, но и в столь же бескрайнее, даст Бог, собственное будущее. Какое оно будет? Что там грядет? Решительно неизвестно!
– Ну а какие у меня варианты? Фабрикант дал – фабриканту и отдам – на Урал, конечно.
Родившийся среди трудящихся на заводе крестьян, Мишка совершил практически невозможный полет и, впечатлив заводского хозяина неожиданными способностями, получил деньги на учебу в Москве. На Петербург, конечно, не размахнулись, но знаний, что понадобятся горнякам от Мишки по возвращению, Москва была готова насыпать с горкой – только подставляй лукошко. Учись, не ленись, а там, глядишь, и в люди выйдешь – в инженеры пробьешься.
Без столь ясных перспектив поступил Александр. Пель и Менделеев помогли знакомствами, написали несколько писем, подсластили, где нужно, рекомендациями – мальчишка-то вон какой толковый. А там понеслась! Во врачи Александр не стремился – сразу понял, что ни Пироговым, ни Боткиным ему не бывать, ну а сразу же соглашаться на меньшее было как-то несерьезно. Жизнь и так потом сама расставит по своим местам, но пока молодой-то лучше замахнуться повыше? – так рассуждал граф Толстой, несколько лет назад явившийся с рекомендательными письмами к дверям Императорского Московского университета. Зачислили…
Сколько сразу открылось возможностей для пытливого ума! Соединения веществ стали его страстью. Конечно, не обошлось здесь без влияния Пелей, да и впечатляющих друзей у старого аптекаря хватало. Термохимическая лаборатория профессора Лугинина, звезды революционной Гейдельбергской читальни (за что по возвращении в Россию профессор даже успел отсидеть), стала вторым домом. Вернее, конечно, общежитием – нанять даже и одну отдельную комнату у Александра не хватало средств. За графский титул жалованья не платят. Работать же в ущерб учебе не хотелось – слишком много значил в глазах юноши первый опыт.
Основав собственную кафедру, Лугунин заряжал энтузиазмом, сыпал множеством сложных, незнакомых терминов, правил и законов, которые Александр старался впитывать, но не так, чтобы лишь запомнить и отчитаться, а глубже – понять изнутри, разобраться. Хвастаться успеваемостью не удавалось. Порхающие интересы не позволяли сосредоточиться на чем-то одном, ну а прыжки между науками, в попытках собрать все знания, полезные для понимания превращений и взаимодействий, не давали плодов – требовалась глубина.
Александра, впрочем, мало интересовала академическая репутация – его манили настоящие, большие открытия. Делать их в чем-то одном, узком, было как-то не романтично, не высоко и… не привлекательно. Ну что такое, в самом деле, диссертация про определение теплоёмкости физических тел с неподвижным калориметром и с подвижным нагревателем – скука же одна! Тоска… Вот если бы какой-то совершенно новый материал создать, важный для человечества или, еще лучше, золото из свинца, о чем первый учитель его всю жизнь мечтает…
Перебиваясь то со стипендией, то без оной, с головой уходя в книги и опыты, Александр жил, иной раз на долгие месяцы выпадая из потока юных развлечений, в которых купался Мишка. Сложно было сказать, что между ними общего и почему дружны – ладили и все тут. Бывает же, что легко и комфортно с человеком? Бывает!
***
– Ты гляди, да неужто и такое уже изобрели! Во наш брат на выдумку то смекалист – Мишка переваливался от одного экспоната к другому, грузным торсом распихивая очарованную новшествами толпу.
– Ну, как видишь… а ты не про него разве мне рассказывал? Когда о двигателе то говорил.
– Так это я про наш первый автомобиль русский говорил, а тут то трактор! Вон, смотри, трактор Блинова, все написано – здоровый какой.
Машина выглядела громоздкой и какой-то нелепой, словно колеса обтянули подвесной лестницей, а сверху водрузили деревенский нужник и котел.
– Поле может вспахать, заменяя кучу лошадей, а изобрел наш человек – Федором звать, из крепостных.
– Похвально, с интересом кивнул Александр, разглядывая железное чудище и представляя его в поле, в шмякающихся брызгах почвы, вылетающей из-под тугих железных гусениц.
– Верное дело, такую машину ждет успех! Здесь столько толстосумов бродит – купят. Вон что наш крестьянин может! – восторгался Мишка.
Разбитый под выставку парк потрясал широтой своих размеров. Народу было… тьма! Весь мир, казалось, съехался сейчас в Нижний, посмотреть на чудеса русской промышленности, да искусства. Казна не скупилась очаровать иностранных гостей. Как-никак международный престиж. Вложились и ведающий финансами империи Витте, и богачи вроде Саввы Морозова да Мамонтова.
Было на что посмотреть! Сотни павильонов, выстроенных со вкусом и не считая денег, вмещали тысячи изобретений, кружащих голову и обещающих, что грядущий век станет лучшим в эпохе человечества. Все сложное, скучное и тяжелое достанется выполнять бессловесным машинам, ну а живой человек погрузится в творчество для возвышения своей души и в науки для тренировки разума.
Июнь ласкал теплым солнцем. Выставка превратилась в целый городок со своим водопроводом, фонтанами, сотнями электрических фонарей, освещающих это великолепие даже ночью. Дамы в легких платьях, со звонким смехом и зонтиками наперевес, держали под руки мужчин в легких, светлых тонов костюмах. Голову кружили башни Шухова, словно списанные с чертежей давно забытой цивилизации. Очаровывали висящие над парком воздушные шары и дирижабли, зазывая взмыть в самое небо и с высоты, где не летают даже птицы, заглянуть за край земли.
– Сколько же все это стоило нашим богачам? Вот ведь карманы то у кого бездонные, у Савв! – то ли ворчал, то ли восторгался Мишка.
Александр ничего не ответил. Он вообще неохотно говорил о финансах. Деньги были болезненной темой для молодого графа, волею судьбы не только оставшегося без наследства, но и живущего много скромнее даже самого заурядного, лишенного талантов и происхождения канцелярского клерка. Не то чтобы граф Толстой видел себя выше и лучше иных или задирал нос – едва ли они бы с Мишкой тогда сдружились. Но так хотелось почувствовать вкус свободы, которая стояла за деньгами… Не роскоши даже, а именно свободы, просто вздохнуть чуток поглубже, не считать, хватит ли на эту неделю.
Как и многое другое, деньги для Александра были скорее идеей – возможностью. Их вроде и хотелось получить, но когда-нибудь потом – чуть позже. А сначала сделать что-то по-настоящему крупное, для солидности. Мысли о медленной и неспешной карьере, каждые пять лет поднимаясь на очередную ступеньку бесконечной лестницы табеля о рангах, нагоняли столько уныния, что никак нельзя было с ними мириться. Нет! Только не так! Чтобы занять значительное место, нужно и сделать что-то значительное, раз уж некому за тебя похлопотать… Да! Этого хотелось. Житье лабораторного служащего, с головой ушедшего в науки увлекала, устраивала, но лишь до поры. Может быть, однажды получится восстановить честь своего рода. Продолжить его, вновь продлить в вечность… Александр отгонял такие мысли. Все это слишком далеко, призрачно. Недоступно. По крайней мере пока.
– В России много богатых людей, это верно, – выйдя из задумчивости ответил он Мишке.
– И далеко не все из них наши, русские, не так ли? Ладно Морозовы с Мамонтовыми, ну так богатеют на нашем добре и всякие Нобели, Ротшильды… Слыхал, как лихо они осваивают Кавказ? Нефть качают, трубы кладут…
– А в чем же вред? Тебе то что? За свои деньги и кладут, налоги платят, – Александр понял, что темы избежать все равно не удастся.
– Может и платят, да вот только все равно мошна у них растет год от года, золото ко всяким Ротшильдам заморским утекает, а наш мужик как был гол, так и остается – уж я-то знаю о чем говорю! Сам с уральских…
– Не все сразу, Мишка. Вон на меня взгляни – я вроде бы и граф, но титулом за шампанское то не заплатишь – Александр примирительно рассмеялся, – раз нынче такие повороты лихие судьба вертит – там и до взлетов простых людей недалеко. У тебя-то вон тоже какие перспективы, – Александр задорно подмигнул товарищу, которого в университете за глаза называли Ньютоном в шкуре Аякса4.
Польщенный, Мишка на миг задумался о своих перспективах, под некоторыми углами представляющимися и в самом деле неплохими. Расплылся в довольной улыбке.
Игристые вина Льва Голицына, отхватившего себе целый павильон, смекалистым народом быстро прозванный бахусовым5, кружили голову лучше всего. «Хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий – все пили хорошее вино!» – многообещающе гласили развешанные всюду плакаты и вывески. Здесь же был и сам князь – демонстрировал шампанское, созданное специально по случаю коронации нового Государя Императора Николая II – «Новосветское». Попробовать достойный самого Царя вкус пузырящегося хмеля стояла длинные очередь желающих. Летними вечерами шампанское лилось рекой и пилось превосходно. Сзади к павильону откуда-то таскали лед – охлаждать бутылки. Теплое игристое это даже как-то неприлично…
– Исчезнут расстояния! Все смогут часами говорить друг с другом! – восторгался Мишка у павильона с водолазом, погруженным под воду, но продолжавшим разговор с «землей» через хитро встроенный в его тяжелый шлем аппарат Колбасьева. Переносной телефонный аппарат в металлическом корпусе на деревянной ручке, плоский и круглый, по форме напоминал лупу. Таинственный телефон уже охотно нашел себе место на флоте, а сама технология сулила самые фантастические перспективы.
Нижегородская выставка производила впечатление весьма сильное. Бывалые путешественники замечали, что России удалось совершенно затмить недавнюю свою Колумбову коллегу, прошедшую всего несколько лет назад в Чикаго. А уж еще более раннюю в Париже так и тем более. Куда им всем…
Когда встал выбор, отправиться в павильон Севера, где самоед играл и трюкачил с тюленем Васькой, или же взглянуть на картины – дороги Александра и Михаила ненадолго разминулись. Осматривая полотна русских мастеров живописи, в углу залы, висящую неприметно и в тени молодой граф обнаружил акварель кисти Репина.
Менделеев в мантии доктора Эдинбургского университета строго смотрел с яркой, сочных красок картины, словно говорил – зачем все это – дайте же мне, наконец, работать! Сколько сразу нагрянуло воспоминаний… Вот он, совсем еще мальчишка, несется к казенной квартире Университета в здании Двенадцати коллегий, где живет Дмитрий Иванович. Несет ему бумаги от Пеля – хитрые расчеты и формулы, посоветоваться. Старый аптекарь и мировая знаменитость дружат, регулярно работают вместе – Менделеев частый гость в алхимической лаборатории Василия Васильевича. Вместе сидят у атанора, беседуют, размышляют…
Вбежав в гостиную, Сашка стоит, мнется, ждет, пока Дмитрий Иванович выйдет из кабинета, а супруга его отчего-то смотрит лукаво, укоризненно, глаза блестят, словно вот-вот рассмеется. Распахивается кабинет, облаченный в яркую, незнакомую мантию, Менделеев выходит и приветствует, берет бумаги. Смотрит вниз и вдруг к-а-а-а-к расхохочется! Сашка смотрит вниз – правый ботинок весь в навозе уделан, а под ногами паркет – вот все по нему то и размазалось.
Кошмар! Хотелось провалиться под эти половицы незамедлительно и лишь несправедливая твердость пола заставляла мальчика терпеть столь мучительные унижения.
– Между прочим это огромная проблема, молодой человек! – смеялся Дмитрий Иванович – нет-нет, я не про испачканный паркет – это ерунда, а вот лошади и их навоз..! Я тут подсчитал на досуге, что ежели мы ничего в своей жизни не поменяем – уже к середине следующего века выйдет такая ситуация непростая, как бы это попроще сказать… Ну в общем, число лошадей, чтобы навоз из города вывозить и ими же накладываемый по пути абсолютно сравняются! Мы все, простите, утонем в дерьме! – хохотал Дмитрий Иванович, – вот, смотрите, у меня там все подсчитано..!
Из кабинета выглянул знакомый Сашке художник – Илья Ефимович Репин. Сашка прервал их работу над портретом, на которой настоял, конечно, сам художник – старый друг великого химика. Не зная куда и деть себя, представшего перед двумя значительными господами в столь пахучем образе, Сашка был готов закрыть глаза и побежать уже хоть куда-то – лишь бы подальше от нескончаемого позора. К счастью, Анна Ивановна, жена Дмитрия Ивановича, позвала служанку и в скорейшем времени маленький граф был спасен, вытащен из щекотливой ситуации – ботинок отмыли.
Александр помнил, как впечатлился огромным, сверкающим и прозрачным камнем из богатой коллекции минералов Дмитрия Ивановича. Стараясь не мешать художнику, ожидая, пока они закончат и Менделеев напишет ответ, чтобы сразу отнести Василию Васильевичу, Сашка осматривал домашнюю экспозицию ученого. Время от времени он задавал вопросы, которые казались ему взрослыми, умными и важными.
– Дмитрий Иванович, это такой огромный бриллиант здесь? Такие в самом деле бывают?
– Нет, конечно, – рассмеялся Менделеев, – это хрусталь. Бриллианты не бывают такими огромными, никогда. В украшениях они обычно меньше, намного – ну да ты ведь видел, наверное?
Сашка кивнул, но неразрешенные вопросы еще оставались.
– А если попытаться такой бриллиант сделать? Вот таким, как этот хрусталь, большим. Получится?
– Сделать? Бриллиант? – рассмеялся Менделеев.
– Василь Василич говорит, что алхимия может свинец превратить в серебро или даже в золото, нужно только разгадать старые секреты. Так наверное, можно же и бриллианты? Они ведь же тоже дорогие? – беззаботно рассуждал мальчик.
Восседающий в мантии Менделеев улыбался. Красный, синий – яркие цвета шелковистой ткани придавали ему облик таинственного, средневекового волшебника. Улыбался и Репин, стараясь впрочем не отвлекаться, чтобы не испортить портрета неловким мазком.
– Алхимия, Сашка, это сложно, – поучал Дмитрий Иванович, – я не возьмусь сказать, что совсем уж нельзя превращать одни металлы в другие, но вот что – куда сложнее человеком хорошим стать. Это поважнее будет. Может у свинца и нет потенциала быть золотом, зато у тебя точно есть таковой в науках – вон ты какой любопытный. Начни с этого! А там сам разберешься – Менделеев подмигнул. Сашка смущенно заулыбался. Минутой раньше он испросил у Дмитрия Ивановича один из томов по химии «для продолжающих» и теперь стоял с книгой под мышкой, непропорционально большой в сравнении с его худым, жилистым телом.
– А для начинающих я уже прочитал! Два раза! – вздернув нос просопел маленький граф.
Отчего-то все рассмеялись.
– Чем смогу – я тебе помогу, – пообещал Менделеев. – Неучем не останешься, ежели только сам плошать не станешь.
Дмитрий Иванович свое слово сдержал – рекомендация в Императорский Московский Университет была от него.
***
– Ну что, подкрепиться? Время к ужину! Ай-да вниз – там цены к людям подобрее?
Александр и Михаил зашагали в сторону фуникулеров, соединяющих верхний и нижний уровень Нижнего Новгорода, протянутого для удобства жителей и гостей Всемирной Выставки. Подвешенные к тросу кабины медленно бороздили воздух, зазывая прокатиться и посмотреть виды на реки с лучших ракурсов.
Солнце ушло – приятная прохлада ласкала кожу. В воздухе растворились запахи высаженных цветов, зелени и свежей воды – ветер дул с разлива Волги. У лужайки, задорно бренча на балалайке, громко распевал похабные частушки какой-то хорошо поддатый мужик с бородой. В лаптях и народном костюме он, видимо, целый день бродил по выставке за пару монет – удивить, да развлечь заграничных туристов старым русским колоритом. Его звонкий голос привлекал внимание городовых, посматривающих, время от времени, как бы задорно отплясывающий мужик в пьяных своих безобразиях не перешел границ приличия. Все-таки Всемирная Выставка! Не какой-нибудь там пьяный первостольный балаган, что закатывается на большой ярмарке гулящим людом…
Сколько по морю ни плавал
Моря дна не доставал!
Сколько в девок не влюблялся
По Матаньке тосковал!
Раз деревня, два село
Как Матаньку повело…
Напилася самогону
Да и выпала в окно!
У-у-у-у-у-х!
На столе клопы сидели
И от солнца щурились!
Как Матаню увидали
Сразу окочурились…
Ох, Матаня, делу время
А потехе только час
Мы напелись, наигрались
Поплясать бы нам сейчас!
Положив балалайку прямо на траву, мужик уселся на корточки и попытался сплясать казачка, выбрасывая ноги вперед и хлопая в ладоши, но быстро завалился на спину, задрав обвязанные онучами ноги в нелепых, расшитых цветастыми нитками штанах. Послышалась витиеватая брань, перешедшая во всхлипывающий хохот – человеку было хорошо. Два городовых, стоящих поодаль и показывая на него пальцами, тоже согнулись от смеха.
На фуникулерах встали в очередь. Желающих нашлось немало – внизу сверкали окнами кабаки и трактиры, готовые принять гулящий люд. Позади студентов стоял молодой человек, плотной толпой прижатый к их спинам. Может, немного моложе тридцати, длинные волосы его были уложены на стороны. Лицо скорее портили, чем украшали густые усы, придающие в остальном вполне интеллигентному виду что-то грубое, безвкусное. Выделяясь на фоне голых щек и подбородка они смотрелись несколько неопрятно.
– Блестящие экспонаты, прямо-таки гордость берет за промышленников и творцов России, как вы полагаете? – любезно поинтересовался Александр, чтобы разрядить неловкую обстановку, когда молодой человек, подпираемый сзади, почти положил голову ему на плечо, локтем пытаясь увеличить дистанцию и шумно дыша прямо в ухо графа.
– Так по-вашему? – пробурчал молодой человек, – А по мне так выставке недостает общей идеи.
– Идеи? Что Вы имеете в виду?
– Да-да, идеи. Ну, знаете, которая бы объединяла все эти здания, экспонаты… Какой-то иначе получился базар, что ли, да еще и на скорую руку выстроенный. Эдакая солянка эпох… Вам не показалось?
– Ну так хотели же разнообразие мысли показать, разве нет? – не согласился Александр, – достижения людей самых разных – там и князь гостинцы наливает и трактора крестьянские и тюлени… Мне лично это по душе пришлось – не скучно.
– Знаете, а тут вы правы, контраста хватает, – голос молодого человека прозвучал не то обиженно, не то с затаенным неприятием, – можно думать, будто красивенькие все эти зданьица намеренно построены на поле, с грязным городом рядом.
– О чем это Вы говорите?
– А вы вообще видели как народ то живет? Видели? И вот в этом то соседстве богатства с нищетой – да – контраст величайший! Достижения я уважаю, науки впечатляют – но вот общей идеи все же не хватает. Народной, общей. Один хвастливый намек только – живем, мол, плохо, зато работаем, глядите, вон как хорошо!
Сбитый с толку, Александр замешкался, не умея продолжить возникший невольный спор. Участвовать в нем совершенно не хотелось.
– Рад знакомству – вежливо ответил он, – позволите узнать Ваше имя? Быть может, у нас есть и общие какие-нибудь знакомые?
– Алексей Максимович Пешков, я родился тут, в Нижнем – знаю, о чем говорю. А Вас как величать? – молодой человек с усами приветственно протянул руку.
Толпа немного рассеялась и фарс с давкой прекратился, дав маневр для беседы без нарушения самых тесных границ. Сразу стало легче.
– Александр Владимирович Толстой. Не буду скрывать – родился в уездной губернии, но вырос в Петербурге. Ну а последние годы мы вместе учимся в Москве, – Александр кивнул в сторону дюжего Михаила, обозначая их знакомство, – это мой товарищ по студенческих будням – Михаил Матвеевич…
– Михаил Матвеевич Тюков, – Мишка взял инициативу и тоже пожал руку новому знакомому.
– Взаимно, взаимно, – из вежливости кивал усач, – Толстой? Вы случаем не родственник незабвенному Льву Николаевичу? – пошутил он.
– Родственник, все верно. Вот только очень дальний. Мы не знакомы с ним, да и едва ли я буду ему интересен, – голос Александра обозначал, что тема ему не слишком приятна и развивать ее не стоит.
– Да ну! Честное слово? Так вы что же, получается, граф? Так что ли?
– Все верно.
– Б-а-а – подружился с графом! Я очень Льва Николаевича уважаю, между прочим! Ну, не зря и съездил – рассмеялся усач.
Александр пожал плечами.
– Я тогда понимаю, , что никакими идеями за народ мне вас не убедить, коль скоро…
– Отчего же? Я близок народу в степени куда большей, чем Вы полагаете. Совершенно, спешу заверить, не богат! – Александр перебил усатого, цепляющего за звучный титул словно за синоним оторванности от всех житейских проблем.
– А вы что это, про классовое неравенство пересуды распространяете? Тема очень даже острая! В университете, знаете, тоже ходят разговорчики, баламуты всякие ходят… все это есть, – встрял Мишка, – вы тоже из таких будете?
Усач улыбнулся, неопределённо тряхнув головой, словно не желая отвечать.
– Кажется, господа, разговор наш зашел совсем не туда, куда его следовало бы направить трем голодным путникам, что вы об думаете? Быть может, доверитесь местному старожилу в выборе места для ужина? Я не вполне уверен в наличии там подобающего вашему графскому титулу меню, но…
– Перестаньте, ну я же сказал!
– Все-все, простите меня, простите великодушно! Это все шампанское Голицына дает о себе знать, – Пешков поправил усы, с хитрецой улыбаясь.
– «Хочу чтобы и рабочий и мастеровой – все что б пили хорошее шампанское!» Ишь чудак! – пробубнил он. – Ну так что, идемте?
Александр и Михаил переглянулись. Серьезных возражений ни у кого не нашлось. Баламут или нет, но голод точно давал о себе знать.
– Ну давай, что уж там, веди!
Глава 5
Усть-Рудица, апрель 1764
Дюжина лет неустанных трудов с беспощадной дисциплиной и без жалости к здоровью не могли не сказаться самым пагубным образом. Изрядно постаревший от бессонных ночей и вечных дрязг с Академией, Михаил Васильевич сидел за столом, сутулясь и часто вздыхая.
Ослабленные постоянными соприкосновениями с целой палитрой ядов и паров, легкие Ломоносова похрипывали, искренне сознаваясь в самой тяжкой усталости. Просили пощады. Ну, хотя бы почаще прогуливаться на свежем воздухе, меньше работать со ртутью, меньше выдувать стекло…
Ломоносову было уже за пятьдесят. А ведь сколько еще надо успеть – тут уж не до забот о здоровье. Конечно, как и всегда… Приоткрывалась тайна, к разгадке которой он шел столько лет. Нет, даже десятилетий!
Ослепительная карьера в академических кругах, хитрые заговоры, выматывающие заседания, рассвет за рассветом, встреченные в кабинете, пока иные нежатся в мягких постелях с женами – неужели все зря? Недопустимо!
Разгадывая загадку головокружительной, длинною в жизнь сложности, Михаил Васильевич расшифровал последний свиток – красный. Знакомый с алхимическими трудами, наводнявшими Европу еще со времен Александрии, ученый прекрасно знал, что цветами своими свитки символизируют Великое делание. Черный этап, белый и красный – все это передавалось из уст в уста, кочевало из трактата в трактат веками. Непонятным оставалось одно – ни слова в свитках не было о превращении металлов. Извечная цель трансмутации простых металлов в благородные словно не замечалась спрятанной здесь древней мудростью. Как если бы ключ к превращениям крылся в чем-то другом, далеком от принятых на вооружение алхимиков методов. Ничего не говорилось о растворении кислотами. Молчали формулы и об опытах со ртутью – меркурием. Названная так за близость к солнцу – искомому золоту – ртуть немало попортила здоровье ученого, хотя за золотым тельцом он никогда не гнался.











