Читать онлайн Дела любви I том
- Автор: Сёрен Кьеркегор
- Жанр: Любовь и отношения, Религиозные тексты
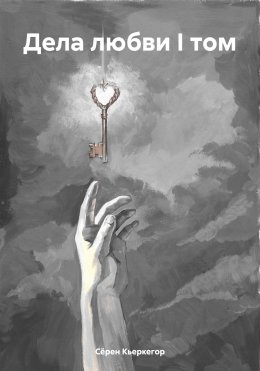
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эти христианские размышления, являющиеся плодом долгих раздумий, можно медленно, но и легко понять, хотя они, безусловно, станут очень трудными для того, кто беглым и просто любопытным прочтением сделает их очень трудными. «Тот индивид», который сначала размышляет о том, читать их или нет, если он потом решит прочесть, он внимательно рассматривает, правильно ли соотносятся друг с другом трудность и лёгкость, когда они вдумчиво взвешены на весах, чтобы не придать христианству ложный вес, делая трудность и лёгкость слишком большими.
Это «христианские размышления», и поэтому они не о «любви», а о «делах любви». Это «дела любви», но не так, как если бы все её дела были здесь перечислены и описаны, отнюдь нет; не так, как если бы одно из перечисленных здесь дел было описано раз и навсегда – слава Богу, нет! Ибо то, что во всём своём богатстве по сути неисчерпаемо, в своём и мельчайшем деянии по сути неописуемо, именно потому что по сути своей присутствует везде в своей полноте и по сути своей не поддаётся описанию.
С.К.
МОЛИТВА
Как можно было бы правильно говорить о любви, если бы забыли Тебя, Тебя, Бога Любви, от Которого исходит вся любовь на небесах и на земле; Тебя, Который ничего не удерживает, но всё отдаёт в любви; Тебя, Который есть любовь, так что любящий есть то, что он есть только благодаря пребыванию в Тебе! Как можно было бы правильно говорить о любви, если бы забыли Тебя, Тебя, Который показал, что такое любовь, Тебя, нашего Спасителя и Искупителя, Который отдал Себя, чтобы спасти всех нас! Как можно было бы правильно говорить о любви, если бы забыли Тебя, Тебя, Духа любви, Тебя, Который ничего не берёт от Себя, но напоминает о той жертве любви, напоминает верующему любить так, как любят его, и своего ближнего, как самого себя! О Вечная Любовь! Ты, Которая присутствует повсюду и никогда не остаётся без свидетельства в том, что здесь может быть сказано о любви или о делах любви. Ибо, безусловно, верно, что есть некоторые дела, которые человеческий язык особенно и ограниченно называет делами милосердия; но на небесах, безусловно, верно, что ни одно дело не может быть угодным, если оно не является делом любви – искренним в своём самоотречении, потребностью любви, и именно поэтому без требований или заслуг.
I
СОКРЫТАЯ ЖИЗНЬ ЛЮБВИ И ЕЁ УЗНАВАНИЕ ПО ПЛОДАМ
«Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника». Лк 6:44
Если всё так, как считает тщеславный умник, гордящийся тем, что он не обманут, что нельзя верить ничему, чего не видит плотское око, тогда прежде всего нужно перестать верить в любовь. И если бы кто-то сделал это, и сделал это из страха быть обманутым, тогда не обманулся ли он? Обмануться можно по-разному; можно обмануться, веря лжи, но можно обмануться, не веря истине; можно обмануться внешностью, но можно обмануться и хитрой внешностью, льстивым тщеславием, которое абсолютно уверено, что его нельзя обмануть. И какой обман опаснее? Чьё исцеление сомнительней – того, кто не видит, или того, кто видит и всё-таки не видит? Что труднее – разбудить спящего или разбудить того, кому снится, что он не спит? Какое зрелище печальнее – то, которое сразу и явно вызывает слёзы, зрелище несчастного обманутого в любви, или то, которое в известном смысле может вызвать смех, зрелище самообманутого, чьё глупое самомнение о том, что он не обманут, конечно, нелепо и смехотворно, если бы эта нелепость не была здесь ещё более сильным выражением ужаса, свидетельствующего о том, что обманывающийся недостоин даже слёз?
Обманывать себя в любви – это самый ужасный обман. Это вечная потеря, которая невосполнима ни здесь, ни в вечности. Ибо если иначе, как бы то ни было, говорится об обмане в отношении любви, то обманутый всё равно относится к любви, и обман просто в том, что любви нет там, где она должна была быть. Но обманывающий себя отгородился и сам отгораживает себя от любви. Говорят также об обмане жизнью или в жизни; но тот, кто жизнью обманывал самого себя, понёс невосполнимую утрату. Вечность может щедро вознаградить человека, который всю свою жизнь был обманут жизнью; но обманувший сам себя помешал себе обрести вечность. О, что же на самом деле потерял тот, кто из-за своей любви стал жертвой человеческого обмана, если в вечности окажется, что любовь пребывает, а обман прекращается! А тот, кто обманул себя, ловко попав в ловушку разума, увы, даже если всю свою жизнь он самонадеянно считал себя счастливым – что он потерял, если в вечности окажется, что он обманул самого себя! Ибо во временном существовании человеку, возможно, удастся обойтись без любви; возможно, ему удастся пройти сквозь время, не обнаружив своего самообмана; ему удастся преуспеть – как ужасно! – в сохранении своего самомнения, упиваясь им; но в вечности он не может обойтись без любви и не может не обнаружить, что потерял всё! Как серьёзно существование, как страшно именно тогда, когда оно, наказывая, позволяет обманутому действовать так, чтобы он жил дальше, упиваясь тем, что он обманут, пока однажды ему не придётся удостовериться, что он обманул себя навечно! Воистину, вечность не позволяет над собой насмехаться; причём ей даже не нужно применять силу, но в её власти использовать немного насмешки, чтобы ужасно наказать самонадеянных. Что соединяет временное и вечное, что, если не любовь, которая именно поэтому была прежде всего и которая пребывает, когда всё остальное прошло? Но именно потому, что любовь есть связь с вечностью, и именно потому, что временное и вечное не похожи друг на друга, любовь может показаться бременем земному благоразумию временного, и поэтому во временном плотскому человеку может показаться огромным облегчением сбросить эти узы вечности.
Обманывающий сам себя действительно думает, что он может утешить себя, более того, что он более чем победил. Тщеславие глупца скрывает от него, насколько печальна его жизнь. Мы не отрицаем, что «он перестал скорбеть». Но что толку в этом, если для спасения нужно начать всерьёз скорбеть о себе! Обманывающий сам себя, возможно, даже думает, что он может утешать других, ставших жертвами вероломного обмана. Но какое безрассудство, что тот, кто получил вечную травму, может исцелить того, кто в лучшем случае смертельно болен! В силу странного противоречия обманывающий себя человек, возможно, даже полагает, что он сочувствует несчастным жертвам обмана. Но если внимательно прислушаться к его утешительной речи и целительной мудрости, то любовь можно узнать по её плодам: по горечи насмешки, по резкости рассуждения, по ядовитому духу неверия, по жгучему холоду ожесточения; то есть по её плодам можно узнать, что там нет любви.
Дерево познаётся по плодам, «не собирают смокв с репейника или винограда с кустарника»1, если вы попытаетесь собрать их там, то вы не только будете собирать напрасно, но и тернии докажут вам, что вы собираете напрасно. Ибо каждое дерево познаётся по плодам своим. Бывают два очень похожих друг на друга плода – один полезный и вкусный, другой горький и ядовитый. Иногда даже ядовитый – очень вкусный, а полезный – горький на вкус. Также и любовь познаётся по её плодам. Если человек совершает ошибку, то это потому, что он либо не знает, как правильно судить в данном конкретном случае, либо он не знает плодов. Как, например, когда человек заблуждается и называет любовью то, что на самом деле есть любовь к себе; когда он громко уверяет, что не может жить без возлюбленного, но ничего не желает слышать о том, что задача и требование любви – отречься от себя и отказаться от себялюбия. Или человек заблуждается и называет любовью слабое самодовольство, или пагубное нытье, или опасные связи, или тщеславие, или лесть, или самообольщение, или сиюминутные впечатления, или отношения временного.
Есть цветок, называемый цветком вечности, но есть, как ни странно, так называемый вечноцветущий цветок, но который, как и все увядающие цветы, цветёт только в определённое время года; какая ошибка называть последний – вечноцветущим! И всё же в момент цветения он выглядит так обманчиво. Но всякое дерево познаётся по плодам своим, так и любовь по плодам своим, и любовь, о которой говорит христианство – по плодам своим, потому что в ней есть истина вечности. Всякая другая любовь, говоря человеческим языком, независимо от того, рано расцветает ли она и изменяется, или лелеемая, сохраняется на весь сезон временного существования, тем не менее преходяща, она просто расцветает. В этом-то и заключается её хрупкость и её печаль; расцветает ли она на час или на семьдесят лет, она просто расцветает. Но христианская любовь вечна. Поэтому ни один человек, если он понимает сам себя, не скажет о христианской любви, что она расцветает. Поэтому ни один поэт, если он понимает сам себя, не станет воспевать её. Ибо воспеваемое поэтом должно содержать в себе печаль, которая является образом его собственной жизни: оно должно расцвести – и, увы, завянуть. Но христианская любовь пребывает, и именно поэтому она есть: ибо то, что расцветает – вянет, и то, что вянет – расцветает, но то, что есть, нельзя воспеть, в это нужно верить, и этим надо жить.
Но когда говорят, что любовь познаётся по её плодам, подразумевают, что сама любовь в определённом смысле сокрыта, и поэтому её можно познать только по её явленным плодам. Это так и есть. Всякая жизнь, также, как и жизнь любви, сокрыта как таковая, но раскрывается в другом. Жизнь растения сокрыта, плод – её проявление. Жизнь мысли сокрыта, её выражение в речи – её откровение. Священные слова, которые мы читаем, имеют двоякое значение, в то время как сокрыто они говорят только об одном; в изречении явно содержится одна мысль, но скрыто содержится и другая.
Итак, давайте тогда обратим внимание на обе мысли, о которых мы сейчас говорим:
СОКРЫТАЯ ЖИЗНЬ ЛЮБВИ И ЕЁ УЗНАВАНИЕ ПО ПЛОДАМ.
Откуда приходит любовь? Где её начало и её источник? Где тайное место, откуда она исходит? Воистину, это место сокрыто или находится в тайне.
Есть место в сердце человека; из которого исходит жизнь любви, потому что «из сердца – источники жизни»2. Но невозможно увидеть это место; как бы далеко вы ни проникали, источник ускользает от вас в отдалении и сокрытии. Даже когда вы проникаете дальше всего, источник всё равно будет немного дальше, как источник родника, который, когда вы находитесь ближе всего к нему, оказывается ещё дальше. Из этого места любовь исходит многими путями; но ни одним из них вы не можете проникнуть к её сокрытому истоку. Как Бог обитает во свете3, из которого исходят все лучи света, озаряющие мир, но ни одним из этих путей человек не может проникнуть, чтобы увидеть Бога; ибо путь света превращается в тьму, если обратиться лицом к свету: так и любовь обитает в тайне или сокрыта в сердце. Как вода горного родника своим журчащим увещеванием манит, нет, почти умоляет человека следовать за ним по его течению, а не пытаться с любопытством пробиться к его истоку и раскрыть тайну; как солнечные лучи своим сиянием приглашают людей созерцать великолепие мира, но предостерегающе наказывают самонадеянного слепотой, когда он оборачивается, чтобы пытливо и дерзко обнаружить источник света; как вера манит быть спутником человеку на жизненном пути, но остолбенеет тот, кто дерзко обернётся, чтобы попытаться понять её: таково желание и молитва любви – чтобы её тайный источник и её сокровенная жизнь в сердце оставались тайной, чтобы никто с любопытством и дерзостью не пытался вторгаться, чтобы увидеть то, чего он не может видеть, но радости и благословения которого он может лишиться из-за своего любопытства. Всегда самое мучительное страдание, когда хирург во время операции вынужден бесцеремонно проникать в самые благородные и потому справедливо сокрытые части тела; так и самое мучительное страдание, к тому же самое пагубное, когда вместо того, чтобы радоваться проявлениям любви, радуются её исследованию, то есть разрушают её.
Тайная жизнь любви находится в сокровенном, она непостижима, и она также имеет непостижимую связь со всем существованием. Как тихое озеро глубоко погружается в сокрытые источники, которых не видел ни один глаз, так и любовь человека погружается ещё глубже – в любовь Бога. Если бы на дне не было источников, если бы Бог не был любовью, то не было бы ни тихого озера, ни человеческой любви. Как тихое озеро тёмными водами зиждется на глубоком источнике, так и человеческая любовь таинственным образом зиждется на любви Бога. Как тихое озеро приглашает вас созерцать его, но его тёмное отражение мешает вам смотреть вниз сквозь него, так и таинственное происхождение любви в любви Бога не даёт увидеть её источник; если вы думаете, что видите его, то это зеркальное отражение, обманывающее вас, как будто бы то, что просто скрывает более глубокий источник, и есть истинный источник. Как хитроумный тайник, чтобы полностью скрыть тайник, выглядит как дно, так обманчиво выглядит глубина, которая лишь скрывает ещё большую глубину.
Так сокрыта жизнь любви; но её тайная жизнь сама по себе является движением и имеет в себе вечность. Как тихое озеро, как бы спокойно оно ни лежало, на самом деле является проточной водой – ибо разве нет на дне источника? – так и любовь, какой бы тихой она ни была в своем сокрытии, всегда находится в движении. Но тихое озеро может высохнуть, если его источник когда-нибудь иссякнет; жизнь же любви имеет вечный источник. Эта жизнь свежа и бесконечна; никакой холод не может заморозить её – она слишком горяча для этого; и никакая жара не может изнурить её – она слишком свежа в своей прохладе. Но она сокрыта. И когда Евангелие говорит о том, что эту жизнь можно узнать по её плодам, разве не означает это, что не следует нарушать и беспокоить этот тайник; что следует отказаться от наблюдений и открытий, которые только «оскорбляют духа»4 и замедляют рост?
И всё же эта сокрытая жизнь любви узнаваема по плодам, более того, это нужда любви – чтобы её узнавали по плодам. О, как прекрасно, что то, что обозначает величайшую нищету, в то же время означает величайшее богатство! Нуждаться, быть в нужде и быть нуждающимся – как не хочет человек, чтобы о нём так говорили! И всё же мы говорим как о высшей похвале, когда говорим о поэте, что ему «нужно писать стихи», об ораторе, что ему «нужно говорить», о девушке, что ей «нужно любить». Увы, даже самый нуждающийся из когда-либо живущих, если у него была любовь, насколько богата была его жизнь по сравнению с жизнью просто бедного человека, который прожил всю свою жизнь и никогда ни в чём не испытывал нужды! Ибо в том и состоит величайшее богатство девушки, что она нуждается в возлюбленном; в том и состоит величайшее и истинное богатство благочестивого, что он нуждается в Боге. Спросите их, спросите девушку, была бы она так же счастлива, если бы могла с таким же успехом обойтись и без возлюбленного; спросите благочестивого, понимает ли он или желает ли, чтобы он мог с таким же успехом обойтись без Бога! То же самое и с распознаванием любви по её плодам, которые, как говорят, появляются на свет при правильных отношениях, что опять-таки означает её богатство. Это было бы величайшим кошмаром, если бы в самой любви действительно было внутреннее противоречие, которое любовь предлагает скрыть, предлагает сделать её неузнаваемой. Это похоже на растение, которое, ощущая в себе энергию жизни и благословение плодородия, не осмеливается дать о себе знать, и будет, как будто благословение – это проклятие, хранить его при себе, увы, как тайну своего необъяснимого увядания! Поэтому это не так. Ибо если даже одно конкретное проявление любви, пусть даже удар сердца, будет изгнано любовью в болезненное сокрытие, то та же самая жизнь любви всё равно найдет новое выражение и будет узнаваема по плодам. О, вы, безмолвные мученики несчастной любви! То, что вы страдали, вынужденные скрывать любовь из-за любви, действительно остаётся в тайне; вы никогда не раскрывали её, так велика была ваша любовь, принесшая эту жертву: и всё же ваша любовь была узнаваема по её плодам! И, возможно, драгоценными стали именно те плоды, которые созрели в безмолвном огне сокрытой боли.
Дерево познаётся по плодам; ибо дерево познаётся и по листьям, но всё же плоды – главная характеристика. Поэтому, если бы вы по листьям определили, что дерево – именно это дерево, а во время плодоношения обнаружили, что оно не приносит плодов, вы бы поняли тогда, что это не то дерево, за которое оно себя выдаёт по листьям. Так же и в распознавании любви. Апостол Иоанн говорит: «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною»5. И с чем же сравнить эти слова и выражения любви, как не с листьями дерева? Ибо слова и выражения, и измышления языка тоже могут быть признаком любви, но они ненадёжны. Одно и то же слово в устах одного может быть таким глубоким, таким надёжным, но в устах другого – как неопределённый шелест листьев. Одно и то же слово в устах одного могут быть как «благословенное питательное зерно», в устах другого – как бесплодная прелесть листьев. Но из-за этого вам не стоит сдерживать слово, как и не нужно скрывать видимые эмоции, когда они искренние. Ибо можно несправедливо обидеть человека, если отнять у него то, что ему причитается. Ваш друг, ваш возлюбленный, ваш ребёнок, или кто бы то ни был объектом вашей привязанности, имеет право выразить эту привязанность в словах, если ваше сердце подсказывает вам. Чувства не принадлежат вам, они принадлежит другому; их выражение принадлежит ему, поскольку вы в своём чувстве принадлежите тому, кто его вызывает, и кто осознаёт, что вы принадлежите ему. Когда сердце переполнено6, вы не должны завистливо, высокомерно, несправедливо по отношению к другому оскорблять его, молча сжимая губы – пусть от избытка сердца говорят уста. Вы не должны стыдиться своих чувств, а уж тем более честно отдавать каждому своё. Но нельзя любить словами и выражениями, как и нельзя по ним распознавать любовь. Напротив, по таким плодам или по тому, что есть только листья, скорее можно понять, что любовь ещё не достигла своей зрелости. Сирах предостерегающе говорит: «Листья твои ты истребишь и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево»7. Ибо именно по словам и речам как единственному плоду любви, человек узнаёт, что он не вовремя оборвал листья, так что не получит плодов; не говоря уже о более ужасном, что только по словам и речам иногда можно распознать обманщика. Следовательно, незрелую и обманчивую любовь можно узнать по тому, что слова и словесные выражения являются её единственным плодом.
О некоторых растениях говорят, что мы должны насадить ими сердце; так же мы можем сказать о человеческой любви: если она действительно должна приносить плоды и, значит, узнаваться по своим плодам, тогда мы должны сначала насадить ею сердце. Ибо любовь, несомненно, исходит из сердца; но давайте, размышляя об этом, не будем забывать ту вечную истину, что любовь насаждается в сердце. Каждому человеку знакомы мимолётные порывы нерешительного сердца; но порывы плотского сердца бесконечно отличаются от насаждения сердца в смысле вечности. И как редко бывает, что вечность обретает такую власть над человеком, что любовь в нём может утвердиться навечно или поистине насадить сердце. А ведь именно это и есть необходимое условие для того, чтобы любовь приносила свои плоды, по которым её можно узнать. Ведь как саму любовь нельзя увидеть, а значит, в неё нужно верить, так и нельзя просто и безоговорочно признать её как таковую по одному из её проявлений.
Нет в человеческом языке ни одного слова, ни одного, даже самого священного, о котором мы могли бы сказать: «если человек говорит это слово, то это безусловно доказывает то, что в нём есть любовь». Наоборот, бывает даже так, что слово, сказанное одним человеком, может заверить нас в том, что у него есть любовь, а совершенно противоположное слово, сказанное другим, может заверить нас в том, что в нём тоже есть любовь; бывает так, что одно и то же слово может заверить нас, что в том, кто его сказал, есть любовь, а в том, кто сказал то же самое слово – нет.
Нет ни одного поступка, ни одного, даже самого лучшего, о котором бы мы могли безоговорочно сказать: «Тот, кто делает это, безусловно доказывает, что он любит». Всё зависит от того, как этот поступок совершается. Есть поступки, которые в особом смысле называются делами милосердия. Но на самом деле, если человек подаёт милостыню, если он посещает вдову, одевает нагого, его милосердие тем самым не доказывается или даже не распознаётся; ибо можно совершать дела милосердия без милосердия и даже эгоистично, а если так, то дело милосердия не является делом любви. Вы, конечно, очень часто видели это удручающее зрелище; и даже, возможно, иногда ловили себя на том, в чём каждый человек должен признаться в себе именно потому, что он не настолько немилосерден и чёрств, чтобы упускать из виду главное, вы ловили себя на том, что, когда вы что-то делаете, вы забываете, как вы это делаете. Увы, Лютер говорил, что ни разу в жизни он не молился абсолютно спокойно, не отвлекаясь ни на какие посторонние мысли; так же и честный человек признаётся, что как бы часто и как бы охотно и радостно он ни подавал милостыню, он никогда не делал это иначе, как несовершенно, возможно, под влиянием какого-то случайного впечатления, возможно, из-за капризной пристрастности, возможно, для успокоения своей совести, возможно, отвернувшись – но не в библейском смысле, чтобы левая рука не знала8, а бездумно, может быть, думая о собственном горе – вместо того, чтобы думать о страданиях бедных, может быть, подавая милостыню, ища личного облегчения – вместо того, чтобы желать облегчить бедность, так что дело милосердия не стало в высшем смысле делом любви.
Поэтому, то, как слово произносится, и главное, что под ним подразумевается, и поэтому, как совершается действие – вот что является решающим в определении и распознавании любви по её плодам. Но и здесь дело в том, что нет ничего, никакого «такого», о котором можно было бы безоговорочно сказать, что оно безусловно доказывает наличие любви или что оно безусловно доказывает, что её нет.
И всё же несомненно, что любовь можно узнать по её плодам. Но эти священные слова предназначены не для того, чтобы заниматься осуждением друг друга; напротив, они предостерегают человека (вас, мой читатель, и меня), чтобы он не позволял своей любви становиться бесплодной, но трудиться, чтобы её можно было узнать по плодам, независимо от того, признают их другие или нет. Ибо он, конечно, должен трудиться не ради того, чтобы его любовь познавалась по плодам, но трудиться так, чтобы её можно было познать по плодам; в этом труде он должен следить за тем, чтобы признание любви не стало для него важнее, чем то единственно важное – чтобы она приносила плоды и поэтому была узнаваема. Одно верно – какие бы мудрые советы ни давал человек, какие бы меры предосторожности ни предпринимал, чтобы не быть обманутым другими, Евангелие требует от индивидуума чего-то другого и чего-то гораздо более важного – чтобы он помнил, что дерево познаётся по плодам, и что именно его или его любовь Евангелие сравнивает с деревом. В Евангелии не говорится, как в речи умного: «Вы или кто-то из вас узнают дерево по плодам», но там сказано: «Дерево познаётся по плодам его». Объяснение в том, что вы, вы, читающие эти слова Евангелия, вы и являетесь деревом. То, что пророк Нафан добавил к притче «Ты – тот человек»9, Евангелию добавлять не нужно, потому что это уже содержится в форме высказывания и потому что это – слово Евангелия. Ибо божественный авторитет Евангелия не говорит одному человеку о другом человеке, вам, мой слушатель, обо мне, или мне о вас. Нет, когда Евангелие говорит, оно обращается к человеку; оно не говорит о нас, людях, о тебе и обо мне, но оно говорит нам, людям, тебе и мне, и оно говорит о том, что любовь познаётся по плодам.
Поэтому, если кто-либо эксцентрично, фанатично или лицемерно будет учить, что любовь – это такое тайное чувство, что оно слишком благородно, чтобы приносить плоды, или настолько тайное, что его плоды ничего не доказывают ни за, ни против неё, причём даже ядовитые плоды ничего не доказывают, тогда вспомним слова Евангелия: дерево познаётся по плодам его. Не для того, чтобы нападать, а чтобы защищаться от подобных утверждений, напомним себе, что здесь, как и в каждом апостольском слове, применимо то, что «поступающий по сему слову подобен человеку, который построил дом свой на камне»10. И «когда налетают бури» и разрушают нежную хрупкость этой чувствительной любви, и «когда дуют ветры и разрывают» паутину лицемерия – тогда истинная любовь будет узнаваема по плодам. Ибо воистину любовь должна быть узнаваема по плодам, но из этого не следует, что вы должны считать себя судьёй; дерево тоже должно быть узнаваемо по плодам, но из этого не следует, что одно дерево вправе судить о других; напротив, всегда только отдельное дерево должно приносить плоды. Но человек не должен бояться ни убивающих тело11, ни лицемерия. Есть только Один, Кого человек должен бояться – это Бог; и есть только один, за кого человек должен бояться – это за самого себя. Воистину, тот, кто в страхе и трепете перед Богом боится за себя, никогда не будет обманут никаким лицемером. Но тот, кто пытается выслеживать лицемеров, независимо от того, удаётся ему это или нет, путь проследит за тем, чтобы это также не было лицемерием; ибо такие открытия вряд ли являются плодами любви. Тот же, чья любовь поистине приносит свои плоды, сам того не желая и не собираясь, разоблачит каждого приближающегося к нему лицемера, а то и пристыдит его; причём любящий может даже не подозревать об этом. Худшая защита от лицемерия – мудрость, причем вряд ли это защита, скорее опасное соседство; лучшая защита от лицемерия – любовь; и это не просто защита, а зияющая пропасть; во веки веков она не имеет ничего общего с лицемерием. По этому плоду и узнаётся любовь, она оберегает любящего от попадания в сети лицемерия.
Но даже если это и так, что любовь познаётся по плодам, не будем, однако, в нашей любви друг ко другу нетерпеливо, недоверчиво, осуждающе требовать постоянно и непрерывно показывать плоды. Первое, что рассматривалось в этом размышлении – это то, что в любовь надо верить, иначе мы просто не узнаем, что она существует; но теперь разговор возвращается к началу и снова и снова повторяет: верьте в любовь! Это первое и последнее, что следует сказать о любви, когда её нужно познавать; но вначале это было сказано в противовес дерзкому здравому смыслу, отрицающему существование любви; теперь же, напротив, после объяснения её узнавания по плодам, это говорится в противовес болезненной, робкой, суетливой ограниченности, желающей в мелочном и жалком недоверии увидеть плоды. Не забывайте, что это был бы прекрасный, благородный, священный плод, по которому любовь в вашем сердце стала бы узнаваемой, если бы по отношению к другому человеку, чья любовь, возможно, принесла худшие плоды, вы были достаточно любящими, чтобы видеть его любовь прекраснее, чем она есть. Если недоверие действительно может видеть меньше, чем оно есть, то любовь может видеть больше, чем оно есть.
Не забывайте, что даже когда вы радуетесь плодам любви, когда вы узнаёте по ним, что любовь живёт в другом человеке, не забывайте, что ещё более благословенно – верить в любовь. В том и состоит новое выражение глубины любви – что, научившись познавать её по плодам, вы вновь возвращаетесь к началу, и возвращаетесь к нему как к высшему – к вере в любовь. Ибо хотя жизнь любви действительно познаётся по плодам, которые её являют, но сама жизнь всё же больше, чем отдельный плод, и больше, чем все её плоды вместе взятые, если их можно было бы пересчитать в любой момент. Поэтому последний, самый благословенный, безусловно убедительный признак любви – это сама любовь, которая познаётся и узнаётся любовью в другом. Подобное познается только подобным; только тот, кто пребывает в любви, может познать любовь так, как и его любовь может быть познана.
II
A. ВЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ
«Но вторая заповедь подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». (Матфея 22:29).
Любая речь, особенно её фрагмент, обычно предполагает нечто, из чего она исходит. Поэтому тому, кто желает принять эту речь или утверждение к рассмотрению, должен сначала найти эту предпосылку, а затем уже отталкиваться от неё. Так и в прочитанном нами тексте содержится предпосылка, которая, хотя и стоит на последнем месте, тем не менее является началом. Ведь когда говорится: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», то в этом содержится предпосылка, что каждый человек любит самого себя. Это христианская предпосылка, поскольку христианство, в отличие от этих честолюбивых мыслителей12, никогда не начинает без предпосылки или с лестной предпосылки.
Разве осмелимся мы отрицать, что христианство предполагает именно это? Но, с другой стороны, разве может ли кто-нибудь так превратно понять христианство, чтобы считать, будто его цель —учить тому, чему единодушно – увы, и всё же разделяя – учит мирская мудрость, что «каждый ближе всего к самому себе»? Разве может кто-нибудь превратно понять это так, будто цель христианства – утверждать себялюбие? Напротив, его цель – лишить нас эгоизма. Ведь этот эгоизм заключается в любви к себе; но если человек должен любить ближнего своего, «как самого себя», тогда заповедь, как отмычкой, срывает замок самолюбия, и тем самым вырывает его у человека. Если бы заповедь о любви к ближнему выражалась как-то иначе, чем этой маленькой фразой: «как самого себя», которая одновременно так проста в употреблении и в то же время обладает напряжением вечности, то заповедь не смогла бы справиться с любовью к себе. Это «как самого себя» не колеблется в своей цели, и с неумолимой строгостью вечности проникает в самые сокровенные тайники, где человек любит себя; оно не оставляет эгоизму ни малейшего оправдания, ни малейшей отговорки. Как странно! Можно вести длинные и содержательные речи о том, как человек должен любить своего ближнего; и после того, как все речи были услышаны, любовь к себе всё равно будет находить себе оправдания и отговорки, потому что тема полностью не исчерпана, все случаи не рассмотрены, потому что всегда что-то забыто, что-то недостаточно чётко и связно выражено и описано.
Но это «как самого себя»! Конечно, ни один борец не может так крепко зажать своего противника, как эта заповедь сжимает эгоизм, который не может сдвинуться с места.
Поистине, когда эгоизм вступает в борьбу с этим словом, которое, однако, так легко понять, что никому не нужно ломать над этим голову, тогда он поймёт, что вступил в борьбу с более сильным. Как Иаков хромал после того, как боролся с Богом13, так должен быть сломлен и эгоизм, если он будет бороться с этим словом, которое не желает научить человека не любить себя, а, напротив, желает научить его истинной любви к себе. Как странно! Какая борьба столь продолжительна, столь ужасна, столь сложна, как борьба эгоизма в свою защиту? И однако христианство всё решает одним ударом. Всё происходит быстро, как по мановению руки, всё решается, как вечное решение воскресения, «вдруг, во мгновение ока»14: христианство предполагает, что человек любит себя, и лишь добавляет к этому слово о любви к ближнему – «как к самому себе». И всё же между первым и последним – вечное различие.
Но действительно ли это высшая форма любви? Разве нельзя любить человека больше, чем самого себя? Ведь речь восторженного поэта слышна во всём мире. Так может быть, тогда христианство не смогло взлететь так высоко, так что оно, вероятно ещё и в силу того, что обращается к простым, обычным людям, так и застряло в требовании любить ближнего «как самого себя»? Может быть, и потому, что вместо воспеваемого поэтами объекта высокопарной любви – «возлюбленного», «друга», оно ставит такого весьма непоэтичного «ближнего»? Ибо любовь к ближнему, конечно, не воспета ни одним поэтом, как и любовь к нему «как к самому себе». Может быть, так и должно быть? Или же, делая уступку воспеваемой поэтом любви по сравнению с заповеданной любовью, мы должны смиренно превозносить христианское благоразумие и понимание жизни, потому что оно более трезво и более твёрдо стоит на земле, возможно, в том же смысле, что и в пословице: «Люби меня меньше, но люби меня дольше»?
Вовсе нет! Христианство лучше любого поэта знает, что такое любовь и что такое любить. И поэтому оно знает и то, что, возможно, ускользает от внимания поэтов, что воспеваемая ими любовь – это скрытая любовь к себе, и именно этим можно объяснить её опьяняющее выражение – любить другого человека больше, чем самого себя. Земная любовь – это ещё не вечная любовь, это прекрасное головокружение бесконечности, её высшее проявление – таинственное безрассудство. Поэтому она пробует себя в ещё более головокружительном выражении: «любить человека больше, чем Бога». И это безрассудство безмерно радует поэта, оно услаждает его слух, оно вдохновляет его на песню. Увы, христианство учит, что это богохульство. И то, что верно в отношении любви, верно и в отношении дружбы, поскольку она тоже основана на любви: любить одного человека больше всех, любить его в отличие от всех. Объект и любви, и дружбы поэтому также носит имя этой пристрастности: «возлюбленный», «друг», которого любят в противоположность всему миру. Напротив, христианское учение состоит в том, чтобы любить ближнего, любить весь род, всех людей, даже врагов, и не делать никаких исключений ни из пристрастности, ни из неприязни.
Есть только Один, Кого человек с истиной вечности может любить больше, чем самого себя – это Бог. Поэтому не говорится: «Возлюби Бога, как самого себя», но: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим»15. Человек должен любить Бога в безусловном послушании и любить Его с благоговением. Если кто-либо осмеливается любить себя таким образом, или любить другого человека таким образом, или позволить другому человеку любить себя таким образом, то это богохульство. Если ваш возлюбленный или друг попросил вас о чём-то, а вы, искренне любя его, беспокоитесь, что это навредит ему, то на вас лежит ответственность, если вы будете любить, уступив его желанию, а не любить, отказывая ему в этом. Но Бога вы должны любить в безусловном послушании, даже если то, что Он требует от вас, может показаться вредным для вас самих, и даже вредным для Его дела. Ибо Божья мудрость несравнима с вашей, и Божье руководство не обязано нести ответственность за вашу мудрость. Вы должны только с любовью повиноваться. Человека же вы должны только – хотя нет, потому что это высшее – человека вы должны любить, как самого себя; если вы можете реализовать его интересы лучше, чем он сам, тогда вы не сможете оправдаться тем, что вредное было его собственным желанием, было тем, чего он сам просил. Если бы это было не так, то можно было бы с полным правом говорить о том, что нужно любить другого человека больше, чем себя; ибо такая любовь заключалась бы в том, что, несмотря на собственное убеждение, что это вредит ему, с послушанием делать это, потому что он этого попросил, или с благоговением, потому что он этого пожелал. Но этого делать нельзя; вы несёте ответственность, если поступаете так, так же, как и другой несёт ответственность за злоупотребление своими отношениями с вами.
Поэтому – «как самого себя». Если бы самый хитрый обманщик, который когда-либо жил (или мы можем придумать ещё более хитрого, чем тот, кто когда-либо жил) заставил закон использовать много слов и стать многословным, ибо тогда обманщик быстро одержал бы победу, продолжая из года в год «искушая»16 спрашивать «царский закон»17: «Как мне любить своего ближнего?» – тогда немногословная заповедь неизменно будет повторять краткое: «как самого себя». И если какой-то обманщик всю свою жизнь обманывал себя всевозможными метаниями в этом вопросе – то вечность лишь обличит его краткими словами заповеди: «как самого себя». Поистине, никто не сможет уклониться от заповеди; если её «как самого себя» в жизни предельно близко к самолюбию, опять же «ближний» – это понятие, которое предельно опасно для самолюбия. Самолюбие само понимает, что от всего этого невозможно уклониться. Единственный выход – тот, что в своё время попытался сделать фарисей, чтобы оправдать себя: поставить под сомнение, кто его ближний – чтобы вычеркнуть его из жизни.
Кто же такой ближний? Слово, очевидно, образовано от «ближайший», поэтому ближний – это тот, кто ближе к вам, чем все остальные, хотя и не в смысле предпочтения; ибо любить того, кто в смысле предпочтения ближе к вам, чем все остальные – это любовь к себе – «Не так же ли поступают и язычники?»18 Итак, ближний ближе к вам, чем все остальные. Но разве он ближе к вам, чем вы сами? Нет, не ближе; но он находится или должен находиться так же близко к вам. Понятие «ближний» на самом деле – удвоение вашего собственного «я»; «ближний» – это то, что философы назвали бы «другим», критерий для проверки того, что является эгоистичным в любви к себе. Ведь для того, чтобы мыслить, даже не обязательно, чтобы ближний существовал. Если бы человек жил на необитаемом острове, если бы он привёл свой разум в соответствие с заповедью, то можно было бы сказать, что, отказавшись от любви к себе, он любит ближнего.
Понятие «ближний» само по себе является множеством, ибо «ближний» означает «все люди», и всё же в другом смысле достаточно одного человека, чтобы исполнить заповедь. Чтобы любить самого себя, не нужно двоих; эгоизму достаточно одного. Не нужно и троих, потому что если есть двое, то есть, если есть хотя бы ещё один человек, которого в христианском смысле вы любите «как самого себя» или в котором вы любите «ближнего», тогда вы любите всех людей. Но чего эгоизм совершенно не переносит, так это удвоения, а слова заповеди «как самого себя» – это именно удвоение. Пылающий любовью никогда не сможет из-за этого или в силу этого горения вынести удвоение, которое здесь означало бы отказ от любви, если бы этого потребовал возлюбленный. Следовательно, любящий не любит возлюбленного «как самого себя», ибо он требует, но это «как самого себя» как раз содержит требование к нему – увы, и при этом любящий даже думает, что любит другого человека больше, чем себя.
Поэтому «ближний» – это любовь к себе, настолько близкая в жизни, насколько это возможно. Если людей только двое, то другой человек – ближний; если их миллионы, то каждый из них – ближний, который опять же ближе к человеку, чем «друг» и «возлюбленный», поскольку они как объекты приоритетной любви, постепенно становятся похожими на себялюбие. Мы обычно признаём, что ближний существует и так близок человеку, когда считаем, что имеем не него права и мы можем что-то от него требовать. Если кто-то в этом смысле спросит: кто мой ближний? – тогда ответ Христа фарисею будет ответом только в своеобразном смысле, ибо в ответе вопрос сначала превращается в свою противоположность, тем самым указывая, как человек должен спрашивать. Рассказав притчу о добром самарянине, Христос говорит фарисеям: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»19 И фарисеи отвечают «правильно» – «оказавший ему милость». То есть, осознавая свой долг, вы легко узнаете, кто ваш ближний. Ответ фарисеев содержится в вопросе Христа, который по своей форме вынудил фарисея ответить так, как он ответил. Человек, перед которым у меня есть долг – мой ближний, и когда я исполняю свой долг, я показываю, что я – его ближний. Христос говорит не о том, чтобы знать ближнего, а о том, чтобы самому стать ближним, доказать, что вы ближний, как доказал это самарянин своим милосердием. Ибо он доказал не то, что пострадавший был его ближним, но что он был ближним пострадавшему. Левит и священник в определённом смысле были ближними пострадавшему, но они не признавали этого; самарянин же, который из-за предрассудков мог неправильно понять, всё же правильно понял, что он был ближним человеку, попавшемуся разбойникам. Выбрать возлюбленного, найти друга – это действительно очень трудно, но ближнего легко узнать, легко найти, стоит только … признать свой долг.
Заповедь гласит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», но при правильном понимании в ней говорится и обратное: «Возлюби самого себя в правильном смысле». Если человек не научится у христианства правильно любить себя, он не сможет любить и своего ближнего; он может, как говорится, «в жизни и в смерти» – привязаться к одному или нескольким людям, но это отнюдь не любовь к ближнему. Правильно любить себя и любить ближнего – это совершенно одинаковые понятия, по сути, это одно и то же. Когда заповедь «как самого себя» лишает вас эгоизма, который, к сожалению, христианство предполагает в каждом человеке, то вы научились любить себя правильно. Таким образом, закон гласит: «Возлюби себя, как ближнего своего, если любишь его как самого себя». Тот, кто хоть немного разбирается в людях, безусловно, признаёт, что как часто ему хотелось заставить людей отказаться от любви к себе, так же часто ему хотелось научить их любить себя. Когда занятой человек тратит своё время и силы на пустые и неважные дела, не потому ли, что он не научился любить себя правильно? Когда легкомысленный человек отдаётся почти за бесценок безрассудству момента, не потому ли, что он не понимает, как любить себя правильно?
Когда удручённый человек желает покончить с жизнью, даже с самим собой, не потому ли, что он не желает научиться строго и серьёзно любить себя? Когда человек из-за того, что мир или другой человек вероломно предали его, впадает в отчаяние, в чём же его вина (ибо здесь мы не говорим о невинном страдании), если не в том, что он не любил себя должным образом? Когда человек, мучая себя, думает, что своим мучением служит Богу, в чём же его грех, если не в том, что он не желает любить себя правильно? Увы, и когда человек самонадеянно накладывает на себя руки, не в том ли его грех, что он не любит себя так, как человек должен любить себя? О, в мире так много говорится о предательстве и неверности, и, о, Боже! это, к сожалению, сущая правда, но давайте никогда не забывать, что самый опасный предатель – это тот, которого каждый человек имеет в самом себе. Это предательство, состоит ли оно в том, что человек эгоистично любит себя, или в том, что он эгоистично не желает любить себя как должно – это предательство, безусловно, является тайной, потому что о нём не кричат, как это обычно бывает в случаях предательства и неверия. Но не потому ли тем более важно вновь и вновь напоминать учение христианства: человек должен любить своего ближнего, как самого себя, то есть так, как он должен любить самого себя?
В заповеди о любви к ближнему одним и тем же словом «как самого себя» говорится и об этой любви, и о любви к себе – и теперь введение к этому рассуждению останавливается на том, что же оно желает сделать предметом рассмотрения. Ибо то, благодаря чему заповедь о любви к ближнему и о любви к себе становится единой – это не только это «как самого себя», но ещё в большей степени слово «вы должны». Именно об этом мы и хотим поговорить:
ВЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ
Ибо в том и состоит христианская любовь, и в том её особенность, что она содержит в себе это кажущееся противоречие: любить – это долг.
Вы должны любить, таково слово «царского закона». И, воистину, мой слушатель, если бы вы смогли составить представление о состоянии мира до того, как были произнесены эти слова, или если вы попытались бы понять самих себя и рассмотреть жизнь и состояние души тех, кто, хотя и называют себя христианами, на самом деле живут в понятиях язычества: тогда с удивлением веры вы смиренно признали бы, что это христианское слово, как и всё христианское, не возникло ни в одном человеческом сердце. Но теперь, когда оно заповедано на протяжении восемнадцати веков христианства, а до этого в иудаизме; теперь, когда каждый был воспитан в нём, и с духовной точки зрения подобен тому, как ребёнок, воспитанный в доме богатых родителей, совершенно забывает, что хлеб насущный – это дар; теперь, когда христианство многократно отвергалось теми, кто в нём воспитан, потому что они предпочитали всевозможные новинки, подобно тому, как человек, который никогда не был голоден, отказывается от здоровой пищи в пользу сладостей; теперь, когда христианство повсюду предполагается, предполагается как известное, как данное, как подразумеваемое – для того, чтобы идти дальше; теперь, конечно, все о нём говорят как о само собой разумеющемся; и всё же, увы, как редко об этом задумываются, как редко христианин серьёзно и с благодарным сердцем задумывается о том, что было бы, если бы христианство не вошло в мир! Какая нужна смелость, чтобы впервые сказать: «Вы должны любить», или скорее, какая нужна божественная власть, чтобы одним словом перевернуть с ног на голову представления и понятия естественного человека! Ибо там, на границе, где человеческий язык замолкает и иссякает смелость, там с божественным началом прорывается откровение и возвещает то, что нетрудно понять в смысле глубины понимания или человеческого сравнения, но то, что не зародилось ни в одном человеческом сердце. На самом деле это не так уж трудно понять, когда об этом говорится, но оно должно пониматься только для того, чтобы применять на практике; но оно не зарождается ни в одном человеческом сердце.
Возьмем язычника, который не испорчен бездумным заучиванием наизусть христианских заповедей, не испорчен воображением, что он христианин – и эта заповедь «Вы должны любить» не только удивит его, но и огорчит, возмутит. Именно поэтому здесь снова применима заповедь любви, которая является христианским признанием того, что «всё новое»20. Заповедь не является ни чем-то новым в случайном смысле, ни чем-то новым в понимании любопытства, ни чем-то новым во временном существовании. Любовь существовала и в язычестве, но понятие о том, что любовь – это долг – это нововведение вечности – и всё стало новым. Какая разница между игрой порывов и чувств, склонностей и страстей, короче говоря, этой игрой сил непосредственности, этой славой, воспеваемой в поэзии в улыбках или в слезах, в желании или в тоске; какая разница между этим и вечностью, серьёзностью заповеди в духе и истине, в искренности и самоотречении!
Но человеческая неблагодарность! О, какая же у неё короткая память! Поскольку высшее предлагается каждому, человек воспринимает его как ничто, ничего в нём не видит, не говоря уже о том, чтобы по-настоящему оценить его драгоценную природу, как будто высшее что-то потеряло из-за того, что все имеют или могут иметь одно и то же. Если в семье есть какое-то драгоценное сокровище, связанное с определённым событием, то из поколения в поколение родители рассказывают об этом своим детям, а их дети, в свою очередь, рассказывают своим детям, что было. Но поскольку христианство на протяжении стольких веков было достоянием всего народа, должны ли тогда прекратиться все разговоры о том, какие изменения вечности произошли в мире с приходом христианства? Разве не обязано каждое поколение21, каким бы близким оно ни было, в равной степени осознавать это? Разве эти изменения стали менее значительными из-за того, что они произошли восемнадцать веков назад? Стало ли теперь менее удивительным, что Бог есть, ведь на протяжении нескольких тысячелетий жили поколения людей, которые верили в Него? Стало ли это менее удивительным для меня, если я верю в это? И разве для того, кто живёт в наше время, восемнадцать веков спустя, менее удивительно, что он стал христианином, потому что прошло восемнадцать столетий с тех пор, как христианство пришло в мир? И если это было не так давно, то он непременно должен вспомнить, каким он был до того, как стал христианином, и поэтому знать, какое изменение произошло в нём, если в нём произошло изменение, когда он стал христианином. Так что не нужны всемирно-исторические описания язычества, будто со времени его падения прошло восемнадцать столетий; ибо не так уж и давно и вы, мой читатель, и я, были язычниками, да, были язычниками, – если только мы стали христианами.
Ибо это, несомненно, самый печальный и самый нечестивый вид обмана – из-за беспечности обманываться в высшем, которым, как кажется, вы обладаете, и однако, увы, не обладаете. Ибо что такое высшее обладание, что такое обладание всем, если я никогда не получаю правильного представления о том, что я этим обладаю, и о том, чем именно я обладаю? Потому что, по Писанию, имеющий мирские блага, должен быть как не имеющий22, думаете ли вы, что это правильно и по отношению к высшему: иметь его и всё же быть как тот, кто не имеет? Интересно, правильно ли это; но нет, давайте не будем обманываться вопросом, будто можно обладать высшим таким образом, но давайте поймём, что это невозможно. Земные блага не имеют значения, и поэтому Священное Писание учит, что, обладая ими, следует обладать ими как чем-то незначительным; но высшим благом человек не может и не должен обладать как чем-то незначительным. Земные блага во внешнем смысле являются реальностью, поэтому человек может иметь их, не имея; но духовные блага существуют только внутренне, существуют только тогда, когда ими обладают, и поэтому человек не может, если он действительно имеет их, быть, как неимеющий; напротив, если он таков, то он просто их не имеет. Если кто-то думает, что у него есть вера, и при этом безразличен к этому обладанию, ни холоден, ни горяч23, тогда он может быть уверен, что у него нет веры. Если кто-то думает, что он христианин, и при этом безразличен к тому, что он христианин, то на самом деле он не христианин. Или что бы мы подумали о человеке, который уверял бы нас, что влюблён, но, однако, был безразличен к этому?
Поэтому как теперь, так и в любое другое время, говоря о христианстве, не будем забывать о его происхождении, то есть о том, что и не приходило на сердце человеку24; не будем забывать говорить об этом наряду с происхождением веры, которая всегда, присутствуя в человеке, верит не потому, что верили другие, но потому что и этот человек был охвачен тем, что охватило бесчисленное множество до него, но от этого не менее оригинальным. Ибо инструмент, используемый ремесленником, с годами тупится; пружина теряет свою упругость и ослабляется; но то, что обладает упругостью вечности, сохраняет её во все времена совершенно неизменным. Когда динамометр используется долгое время, то в конце концов даже слабый может пройти испытание; но динамометр вечности, на котором каждый человек должен быть проверен на то, есть ли у него вера или нет, остаётся неизменным на все времена.
Когда Христос сказал: «Остерегайтесь людей»25, не подразумевается ли под этим и следующее: «Остерегайтесь, чтобы из-за людей, то есть из-за постоянного сравнения с другими людьми, из-за привычек и внешних обстоятельств, вы позволили обмануть себя в отношении высшего». Ибо хитрость обманщика не так опасна, к тому же её легче распознать; но обладать высшим в некоем равнодушном сообществе, в лености привычки, причём в лености привычки, которая желает поставить народ вместо индивидуума, желает сделать народ получателем, а индивидуума – причастным в силу его принадлежности к народу – вот что поистине ужасно. Конечно, высшее не должно быть просто приобретением; вы не должны иметь его для себя в эгоистичном смысле, ибо то, что вы имеете только для себя, никогда не является высшим; но даже если в самом глубоком смысле вы обладаете высшим вместе со всеми (и это именно высшее, что вы можете обладать им вместе со всеми), вы всё равно должны обладать им для себя так, чтобы вы сохраняли его не только тогда, когда оно есть у всех, но сохраняли его даже тогда, когда все откажутся от него. Остерегайтесь людей и в этом отношении, «будьте мудры, как змии»26 – чтобы сохранить тайну веры в себе, даже если вы надеетесь, желаете и трудитесь для того, чтобы все в этом отношении поступали так же, как и вы. «Будьте просты, как голуби», ибо вера – это именно эта простота. Вы не должны использовать свою мудрость для превращения веры во что-то другое, но вы должны использовать мудрость, чтобы мудро по отношению к людям оберегать тайну веры в себе, охраняя себя от людей. Разве пароль, когда все его знают, не является секретом, если он доверяется всем и хранится всеми в секрете? Однако секретный пароль сегодня – один, а завтра – совсем другой, но суть веры в том, что она – тайна, она – для отдельного человека; и если каждый человек не хранит её в тайне, даже когда он исповедует её, значит, у него нет веры. Может быть, это недостаток веры, что она есть, остаётся и должна оставаться тайной? Не так ли обстоит дело и с любовью, или это лишь одно из тех мимолётных чувств, которые сразу же проявляются и тут же исчезают, тогда как глубокое впечатление всегда сохраняет тайну, так что мы даже можем сказать, и вполне справедливо, что любовь, которая не делает человека скрытным, на самом деле не является любовью.
Эта тайная любовь может быть образом веры; но нетленное внутреннее веры в сокрытом человеке – это жизнь. Тот, кто мудр, как змея, охраняет себя от людей, чтобы прост, как голубь, он мог «хранить тайну веры»27, тот, как сказано в Писании, имеет «в себе соль»28; но если он не охраняет себя от людей, то соль теряет свою силу, и разве тогда это соль? И если тайная любовь может погубить человека, то вера всегда и во все времена является спасительной тайной! Вот, эта женщина, страдающая кровотечением29; она не рвалась вперёд, чтобы прикоснуться к одежде Христа; она не говорила другим о своих намерениях и о своей вере; она тихо сказала себе: «Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею». Она хранила эту тайну в себе, эту тайну веры, которая спасла её и во времени, и в вечности. Вы также можете хранить эту тайну веры в себе, и когда вы смело исповедуете веру; и когда вы беспомощно лежите на больничной койке и не можете пошевелить ни рукой ни ногой, когда вы не можете пошевелить и языком, вы всё же можете хранить в себе эту тайну.
Но происхождение веры связано с началом христианства. Ни в коем случае не нужны подробные описания язычества, его заблуждений, его особенностей – признаки подобия Христу содержатся в самом христианстве. Попробуйте сделать так: забудьте на мгновение о христианстве, подумайте о том, что вы знаете о другой любви, вспомните, что вы читали у поэтов, что вы можете узнать сами, а затем скажите, приходила ли вам когда-нибудь в голову такая мысль: «Ты должен любить»? Будьте честны, или, чтобы это вас не смущало, я честно признаюсь, что много-много раз в моей жизни это вызывало во мне полное изумление, что иногда мне казалось, будто любовь теряет всё из-за этого сравнения, хотя она всё приобретает. Признайтесь честно, что, пожалуй, большинство людей, читая восторженные описания любви или дружбы у поэтов, считают их чем-то гораздо более высоким, чем скромное: «Ты должен любить».
«Ты должен любить». Только тогда, когда любить – это долг, только тогда любовь навсегда защищена от всякого изменения, навсегда освобождена в блаженной независимости; навсегда счастлива, защищена от отчаяния.
Какой бы радостной, какой бы счастливой, какой бы неописуемо доверчивой ни была любовь порыва и влечения, непосредственная любовь как таковая – она всё же чувствует, даже в самый прекрасный момент, потребность связать себя, если это возможно, ещё крепче. Поэтому двое клянутся; они клянутся друг другу в верности или дружбе; и когда мы говорим о них наиболее торжественно, мы не говорим: «Они любят друг друга», но: «Они поклялись друг другу в верности» или «Они поклялись друг другу в дружбе». Но чем же клянется эта любовь? Мы не хотим отвлекать внимание и уводить его напоминанием о великом различии, о котором представители этой любви, «поэты», благодаря своему посвящению знают лучше всего – ибо в этой любви именно поэт принимает обет двоих; поэт соединяет двоих; поэт произносит клятву двоим и заставляет их принять её; короче говоря, именно поэт является священником. Клянется ли эта любовь чем-то более высоким, чем она сама? Нет, не клянётся. В этом и состоит прекрасное, трогательное, таинственное, поэтическое непонимание, что эти двое сами этого не признают; и именно поэтому поэт —их единственный, их любимый наперсник, потому что он тоже этого не признаёт.
Когда эта любовь клянётся чем-то, она на самом деле придаёт себе значение того, чем она клянётся; сама любовь набрасывает отблеск на то, чем она клянётся, так что она не только не клянётся ничем высшим, но на самом деле клянется чем-то, что ниже её самой. Так неописуемо богата эта любовь в своём любящем непонимании; ибо именно потому, что она сама по себе является бесконечным богатством, безграничной надёжностью, она, когда желает поклясться, приходит к тому, что клянётся чем-то более низким, но даже не осознаёт этого. Из этого опять же следует, что эта клятва, которая, безусловно, должна быть и которая к тому же искренне считает себя в высшей степени серьёзной, тем не менее остаётся очаровательнейшей шуткой. И ни один таинственный друг, поэт, чья совершенная уверенность и является высшим пониманием этой любви, не понимает этого. Однако легко понять, что если хочешь поклясться в истине, то надо поклясться чем-то высшим; только Бог на небесах воистину может клясться Самим Собой. Но поэт не может этого понять, то есть человек, который является поэтом, может это понять, но он не может этого понять, потому что он поэт, а «поэт» не может этого понять, ибо поэт может понять всё – в загадках, и может замечательно объяснить всё – в загадках, но он не может понять себя или понять, что сам он – загадка. Если бы его заставили понять это, то он, если бы не пришёл в ярость и негодование, печально сказал бы: «Лучше бы мне не навязывали это понимание, которое нарушает мою красоту, нарушает мою жизнь, а я не могу этим воспользоваться». И в этом поэт безусловно прав, ибо истинное понимание решает жизненно важный вопрос его существования. Таким образом, есть две загадки: первая – это любовь двоих, вторая – объяснение её поэтом, или то, что объяснение поэта – тоже загадка.
Итак, эта любовь даёт клятву, а затем двое добавляют к клятве, что они будут любить друг друга «вечно». Если этого не добавить, то поэт не соединит их; он равнодушно отворачивается от такой временной любви или насмешливо обращается против неё, тогда как он навсегда принадлежит той вечной любви. Таким образом, на самом деле есть два союза: первый – двое, которые будут любить друг друга вечно, а второй – поэт, который вечно будет принадлежать этим двоим. И в этом поэт прав, что если два человека не будут любить друг друга вечно, то их любовь не стоит того, чтобы о ней говорить, и уж тем более воспевать её в стихах. С другой стороны, поэт не замечает недоразумения, что двое клянутся своей любовью любить друг друга вечно вместо того, чтобы клясться вечностью в своей любви друг другу. Вечность – это высшее; если клясться, то клясться надо высшим, а если клясться вечностью, то клясться надо «долгом любить». Увы, но этот любимец влюбленных, поэт! Ещё реже, чем двое истинных влюблённых, он сам становится тем любящим, которого ищет его тоска, тем, кто сам является чудом любви. Он, как нежный ребёнок, не может вынести этого «должен»; как только он слышит это, он либо теряет терпение, либо начинает плакать.
Таким образом, эта непосредственная любовь содержит вечное в форме прекрасной фантазии, но она сознательно не основана на вечном, и потому может изменяться. Даже если она не изменяется, она всё равно сохраняет возможность изменения, поскольку зависит от удачи. Но то, что верно в отношении удачи, верно и в отношении счастья, которое, если мы думаем о вечном, нельзя рассматривать без страха, подобно тому, как с ужасом говорят: «Счастье есть – это когда оно было». То есть, пока оно существует или существовало, изменение было возможно; только когда оно прошло, можно сказать, что оно существовало. «Не называй человека счастливым, пока он не умрёт»30; ведь пока он жив, его судьба может измениться; только когда он умрёт, и счастье не покинуло его при жизни, можно сказать, что он был счастлив. То, что просто существует, то, что не претерпело никаких изменений, всегда имеет возможность изменения извне. Изменения всегда возможны; они могут произойти даже в последний момент, и только когда жизнь закончена, можно сказать: «Изменения не произошли» – а может, и произошли. То, что не претерпело никаких изменений, безусловно, имеет непрерывность, но оно не имеет неизменности. В той мере, в какой оно обладает непрерывностью, оно существует, но в той мере, в которой оно приобрело неизменность через изменение, оно не может стать одновременным с самим собой, и тогда оно пребывает в блаженном неведении этой несоразмерности, либо склонно к печали. Ибо вечное – это единственное, что может быть, стать и оставаться одновременным с каждой эпохой. С другой стороны, временное существование само по себе разделяет, и настоящее не может быть одновременным с будущим, или будущее с прошлым, или прошлое с настоящим. Поэтому о том, что, претерпев изменения, обрело неизменность, о том, когда оно существовало, нельзя просто сказать: «Оно существовало», но можно сказать: «Оно существовало, пока оно существовало». Именно в этом и заключается уверенность, а это совершенно иное отношение, чем у счастья. Когда любовь претерпела изменение вечности, став долгом, она обрела неизменность, и из этого следует, что она существует. Ведь из того, что существует в данный момент, вовсе не следует, что оно будет существовать и в следующий момент, но из того, что оно существует, само собой следует, что неизменное существует.
Мы говорим о чём-то, что выдержало испытание, и хвалим его, когда оно выдержало испытание. Но мы всё же говорим о несовершенном, ибо неизменность неизменного не проявляется и не может проявиться, подвергаясь испытанию – ибо она неизменна, и только тленное может придать себе видимость неизменности, пройдя испытание. Поэтому никому не придёт в голову сказать о чистом серебре, что оно должно выдержать испытание временем, потому что это чистое серебро. Так же и с любовью. Любовь, которая просто непрерывна, какой бы счастливой, какой бы блаженной, какой бы доверчивой, какой бы поэтичной она ни была, всё равно должна выдержать испытание годами; но любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, обрела неизменность – это чистое серебро. Так неужели эта любовь, которая претерпела изменение вечности, менее полезна, менее ценна в жизни? Разве чистое серебро менее ценно? Конечно, нет; но язык непроизвольно и мысль сознательно почитают чистое серебро особенным образом, ибо о нём просто говорят, что «его используют». Вообще ничего не говорится о его проверке; никто не оскорбляет его желанием испытать, заранее зная, что чистое серебро выдержит испытание. Поэтому, если кто-то использует менее надёжный состав, то он вынужден быть более сдержанным и говорить менее однозначно; он вынужден говорить почти двусмысленно, говорить двояко: «его используют, и пока его используют, его проверяют», ибо всегда есть возможность изменения.
Следовательно, только когда любовь – это долг, только тогда она вечно надёжна. Эта надёжность вечности изгоняет все тревоги и делает любовь совершенной, совершенно надёжной. Ибо в той любви, которая имеет только непрерывность, какой бы уверенной она ни была, всё же есть одна тревога – тревога о возможности изменения. Она сама не понимает, также, как и поэт, что это тревога; ибо тревога сокрыта, и лишь жгучее желание выразить любовь является признанием того, что в глубине сокрыта тревога. Иначе почему непосредственная любовь так готова и даже так сильно любит подвергать любовь испытанию? Это именно потому, что любовь, став долгом, в глубочайшем смысле не подверглась «испытанию». Отсюда это, как сказал бы поэт, сладостное волнение, которое желает всё более и более безрассудно испытывать. Любящий испытывает возлюбленную, друг испытывает друга; испытание, несомненно, основано на любви, но это неистово жгучее желание испытывать, это страстное стремление подвергнуть любовь испытанию, тем не менее, свидетельствует о том, что сама любовь бессознательно неуверенна. И снова в непосредственной любви и в объяснениях поэта возникает таинственное недоразумение. Любящий и поэт думают, что это желание испытать любовь – лишь выражение того, насколько она надёжна. Но так ли это на самом деле? Совершенно верно, что не хочется испытывать то, что не имеет значения; но это не значит, что желание испытать возлюбленного выражает уверенность. Двое любят друг друга, они любят друг друга вечно, они настолько уверены в этом, что … готовы проверить это. Является ли эта уверенность наивысшей? Разве здесь не похоже на то, когда любовь клянётся и при этом клянётся тем, что ниже любви? Так что для любящих высшим выражением постоянства любви является то, что она просто имеет существование, ибо проверяется то, что просто имеет существование – оно подвергается испытанию.
Но когда любить – это долг, тогда нет нужды в испытании и в оскорбительной глупости желания испытывать; поскольку любовь выше любого испытания, она уже более чем выдержала испытание, в том же смысле, что и вера «более чем побеждает»31. Испытание всегда связано с возможностью; и всегда есть вероятность того, что то, что проверяется, может не пройти испытание. Поэтому, если бы человек захотел проверить, есть ли у него вера, или попытался обрести веру, это будет означать, что он не даст себе обрести веру; он введёт себя в беспокойство, где вера никогда не победит, ибо «ты должен верить». Если верующий умоляет Бога подвергнуть его веру испытанию, это не означает, что у него очень сильная вера (думать так – это заблуждение поэта, так же, как и иметь «очень сильную» веру, поскольку обычная вера и является наивысшей), но это означает, что он не совсем имеет веру, ибо «ты должен верить». Ни в чём нет большей уверенности, и ни в чём нельзя найти покоя вечности, кроме как в этом «должен». Но каким бы блаженным оно ни было, «испытание» – тревожная мысль, и именно тревога заставляет вас думать, что проверка – это высшая уверенность; ибо идея проверки сама по себе изобретательна и неисчерпаема, так же как человеческая мудрость никогда не могла учесть все случаи, тогда как серьёзность, наоборот, так превосходно говорит: «Вера учла все случаи». И когда вы должны, то это решено навечно; и когда вы поймёте, что должны любить, тогда ваша любовь обеспечена навечно.
И любовь также благодаря этому «должен» навечно защищена от любых изменений. Ибо любовь, которая просто имеет постоянство, может измениться, она может измениться в самой себе, и она может быть изменена из самой себя.
Непосредственная любовь может измениться сама в себе, она может превратиться в свою противоположность – в ненависть. Ненависть – это любовь, которая стала своей противоположностью, любовь, которая погибла. Глубоко внутри любовь горит постоянно, но пламя – это пламя ненависти; только когда любовь сгорает, только тогда гаснет и пламя ненависти. Как о языке сказано, что «из тех же уст исходит благословение и проклятие»32, так и о любви следует сказать, что одна и та же любовь любит и ненавидит; но именно потому, что это одна и та же любовь, именно поэтому она в вечном смысле не является истинной любовью, которая остаётся прежней и неизменной, тогда как непосредственная любовь, если она и изменяется, по сути остаётся прежней. Истинная любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, никогда не меняется; она едина, она любит – и никогда не ненавидит, никогда не ненавидит – возлюбленного. Может показаться, что непосредственная любовь сильнее, потому что она может делать две вещи, потому что она может и любить, и ненавидеть; может показаться, что у неё совсем другая власть над своим объектом, когда она говорит: «Если ты не будешь любишь меня, я буду ненавидеть тебя» – но это всего лишь иллюзия. Ибо действительно ли изменяемое обладает большей силой, чем неизменное? И кто сильнее – тот, кто говорит: «Если ты не полюбишь меня, то я возненавижу тебя», или тот, кто говорит: «Даже если ты будешь ненавидеть меня, я всё равно буду продолжать любить тебя»? Это, конечно, ужасно и страшно, что любовь превращается в ненависть; но интересно, для кого это действительно ужасно – не для самого ли обидчика, с которым случилось так, что его любовь превратилась в ненависть?
Непосредственная любовь может претерпеть изменение сама в себе; она может самовозгоранием превратиться в ревность, может превратиться из величайшего счастья в величайшее мучение. Так опасен жар этой непосредственной любви, как бы ни было велико её желание, так опасен, что этот жар легко может превратиться в болезнь. Непосредственная любовь подобна брожению, которое называется так именно потому, что оно ещё не претерпело никаких изменений, а значит, ещё не выделило из себя яд, который и даёт высокую температуру брожения. Если любовь воспламеняется этим ядом вместо того, чтобы выделять его, то возникает ревность; увы! само слово говорит об этом33, это болезнь-рвение, или ревность. Ревнивый человек не испытывает ненависти к объекту любви, отнюдь, но он истязает себя огнём ответной любви, который свято должен очистить его любовь. Ревнивый любящий ловит, почти умоляюще, каждый лучик любви от возлюбленного, но сквозь увеличительное стекло своей ревности он фокусирует все эти лучи на своей любви, и он медленно сгорает. Но любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, не знает ревности; она любит не только потому, что любят её, но любит сама. Ревность любит потому, что любят её; ревниво мучаясь по поводу того, любима ли она, она ревнует как к своей собственной любви, не окажется ли она несоразмерной равнодушию другого, так ревнует и к выражению любви другого; тревожно озабоченная собой, она не смеет ни полностью поверить любимому, ни полностью отдать себя, чтобы не отдать слишком много, и поэтому постоянно обжигается, как обжигаются о то, что не горячо, – разве что от тревожного прикосновения. Это похоже на самовозгорание. Может показаться, что в непосредственной любви совершенно иной огонь, поскольку он может перерасти в ревность; но, увы, именно этот огонь и вызывает ужас. Может показаться, что ревность удерживает свой объект совершенно иным образом, когда следит за ним сотней глаз34, тогда как у единой любви есть, так сказать, только один глаз для своей любви. Но неужели разделение сильнее единения? Неужели разорванное сердце сильнее полного и неразделённого? Неужели постоянно охватывающая тревога держит свой объект крепче, чем объединённые силы единства? И как эта единая любовь защищена от ревности? Может быть, тем, что она не любит в сравнении? Она не начинает с того, что сразу же начинает любить избирательно, нет, она любит; поэтому она никогда не может прийти к паталогической любви в сравнении – нет, она любит.
Непосредственная любовь может измениться сама в себе, она может измениться с годами, как это часто бывает. Тогда любовь теряет свой пыл, свою радость, своё желание, свою простоту, свежесть своей жизни; как река, вырвавшаяся из скалы, впоследствии ослабляется вялостью стоячей воды, так и любовь ослабляется вялостью и безразличием привычки. Увы, из всех врагов привычка, пожалуй, самый коварный, и прежде всего она коварна тем, что никогда не позволяет себя увидеть, ибо тот, кто увидел привычку, спасся от неё. Привычка не похожа на других врагов, которых человек видит и от которых пытается защититься; на самом деле борьба идёт с самим собой за то, чтобы увидеть её. Есть хищный зверь, известный своим коварством, летучая мышь-вампир, которая украдкой нападает на спящего; высасывая из него кровь, она крыльями обдувает спящего прохладой и делает его сон ещё приятнее. Такова привычка – или даже хуже; ибо этот зверь ищет добычу среди спящих, но у него нет средств, чтобы убаюкать бодрствующего. А вот у привычки есть – она подкрадывается к человеку, усыпляя его, и когда он засыпает, высасывает его кровь, обдувая его прохладой и делая его сон ещё приятнее.
Таким образом, непосредственная любовь может измениться сама в себе и стать неузнаваемой – ибо ненависть и ревность познаются через любовь. А иногда и сам человек замечает, когда сон проплывает мимо и забывается, что привычка изменила ему; тогда он хочет исправиться, но не знает, где можно купить новое масло35, чтобы разжечь любовь. Тогда он впадает в уныние, раздражается, тоскует по самому себе, тоскует по своей любви, тоскует по тому, что она такая, тоскует о том, что он не может её изменить; увы, ибо он вовремя не обратил внимания на изменение вечности, а теперь даже потерял способность переносить исцеление.
О, иногда с печалью видишь человека, который когда-то жил в достатке, а теперь обеднел, и всё же насколько печальнее это изменение, когда видишь, как любовь превращается в нечто почти отвратительное! Если же любовь претерпела изменение вечности, став долгом, то она не знает привычки, тогда привычка никогда не сможет получить над ней власть. И как о вечной жизни говорится, что нет ни плача, ни вопля36, так и мы могли бы добавить, что в ней нет и привычки; и тем самым мы поистине не говорим ничего менее удивительного. Если вы хотите спасти свою душу или свою любовь от коварства привычки – да, люди верят, что есть много способов сохранить себя бодрствующими и в безопасности, но на самом деле есть только один: это «должен» вечности. Пусть грохот сотни пушек трижды в день напоминает вам о необходимости противостоять силе привычки; как тот могущественный император Востока37, держите раба, который ежедневно напоминает вам об этом, держите сотню; имейте друга, который напоминает вам об этом при каждой встрече; имейте жену, которая с любовью напоминает вам об этом с раннего утра и до позднего вечера – но следите, чтобы это не вошло в привычку! Ибо вы можете привыкнуть к грохоту сотни пушек, так что вы можете сидеть за столом и услышать самую незначительную мелочь гораздо отчетливей, чем гром сотни пушек, который вы привыкли слышать. И вы можете привыкнуть к тому, что сотня рабов каждый день напоминает вам об этом, и вы больше не слышите этого, потому что благодаря привычке вы приобрели ухо, которым вы слышите и в то же время не слышите. Нет, только «ты должен» вечности – и слышащее ухо, которое услышит это «ты должен», может спасти тебя от рабства привычки38. Привычка – это самое печальное изменение, и, с другой стороны, к любому изменению можно привыкнуть; только вечное, а значит то, что претерпело изменение вечности, став долгом, является неизменным, а неизменное никогда не становится привычкой. Как бы прочно ни закрепилась привычка, она никогда не становится неизменной, даже если человек станет неисправимым; ибо привычка – это всегда то, что должно изменяться; неизменное, наоборот, это то, что не может и не должно изменяться. Но вечное никогда не стареет и не превращается в привычку.
Только тогда, когда любовь является долгом, только тогда любовь вечно свободна в блаженной независимости.
Но разве эта непосредственная любовь не свободна, разве любящий не обладает свободой в любви? И, с другой стороны, разве целью дискурса является провозглашать безрадостную независимость себялюбия, которая стала независимой потому, что у неё не хватило смелости взять на себя обязательства, то есть потому, что она стала зависимой от своей трусости; безрадостную независимость, которая колеблется, потому что не нашла пристанища, и похожа на «движущееся туда и сюда39, вооруженного разбойника, который устраивается там, где его застаёт вечер»; безрадостная независимость, которая независимо не носит оков – по крайней мере, видимых? О, это далеко не так; наоборот, в предыдущем рассуждении мы напомнили вам, что выражение величайшего богатства состоит в том, чтобы испытывать нужду; и поэтому истинное выражение свободы – это потребность в свободе. Тот, кто испытывает потребность в любви, тот, безусловно, чувствует себя свободным в любви; и именно тот, кто чувствует себя настолько зависимым от любви, что он теряет всё, теряя возлюбленного, именно тот и является независимым. Но при одном условии, что он не путает любовь с обладанием возлюбленным. Если бы кто-то сказал: «Любовь или смерть», тем самым подразумевая, что жизнь без любви не стоит того, чтобы жить, тогда мы бы с ним были абсолютно согласны. Но если под этим он подразумевал обладание возлюбленным, то есть, обладать возлюбленным или умереть, обрести друга или умереть, то мы должны сказать, что такая любовь зависима в ложном смысле. Когда любовь не предъявляет к себе тех же требований, которые она предъявляет к объекту своей любви, хотя она и зависима от этой любви, она зависима в ложном смысле; закон её существования лежит вне её самой, и, следовательно, она зависима в тленном, земном, временном смысле. Но любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, любит, потому что должна любить – она независима; она имеет закон своего существования в отношении самой любви к вечности. Эта любовь никогда не может стать зависимой в ложном смысле, ибо единственное, от чего она зависит – это долг, а долг – это единственное освобождение. Непосредственная любовь делает человека в одно мгновение свободным, а в следующее мгновение – зависимым. Это подобно появлению человека на свет; существуя, становясь «я», он становится свободным, но в следующий момент он зависит от этого «я». Долг же, наоборот, делает человека зависимым и в то же время вечно независимым. «Только закон может дать свободу»40. Увы, часто считается, что свобода существует, а закон ограничивает свободу. Однако всё наоборот – без закона свободы вообще не существует, и именно закон даёт свободу. Также считается, что именно закон производит различия, потому что там, где нет закона, нет и различий. Однако всё наоборот – когда закон делает различие, тогда именно закон делает всех равными перед законом.
Таким образом, это «должен» освобождает любовь в блаженной независимости; такая любовь стоит и падает не из-за каких-то случайных обстоятельств своего объекта, она стоит и падает по закону вечности – но тогда она никогда не падает; такая любовь не зависит от того или иного, она зависит только от одной освобождающей силы, поэтому она вечно независима. Ничто не сравнится с этой независимостью. Иногда мир восхваляет гордую независимость, которая считает, что не нуждается в том, чтобы её любили, хотя и считает, что «нуждается в других людях – не для того, чтобы любили её, а для того, чтобы любить их, чтобы было кого любить». О, как же фальшива эта независимость! Она не нуждается в том, чтобы её любили, и всё же ей нужен кто-то, кого можно любить, то есть, ей нужен другой человек – чтобы удовлетворить своё гордое самолюбие. Разве это не похоже на то, когда тщеславие считает, что может обойтись без мира, и всё же нуждается в мире, то есть нуждается в том, чтобы мир увидел, что тщеславие не нуждается в мире! Но любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, безусловно, испытывает потребность быть любимой, и эта потребность вместе с этим «должен» поэтому является вечно гармоничным согласием; но она может обойтись без этой любви, если так должно быть, продолжая любить: разве это не независимость? Эта независимость зависит только от самой любви через «должен» вечности; она не зависит ни от чего другого, а значит, не зависит и от объекта любви, как только он оказывается чем-то другим. Однако это не означает, что независимая любовь тогда прекращается, превращаясь в гордое самодовольство; это – зависимость. Нет, любовь пребывает – это независимость. Неизменность – вот истинная независимость; всякое изменение, будь то лишение чувств слабости или высокомерие гордыни, воздыхание или самодовольство – это зависимость. Если один человек, когда другой говорит ему: «Я больше не люблю тебя», – гордо отвечает: «Тогда я тоже перестану любить тебя»– разве это независимость? Увы, это зависимость, ибо от того, будет ли он продолжать любить или нет, зависит, будет ли любить другой. Но тот, кто отвечает: «Тогда я буду продолжать любить тебя», – его любовь вечно свободна в блаженной независимости. Он не говорит это с гордостью – зависимый от своей гордости, нет, он говорит это смиренно, смиряя себя перед «должен» вечности, и именно поэтому он независим.
Только когда любовь – это долг, только тогда любовь навсегда счастлива и защищена от отчаяния.
Непосредственная любовь может стать несчастной, может прийти к отчаянию. Опять же, может показаться, что сила любви выражается в том, что она имеет силу отчаяния, но это только видимость; ибо сила отчаяния, как бы её ни подчёркивали – это бессилие, её высшее проявление – это разрушение. Однако то, что непосредственная любовь может прийти к отчаянию, показывает, что она в отчаянии, что даже когда она счастлива, она любит с силой отчаяния – любит другого человека «больше, чем самого себя, больше, чем Бога». Об отчаянии следует сказать: отчаиваться может только тот, кто находится в отчаянии. Когда непосредственная любовь впадает в отчаяние из-за несчастья, тогда просто становится очевидным, что она уже была в отчаянии, что в своем счастье она тоже была в отчаянии. Отчаяние заключается в том, чтобы держать индивидуума с бесконечной страстью; ибо с бесконечной страстью можно держаться за вечное только в том случае, если не находишься в отчаянии. Непосредственная любовь, таким образом – это отчаяние; но когда она становится счастливой, как её называют, тогда от неё скрыто, что она находится в отчаянии, когда она становится несчастной, тогда становится очевидно, что она была в отчаянии. Любовь же, которая претерпела изменение вечности, став долгом, никогда не может отчаиваться, именно потому, что она не находится в отчаянии. Ведь отчаяние – это не то, что может случиться с человеком, не событие, подобное счастью или несчастью. Отчаяние – это несоответствие в самом сокровенном его существа – настолько далёкое, настолько глубокое, что ни судьба, ни события не могут вмешаться в него, а могут только открыть, что это несоответствие – было. Поэтому есть только одна защита от отчаяния: претерпеть изменение вечности посредством «должен» долга; тот, кто не претерпел этого изменения, находится в отчаянии; счастье и благополучие могут скрыть это; несчастье и беда, напротив, не приводят его, как он думает, в отчаяние, но они показывают, что он был в отчаянии. Если мы говорим иначе, то это потому, что мы легкомысленно путаем высшие понятия. То, что действительно приводит человека в отчаяние – это не несчастье, а то, что ему не хватает вечного; отчаяние – это отсутствие вечного; отчаиваться – значит не претерпевать изменения вечности посредством «должен» долга. Поэтому отчаяние – это не потеря возлюбленного, не несчастье, боль и страдание; но отчаяние – это отсутствие вечного.
Как же тогда любовь, предписываемая заповедью, защищена от отчаяния? Очень просто, через заповедь, через это «Ты должен любить». Ибо в ней прежде всего говорится, что вы не должны любить так, чтобы потеря возлюбленного показала, что вы были в отчаянии, то есть, что вы вообще не должны любить в отчаянии. Означает ли это, что любить запрещено? Ни в коем случае; было бы действительно странно, что заповедь, гласящая: «Ты должен любить», своим повелением запрещала бы любить. То есть заповедь запрещает любить только так, как не заповедано; по сути, заповедь не запрещает, а повелевает любить. Поэтому заповедь любить не защищает от отчаяния с помощью слабых, вялых доводов для утешения – что нельзя ничего принимать всё слишком серьёзно и так далее. И действительно, не является ли такая жалкая мудрость, которая «перестала скорбеть», меньшим отчаянием, чем отчаяние любящего, не является ли она, скорее, ещё худшим видом отчаяния? Нет, заповедь любить запрещает отчаяние – повелевая любить. У кого хватит смелости сказать это, кроме вечности? Кто готов произнести это «должен», кроме вечности, которая в тот самый момент, когда любовь приходит в отчаяние из-за своего несчастья, повелевает ей любить? Где, как не в вечности, может появиться эта заповедь? Ибо когда во временном невозможно обладать возлюбленным, тогда вечность говорит: «Ты должен любить», то есть вечность спасает любовь от отчаяния именно тем, что делает её вечной. Если смерть разделяет двоих – когда скорбящий впадает в отчаяние – что поможет ему? Временное утешение – ещё более печальный вид отчаяния; и тогда на помощь приходит вечность. Когда она говорит: «Ты должен любить», то это значит: «Твоя любовь имеет вечную силу». Но она говорит это не с утешением, потому что это не помогло бы; она говорит это с повелением, именно потому, что существует опасность. И когда вечность говорит: «Ты должен любить», то она ручается, что это осуществимо. О, что такое любое другое утешение по сравнению с утешением вечности, что такое любая другая глубокая скорбь по сравнению со скорбью вечности! Если бы кто-то сказал более мягко: «Утешайтесь», тогда скорбящий, вероятно, готов был бы возразить; но – да, не потому что вечность гордо не примет возражений – из заботы о скорбящем она повелевает: «Ты должен любить».
Чудесное утешение! Чудесное сострадание! Ибо с человеческой точки зрения, это действительно очень странно, почти что насмешка – сказать отчаявшемуся человеку, что он должен сделать то, что было его единственным желанием, но невозможность которого приводит его в отчаяние. Нужны ли ещё какие-то доказательства того, что заповедь любви имеет божественное происхождение? Если вы попытаетесь проверить это, подойдите к такому скорбящему в тот момент, когда потеря возлюбленного грозит сокрушить его, и посмотрите, что вы можете сказать; признайтесь, что вы хотите утешить его; единственное, что не придёт вам в голову – это сказать: «Ты должен любить». И, с другой стороны, посмотрите, не вызовет ли это, как только оно будет сказано, почти ожесточение у скорбящего, потому что это кажется самым неподходящим, что можно сказать в таком случае. О, но вы, испытавшие горький опыт, вы, обнаружившие в тот тяжелый момент пустоту и отвратительность человеческих утешений – но не утешений; вы, с ужасом обнаружившие, что даже предостережения вечности не могут удержать вас от падения – вы научились любить это «должен», которое спасает от отчаяния! В чём вы, возможно, часто убеждались в незначительных ситуациях, что истинное назидание – это, строго говоря, то, что научило вас в самом глубоком смысле: что только это «должен» навечно счастливо спасает от отчаяния. Навечно счастливо – да, ибо только тот спасён от отчаяния, кто вечно спасён от отчаяния. Любовь, которая претерпела изменение вечности, став долгом, не избавлена от несчастья, но она спасена от отчаяния, в счастье и несчастье одинаково спасена от отчаяния.
Вот, страсть возбуждает, земная мудрость охлаждает, но ни этот жар, ни этот холод, ни смешение этой жары и этого холода не являются чистым воздухом вечного. В этой жаре есть что-то жгучее, и в этом холоде есть что-то резкое, и в смешении того и другого есть что-то неопределённое, или неосознанная обманчивость, как в опасное время весны. Но это «Ты должен любить» устраняет всю нездоровость и сохраняет здравость для вечности. Так везде; это «должен» вечности – спасающее, очищающее, облагораживающее. Посидите с человеком, пребывающем в глубокой скорби; вы можете на мгновение успокоить его, если вы способны выразить страсть отчаяния, на что не способен даже сам скорбящий; но всё же это ложное утешение. Это может на мгновение освежающе соблазнить, если у вас хватит мудрости и опыта, чтобы показать временную перспективу там, где скорбящий ничего не видит; но всё же это ложное утешение. С другой стороны, это «Ты должен скорбеть» одновременно и истинно, и прекрасно. Я не имею права ожесточать свое сердце перед болью жизни, ибо я должен скорбеть; но я не имею права и отчаиваться, ибо я должен скорбеть; и в то же время я не имею права и перестать скорбеть, ибо я должен скорбеть. Так же и с любовью. Вы не имеете права ожесточаться против этого чувства, ибо вы должны любить; но вы не имеете права и любить в отчаянии, ибо вы должны любить; и вы не имеете права подавлять это чувство в себе, ибо вы должны любить. Вы должны сохранять любовь, и вы должны сохранять себя, и сохраняя себя, вы сохраняете любовь. Там, где человек рвётся вперёд, заповедь сдерживает; там, где человек теряет мужество, заповедь укрепляет; там, где человек устаёт и становится расчётливым, заповедь воспламеняет и дает мудрость. Заповедь поглощает и сжигает нездоровость вашей любви, но благодаря заповеди вы снова сможете разжечь её, когда по-человечески она уже угасла. Там, где вы думаете, что легко можете дать совет, возьмите заповедь, чтобы она дала вам совет; там, где вы отчаялись дать себе совет, пусть заповедь даст вам совет; но там, где вы не знаете, как дать совет, заповедь даст вам совет, чтобы всё было хорошо.
II
В. ВЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО
Именно христианская любовь открывает и знает, что существует «ближний», и, что то же самое, что каждый человек является «ближним». Если бы любовь не была долгом, то не было бы и понятия «ближний»; но только когда человек любит ближнего, только тогда искореняется эгоизм в любви и сохраняется равенство вечного.
Христианство часто упрекали, хотя и в разных формах и настроениях, с разными страстями и целями, что оно подавляет земную любовь и дружбу. Впрочем, некоторые пытались защитить христианство и для этой цели обращались к его учению о том, что нужно любить Бога всем сердцем и своего ближнего, как самого себя. Если спор ведётся таким образом, то не имеет значения, спорить или соглашаться, поскольку и борьба в воздухе и соглашение в воздухе одинаково не имеют значения. Скорее нужно увидеть, как прояснить этот вопрос, чтобы со всем спокойствием признать в его защиту, что христианство свергло с престола земную любовь и дружбу, импульсивную и избирательную любовь, пристрастие, чтобы поставить на её место духовную любовь, любовь к ближнему, любовь, которая по искренности, истине и внутренней сущности нежнее любой земной любви – в союзе, и вернее по искренности самой знаменитой дружбы – в согласии. Скорее нужно увидеть, чтобы стало совершенно ясно, что восхваление земной любви и дружбы принадлежит язычеству, что «поэт» на самом деле принадлежит язычеству, поскольку его задача принадлежит ему – чтобы затем твёрдым духом убеждения дать христианству то, что принадлежит христианству – любовь к ближнему, о которой язычество не имеет ни малейшего представления. Скорее нужно увидеть, как правильно провести разделение, чтобы, если возможно, дать человеку возможность выбора вместо того, чтобы сбивать с толку и путать, тем самым мешая человеку получить определённое представление о том, что есть что. И скорее нужно перестать защищать христианство вместо того, чтобы сознательно или бессознательно стремиться утверждать всё – в том числе и нехристианское.
Всякий, кто со всей серьёзностью и проницательностью рассмотрит этот вопрос, легко увидит, что спорный вопрос должен быть поставлен так: является ли земная любовь и дружба высшим выражением любви, или эту любовь нужно отодвинуть на второй план? Земная любовь и дружба связаны со страстью; но всякая страсть, нападает ли она или защищается, борется только одним способом: «или – или»; «Или я существую и являюсь высшим, или я вообще не существую, или всё, или ничего». Обман и путаница (против которых язычество и поэт выступают так же, как и против христианства) появляется тогда, когда защита сводится к тому, что христианство, несомненно, учит высшей любви, но что оно поощряет также земную любовь и дружбу. Подобные высказывания выдают двойственность мышления – у говорящего нет ни духа поэта, ни духа христианства. Что касается состояния духа, то нельзя – если хотите избежать глупостей, – говорить как лавочник, у которого есть товар лучшего качества, но есть и похуже, который он смеет рекомендовать как почти такой же хороший. Нет, если верно то, что христианство учит тому, что любовь к Богу и ближнему есть истинная любовь, то верно и то, что Тот, Кто низложил «всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяет всякое помышление в послушании»41, также низложил земную любовь и дружбу. Разве не странно было бы, если бы христианство было таким нескладным и запутанным, каким его хотят представить многие защитники, и зачастую хуже любого нападения; разве это не странно, что во всём Новом Завете нет ни слова о любви в том смысле, в каком её воспевает «поэт» и обожествляет язычество; разве это не странно, что во всём Новом Завете нет ни слова о дружбе в том смысле, в каком её воспевает «поэт» и обожествляет язычество? Или пусть «поэт», считающий себя поэтом, посмотрит, чему учит Новый Завет о земной любви, и он придёт в отчаяние, потому что он не найдет ни одного слова, которое могло бы его вдохновить – и если какой-нибудь так называемый поэт всё же найдёт слово, которое он мог бы применить, то это будет лживое применение, нечестное применение, потому что вместо того, чтобы благоговеть перед христианством, он крадёт драгоценное слово42 и искажает его применение. Пусть «поэт» исследует Новый Завет, чтобы найти слова о дружбе, которые бы понравились ему, и он будет искать их напрасно, вплоть до отчаяния. Но пусть поищет христианин, желающий любить ближнего своего; и воистину, он не будет искать напрасно, но найдет одно слово сильнее и авторитетнее другого, полезное ему для того, чтобы зажечь в нём эту любовь и сохранить его в этой любви.
«Поэт» будет искать напрасно. Но разве тогда поэт не является христианином? Мы, конечно, этого не говорили и не говорим; а лишь утверждаем, что поскольку он «поэт», он не христианин. Однако необходимо провести различие, ибо есть и благочестивые поэты. Но они не воспевают земную любовь и дружбу; их песни – во славу Бога, о вере, надежде и любви. Эти поэты не воспевают любовь в том смысле, в каком воспевает земную любовь «поэт», потому что о любви к ближнему не поют, а действуют. Даже если бы ничто не мешало поэту воспевать любовь к ближнему в стихах, то уже достаточно того, чтобы помешать ему, потому что на каждом слове в Священной Книге перед ним невидимой надписью стоит знак, который его беспокоит, ибо там написано: «Иди и поступай так же»43 – звучит ли это как поэтический призыв, побуждающий его петь?
Так что с Божьим поэтом – это отдельный вопрос, а с мирским поэтом верно то, что, поскольку он «поэт» – он не христианин. И всё же когда говорим о «поэте», мы думаем именно о мирском поэте. То, что «поэт» живёт в христианском мире, не имеет никакого значения. Является ли он христианином, решать не нам, но поскольку он «поэт» – он не христианин. Конечно, может показаться, что раз христианство существует так долго, оно должно уже проникнуть во все отношения – и во всех нас. Но это обман. То, что христианство существует так долго, вовсе не означает, что именно мы жили так долго или так долго были христианами. Само существование «поэта» в христианстве и место, отведённое ему (ибо грубость и зависть по отношению к нему, конечно, не являются христианским возражением или недовольством против его существования) являются серьёзным напоминанием о том, как много было получено ранее, и о том, как легко мы поддаёмся искушению вообразить себя намного опередившими самих себя. Увы, если христианскую проповедь иногда почти не слушают, то все слушают поэта, восхищаются им, учатся у него, очаровываются им. Увы! Когда быстро забываешь, что сказал проповедник, как точно и как долго помнишь, что сказал поэт, особенно то, что он сказал с помощью актёра! Смысл этого не в том, чтобы, возможно, силой, попытаться убрать поэта; ибо это приведёт лишь к новому обману. Что толку от отсутствия поэта, если в христианстве так много тех, кто удовлетворён пониманием бытия, внушаемое поэтом, так много тех, кто тоскует по «поэту»! От христианина и не требуется, чтобы он в слепом и неразумном усердии дошёл до того, чтобы он больше не мог читать поэта – также как не требуется, чтобы он не ел привычную для других пищу или жил отдельно от других людей в уединении. Нет, но христианин должен понимать всё не так, как нехристианин; он должен понимать себя, зная, как проводить различия. Человек не смог бы жить каждое мгновение исключительно высшими христианскими представлениями, как он не может жить, питаясь только со стола Господнего. Поэтому пусть «поэт» существует, пусть каждым поэтом восхищаются, как он того заслуживает, если он действительно поэт, но пусть каждый человек в христианстве докажет свою христианскую убеждённость с помощью этого испытания – как он относится к «поэту», что он думает о нём, как он его читает, как он им восхищается. Видите ли, в наше время об этом почти не говорят.
Увы, многим эти размышления могут показаться ни достаточно христианскими, ни достаточно серьёзными именно потому, что они касаются таких тем, которые, следует отметить, так сильно занимают людей шесть дней в неделю и даже в седьмой день занимают больше часов, чем Божье. Тем не менее, мы верим – как потому, что нас с детства наставляли и обучали в христианстве, так и потому, что в зрелые годы мы посвятили этому служению наши дни и наши лучшие силы, хотя мы всегда повторяем, что наша речь «не имеет авторитета», – мы думаем, что знаем, как надо говорить и особенно что надо говорить в эти времена. Мы все крещены и наставлены в христианстве, поэтому не может быть и речи о распространении христианства. С другой стороны, мы не вправе судить, что любой называющий себя христианином таковым не является; поэтому не может быть и речи об исповедующем христианство в противовес нехристианину. Наоборот, очень полезно и необходимо человеку внимательно и добросовестно вникать в себя и по возможности помогать другим (насколько один человек может помочь другому, ибо истинный помощник – только Бог) становиться христианами во всё более и более глубоком смысле. Слово «христианство» как общий термин для целого народа – это титул, который легко может сказать слишком много и поэтому может легко заставить человека слишком много о себе думать. Обычно, по крайней мере в других местах, у шоссе устанавливают знаки, указывающие, куда ведёт дорога. Возможно, в тот самый момент, когда человек отправляется в путь, он уже видит по такому указателю, что эта дорога ведёт в то отдалённое место, которое является целью его путешествия – значит ли это, что он достиг этого места? То же самое и с этим дорожным знаком – «христианство». Оно указывает направление, но достиг ли человек цели, или же он всегда находится только в пути? Или же идти вперёд по дороге – это значит раз в неделю в течение одного часа идти по ней, а остальные шесть дней жить совершенно другими представлениями, и при этом даже не пытаться понять, как это можно совместить?
Неужели это и есть серьёзность – скрывать истинное положение дел и обстоятельств, чтобы со всей серьёзностью говорить о самом серьёзном, которое, однако, вполне можно было бы опустить из-за путаницы, чьё отношение к этой серьёзности – из чистой серьёзности – не раскрывается? У кого сложнее задача – у учителя, который представляет серьёзность как находящуюся на головокружительном расстоянии от повседневных дел, или у ученика, который должен применить его объяснение? Разве умалчивать о серьёзном – это просто обман? Разве не менее опасный обман – говорить об этом, но при определённых обстоятельствах, и представлять это – но в свете, совершенно отличном от повседневной реальности? Если же вся мирская жизнь, её блеск, её развлечения, её очарование могут столь многими способами пленить и околдовать человека, то что же тогда серьёзно: либо из чистой серьёзности молчать о мирском в церкви, либо серьёзно говорить об этом, чтобы, если возможно, укрепить людей против мирских опасностей? Неужели нельзя говорить о мирском торжественно и по-настоящему серьёзно? А если нельзя, то следует ли из этого, что о нём нужно умалчивать в божественном наставлении? Увы, нет, из этого следует только то, что оно должно быть запрещено в божественном наставлении по самому торжественному случаю.
Поэтому мы проверим христианское убеждение «поэта». Чему учит поэт, говоря о земной любви и дружбе? Здесь речь идет не о том или ином конкретном поэте, а только о «поэте», то есть только о нём в той мере, в какой он как поэт верен себе и своей задаче. Таким образом, если так называемый поэт разуверился в поэтической ценности любви и дружбы, в своём понятии, и заменил её чем-то другим, то он не поэт, и, возможно, то другое, чем он заменил – это вовсе не христианство, а чистой воды обман. В основе земной любви лежит порыв, который, объясняемый как привязанность, имеет своё высшее, своё безусловное, своё поэтически безусловное, исключительное выражение в том, что в целом мире есть только один-единственный возлюбленный, и что только первая любовь – это любовь44, это всё, вторая же любовь – ничто. Есть пословица, что один раз – это ничто; здесь, наоборот, один раз – это безусловно всё, второй раз – безусловное крушение всего.
Это поэзия, и акцент в ней безусловно сделан на высшем проявлении страсти: быть или не быть. Любить во второй раз – также не любовь, но мерзость для поэзии. Если так называемый поэт хочет заставить нас думать, что земная любовь может повториться в одном и том же человеке, если так называемый поэт хочет побаловаться умной глупостью, которая исчерпала бы тайну страсти в «почему» мудрости, тогда он не поэт. И то, что он ставит на место поэтического, не является христианским. Христианская любовь учит любить всех людей, безусловно всех. Насколько безусловно и сильно земная любовь стремится к мысли о существовании единственного объекта любви, настолько же безусловно и сильно христианская любовь стремится в противоположном направлении. Если в христианской любви сделать исключение для единственного человека, которого не хотите любить, то такая любовь не является «также христианской любовью», но она безусловно не является христианской любовью.
А между тем в так называемом христианстве происходит та же самая путаница: поэты отказались от страстной любви, они уступают, они ослабляют напряжение страсти, они сбрасывают (добавляя) и считают, что человек в смысле влюбленности может любить много раз, и поэтому может быть несколько объектов любви; так называемая христианская любовь также уступает, ослабляет напряжение вечности, уменьшает её требования и считает, что если сильно любить, тогда это христианская любовь. Таким образом, и поэтическое, и христианское смешалось; и то, что заняло их место – ни поэтическое, ни христианское. Страсть всегда обладает таким безусловным свойством, что она исключает третье, то есть третье вносит путаницу. Любить без страсти невозможно; но различие между любовью и христианской любовью заключается поэтому в единственно возможном вечном различии страсти. Никакого другого различия между любовью и христианской любовью представить себе невозможно. Следовательно, если человек думает, что он может понять свою жизнь одновременно с помощью «поэта» и с помощью христианского объяснения, если он думает, что он может понять эти два объяснения вместе – и так, чтобы придать смысл своей жизни – тогда он заблуждается. Поэтическое и христианское объяснение – полная противоположность; «поэт» поклоняется склонности, и поэтому он совершенно прав, поскольку думает только о земной любви, что заповедь о любви – величайшая глупость и самое неразумное изречение; поскольку христианство думает только о христианской любви, оно также совершенно право, свергая с престола склонность и ставя на её место это «должен».
«Поэт» и христианство объясняют прямо противоположное или, точнее говоря, поэт не объясняет ничего, потому что он объясняет земную любовь и дружбу – загадками; он объясняет земную любовь и дружбу как загадки, но христианство объясняет любовь вечно. Отсюда мы снова видим, что невозможно жить одновременно обоими объяснениями, ибо величайшее возможное противоречие между двумя объяснениями, безусловно, в том, что одно не является объяснением, а другое является объяснением. Поэтому земная любовь и дружба, как их понимает поэт, не связаны никакими нравственными задачами. Любовь и дружба – это счастье; счастье, понимаемое поэтически (и, конечно, поэт прекрасно понимает счастье), большое счастье – влюбиться, найти того единственного возлюбленного; счастье, почти столь же большое счастье – найти того единственного друга. В лучшем случае нравственная задача состоит только в том, чтобы быть должным образом благодарным за своё счастье. С другой стороны, задача вовсе не состоит в том, чтобы найти возлюбленного или найти друга; это невозможно, поэт прекрасно это понимает. Следовательно, задача зависит от того, поставит ли счастье эту задачу; но это как раз выражение того, что в нравственном понимании никакой задачи нет. Если, с другой стороны, человек должен любить своего ближнего, тогда задача – это нравственная задача, которая опять же является источником всех задач. Именно потому, что христианство – это истинная мораль, оно умеет сокращать пространные размышления, пресекать объёмные предисловия, устранять все временные ожидания и не допускать пустой траты времени. Христианство немедленно приступает к выполнению своей задачи, потому что оно несёт её в себе. В мире ведутся великие споры о том, что следует называть высшим. Но что бы этим ни называлось, в чём бы ни заключалась это различие, с его пониманием связано невероятно много сложностей.
Христианство же учит человека кратчайшему пути к обретению высшего: «Затвори дверь твою и помолись Богу» – ибо Бог, безусловно, есть высшее. И когда человеку предстоит выйти в мир, тогда он может идти долго – и идти напрасно, скитаться по миру – и скитаться напрасно в поисках возлюбленного или друга. Но христианство никогда не допускает сделать человеку напрасно даже одного шага; ибо когда вы открываете затворенную для молитвы Богу дверь и выходите, тогда первый человек, которого вы встретите, будет тем самым «ближним», которого вы должны любить. Замечательно!
Любопытная и суеверная девушка, возможно, попытается узнать свою будущую судьбу, увидеть своего будущего возлюбленного; и обманчивая мудрость заставит её вообразить, что когда она сделает то-то и то-то, она узнает его, потому что он будет первым, кто встретится ей в такой-то и такой-то день. Неужели так же трудно увидеть «ближнего» – если не мешать себе видеть его? Ибо христианство сделало вечно невозможным ошибиться с ним; во всем мире нет ни одного человека, которого было бы так определённо и так легко узнать, как «ближнего». Вы никогда не сможете спутать его ни с кем другим, ибо «ближний» – это все люди. Если вы путаете другого человека с ближним, то в конечном счёте нет ошибки, потому что другой человек – тоже ближний; ошибка в вас, в том, что вы не хотите понять, кто ваш ближний. Если под покровом темноты вы спасаете жизнь человека, считая, что спасаете своего друга – а он оказался вашим ближним, то это не ошибка; увы, но ошибка именно в том, что вы хотели спасти только своего друга. Если ваш друг жалуется на то, что вы по ошибке сделали для своего ближнего то, что должны были, по его мнению, сделать только для него, увы, тогда будьте уверены, что ошибается именно ваш друг.











