Читать онлайн Кактус Леонова. Записки япониста о важном и разном
- Автор: Екатерина Тарасова
- Жанр: Легкая проза
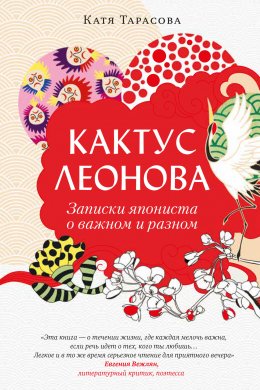
© Катя Тарасова, 2024
© Татьяна Сырникова, иллюстрации, 2024
© ООО «Издательство Лайвбук», 2025
Эти записки – о течении просто-жизни, где каждая мелочь важна, если речь идет о тех, кого ты любишь…Только так и может современный человек, живущий в мире, который ни в какой сюжет не уложишь, потому что в этом мире происходит все, везде и одновременно, написать о себе: фиксируя происходящее, эпизод за эпизодом, ничего из него не выбрасывая и не ранжируя. Поэтому в один текст непостижимо уложены профессиональные байки переводчицы с японского, диалоги с мамой, смешные, но и грустные – оттого, что мы знаем, что мамы скоро не станет, рассказ о психушке, полный неожиданной самоиронии, и анималистические мемуары о любимых чихуахуа. Легкое и в то же время серьезное чтение для приятного вечера.
Евгения Вежлян, литературный критик, поэтесса
Книга зарисовок, внимательных заметок Кати Тарасовой дорога мне по личным и профессиональным причинам. С автором я познакомилась за много лет до того, как она задумала написать книгу. Но дорого и то, что книга написана в резиденции Дома творчества Переделкино, там же найден издатель.
В книге Кати Тарасовой можно выделить три большие части. Заметки о жизни и работе япониста: Катя долгое время устно и письменно переводила с японского. Это заметки талантливой рассказчицы, которая по переводческим делам побывала за последние 30 лет во многих городах России и Японии. И с сибирскими директорами заводов, и с лауреатами конкурса Чайковского, и с олигархами. Вторая часть – заметки из мест заботы о ментальном здоровье. Здесь очень много юмора, который я назвала бы «тихим» – я не смеюсь в голос, но улыбаюсь деликатному и полному самоиронии рассказу. Третья часть – семейная.
В книге ценна интонация наблюдательного рассказчика, внимательного слушателя и собеседника.
Юлия Вронская,
директор по развитию Дома творчества Переделкино
Сначала Катя была лучшей студенткой в группе, потом стала одним из лучших в России переводчиков японского языка. Перевод – это, конечно, не только тяжелая работа, но и творчество. Тем не менее занятия переводом все-таки имеют жесткие рамки и правила, которые придумал не ты сам. Знаю по себе, что от этого устаешь – душа просится на волю. И вот теперь бывшая Катя, а теперь уже Екатерина Сергеевна, взялась за сочинение собственной прозы.
Когда я приступал к чтению рукописи, меня порадовали эпиграфы к ней, в особенности те слова, которые принадлежат Георгию Данелии. Его фильм «Не горюй!» я считаю шедевром всех времен и народов, а книгу «Безбилетный пассажир» перечитываю каждый год. Эстетику Данелии я бы определил как «смех сквозь слезы». Прозу Екатерины Тарасовой я кладу в ту же корзину. Она пишет про людей, с которыми свела ее судьба. Здесь находится место и персонажам (как замечательным, так и никчемным), которых ей довелось переводить, терпеливым врачам и их вздорным пациентам, любимым родственникам, друзьям, собакам… Читая, то смеешься, то плачешь. В общем, это по-настоящему трогательное чтение. Жизнь в большом городе настраивает на цинический и равнодушный лад, но Екатерине Тарасовой удается одушевить окружающее ее пространство, которое не хочется покидать.
Александр Мещеряков,
доктор исторических наук, переводчик с японского, литератор
Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна»
То, что написано в этой книге, было со мной… А может, этого и не было…
Георгий Данелия «Безбилетный пассажир»
Весною – рассвет.
Сэй Сёнагон «Записки у изголовья»
Кактус Леонова
Говорят, писатель Леонов очень любил выращивать кактусы. Любимое занятие его было после писательского дела и собирания книг в свою огромную библиотеку. Кактусы он не только выращивал, но и прививал. Один к другому, а потом второй, и третий, и четвертый… И получалась такая диковина: поликактус. Вроде и колючий, но красивый до жути.
Вот и мои заметки: разрозненны и объединены друг с другом, немного колючи, а красивы или нет, решать читателю.
Предисловие
Лет семь-восемь назад мне посчастливилось побывать в Туре (ударение на е), столице Эвенкии, и присоединиться к общности почетных эвенков. Хотя в моих жилах течет совсем другая кровь, желание петь о том, что вижу, сильнее меня. Если бы я изучала тюркские языки, то сравнила бы себя, наверное, с акыном, но в сердце моем стучит японский, поэтому я пишу эти заметки в японском жанре дзуйхицу, или, буквально, «следуя за кистью», который был известен еще с Х века в «Записках у изголовья» придворной фрейлины Сэй Сёнагон. Но мои ваби, саби и югэн[1] не только несут в себе легкую улыбку, но даже позволяют смеяться над, казалось бы, совсем грустными вещами. Остановиться, вглядеться и засмеяться, от чего на сердце светло.
Записки из мест заботы о ментальном здоровье
В конце февраля 2022 все схлопнулось за несколько мгновений. Пропала любимая работа – смысл и опора всей моей жизни. Раньше мы с коллегами-переводчиками иногда грустно вздыхали: чем будем заниматься в старости, на пенсии, когда выйдем в тираж, чем будем развлекать себя, на что жить? Но это были тревожные мысли, направленные в далекое будущее. Никто не подозревал и даже подумать не мог, что в конце февраля 2022 вся работа закончится в один миг, мы и наш японский станут никому не нужными и нам придется оцепенело смотреть на кадры бомбежек, взрывов, со зверскиубитыми, ранеными и осиротевшими детьми.
Все это, что совсем неудивительно, вогнало меня в жуткую депрессию и тоску. И в конце августа я оказалась в больнице. На тот момент я четвертый месяц подряд пребывала глубоко на дне и творила черт знает что в буквальном смысле этого слова. Писала записки бывшему мужу «прости я сука», пытаясь сигануть с крыши его дома. Оставляла инструкции с паролями от компа, телефона и банковских карточек на после моей смерти, в которой, как водится, прошу никого не винить. Поочередно и вместе выносила мозг друзьям, умоляя их убить меня, раз у меня самой не получается. Выучила наизусть тексты в Яндексе «Как уйти из жизни легко и быстро?», ответ – никак. Добрый Яндекс на мои запросы любезно предлагал первыми страницами «Как диагностировать и что делать, если у вас шизофрения». Диагност из Яндекса хреновый: шизофрении у меня не было. Но если бы у меня был пистолет или быстродействующий яд, то я могла бы «попасть пальцем в небо», как в песне Земфиры: «Мой друг сошел с ума и застрелился».
Мои преданные и горячо любимые мною в моем здравом уме друзья тем не менее не бросали меня, а вежливо отвечали, что я нахожусь в мире своих фантазий, что я не одна, что они готовы мне помочь разумным образом, а не так, как я прошу.
Они дистанционно из Москвы заказывали мне готовую еду на месяц, дарили на день рождения микроволновку, советовали психологов и психотерапевтов, возили меня в больницу «Ихилов» (ударение на первое и, дело было в Израиле) на госпитализацию (не получилось, зато я теперь многое знаю об особенностях приемных покоев израильских больниц из разряда недайбоже!). Подруга Ленка (дай бог ей здоровья и мужа непьющего!), приехавшая меня спасать: готовить еду и прогуливать вдоль моря, так обалдела от моих вечных воплей «убей меня – смотри, как это просто», что сбежала от меня вместе с собакой Мару (бабушка-пес чихуахуа, 14 лет) перекантоваться в хату к знакомому мальчику, случайно встретив его в кафе во Флорике[2]. Мальчик как раз уезжал в поход, и квартира пустовала. Почти вышедшая из депрессии мультизадачная Ленка не опускала рук и возила меня то к моим друзьям в Хайфу, то к бабушке-психиатру, у которой самой, видимо, была деменция: не узнав записку с датой и временем приема, написанную ее же рукой, она говорила: «Принять вас не могу». Потом Ленкин друг отвез нас на своей машине к Светилу психиатрии, который жил в офигенно красивых горах под Иерусалимом. Светило был очень мил, занимался, помимо психиатрии, лингвистическими особенностями в речи психиатрических больных, мы говорили с ним на одном языке, а диагноз мой, как сказал он: ОСИПЛ. То есть отделение структурной и прикладной лингвистики филфака МГУ, которое я закончила. Так как я похудела на тринадцать кг и излучала скорее ауру переводчика с японского, чем лингвиста – специалиста по прикладным системам, как написано в моем дипломе, он не сразу распознал во мне осипловские черты, но потом сокрушался с видом: ну вот, еще одна. К рекомендациям Светила я не прислушалась, хотя потом даже в своем бреду (или бреде?) испытывала угрызения совести из-за того, что воспользовалась его временем, которое он мог бы потратить на тех, кому его помощь действительно (как я думала в тот момент) была нужнее.
Психотерапевты моих друзей стройным хором твердили: бросьте ее, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, пусть падает на дно, если ей так хочется, – и приводили в пример больных на ИВЛ, которые пытаются вырвать трубки. Но мои друзья не отступали и разработали план-перехват. Выбрали подругу из Москвы, которая на тот момент не была загружена работой. Ленка купила ей авиабилеты, приятель Ленки написал на иврите сопроводительное письмо, зачем подруга едет в Израиль, опустив ее главную миссию: забрать в Москву ополоумевшую подругу, то есть меня.
Подруга – творческая личность, у которой особые отношения со временем, расписаниями и прочими атрибутами обыденной жизни, поэтому все боялись, как она доберется в Бен Гурион через Дубай, и следили за ее перемещением в общем чатике, который почему-то назывался «шкаф», хотя, что уж тут говорить, на шкаф я была похожа меньше всего. Мы с Ленкой поехали в аэропорт встречать подругу. Ленка боялась, что ту не впустят в Израиль, я же была уверена, что впустят, так как Господь должен был дать мне последний шанс на спасение. И ее впустили. Подругу мы узнали не сразу, она коротко подстриглась, немного поправилась и стала носить вишневое вместо черного.
Она протусовала у меня несколько дней, демонстрируя железную выдержку и терпение в ответ на все мои провокации, смотрела лекции каких-то то ли бабаджи, то ли сахаджи, короче индийских гуру, и фильмы про доктора Асмолова, который, кажется, сто с чем-то лет назад преподавал физкультуру в Новой Бухаре в гимназии моего дедушки. Среди одноклассников дедушки были дети из гарема эмира Бухарского… но, впрочем, я увлеклась, и это совсем другая история.
Творческая подруга ходила ночами купаться в море, забывая код от входной двери в три часа ночи под моим балконом, таскала меня в сорокаградусную жару на блошиный рынок Пишпишим прикупить сувениров, фотографировала граффити Флорентина, два часа уговаривала меня пойти купаться в море и, спасибо ей, в этом преуспела. Как ни странно, несмотря на мои вопли «Я никуда не полечу!» в день отъезда мы выехали в Бен Гурион с двумя моими чемоданами. Ленка купила мне мой любимый айс-кофе, помахала нам рукой, надеясь, что на ее паспорт тоже наклеят стикер, начинающийся с цифры два – означающий «очень даже благонадежна», когда она будет улетать из Израиля. И мы полетели. Летели мы через Анталию.
Подруга сказала, что любит сюрпризы и неожиданности и так ненавидит, когда все идет по плану, что никакого плана у нее нет. Мы побродили по жаркой Анталии, подруга даже искупалась, пообедали под ее восторженные реплики: «Посмотри, как тут красиво!» – Тут? Что? А, ну да.
Она периодически спрашивала меня: «Катя, где ты сейчас?» или грустно констатировала: «Ты не здесь».
В общем, из Анталии мы прилетели в Москву, и через пару дней друзья отвезли меня сюда, то есть в дурку.
Я скинула тринадцать кг и хожу в худи, трениках, трусах и носках своей подруги, бюстгальтер (или лифак, как говорит мой лечащий врач), кроксы и футболка Дианы Арбениной «Переживем» (подарок артиста) – из личной коллекции «модели». То ли Козетта, то ли Гаврош. Голова седая: корни отросли, хвостик и очки. Судя по тому, что санитары уже два раза спрашивали про моих подруг: «Это ваша дочь?», выгляжу я не очень. На свой возраст, а то и старше.
Весь персонал тут очень приветлив и дружелюбен. Девочки на раздаче еды уже выучили мои вкусы и дают мне один белый, один черный хлеб или наливают побольше любимого чаю с лимоном в мою желтую пластмассовую чашку, а не, как обычно, в пластиковый стаканчик. Медсестры улыбаются и небольно ставят капельницы, извиняются, если пришли позже, чем обычно: «На пятом этаже было много заборов крови, мы брали кровь и ставили капельницы сразу, чтобы лишний раз не травмировать пациентов». Санитарки спрашивают меня: «Катя, ну когда же тебя выпишут? Ты же вроде нормальная. С виду», или: «А ты, я смотрю, шустрая». Они ко всем обращаются на ты, но в этом скорее слышится не грубость и пренебрежение, а родственная забота. «Давай сюда свой остывший ужин, я тебе разогрею, мой хороший».
С другой стороны, конечно, правила пребывания в психиатрической клинике тут не нарушаются. На окнах и в лестничных пролетах – решетки; окна и двери без ручек, персонал ходит со своими ручками-открывашками. Некоторые особенно строгие медсестры следят, выпил ли ты таблетки, и иногда – со мной такое случилось однажды – просят открыть рот, показать, что таблетки проглочены. Правда, иногда особо сообразительные пациенты таблетки или выплевывают, или прячут в карман, но это волшебным образом (кругом камеры) довольно-таки быстро становится известным. И им приходится выпивать таблетки под строгим надзором.
Камеры есть и в палатах, и в коридоре. Обязанность санитарок, которых здесь называют помощницами по уходу, – следить, как бы чего не вышло. Камеры в туалетах гуманно отсутствуют. Или я их не заметила.
У любящих по ночам скроллить в телефоне телефоны отбирают, ногти пациентов на руках и ногах стригут санитарки. Бритву выдают и дают побриться также в присутствии санитарок. Так что я теперь – олицетворение бодипозитива.
Матрасы и подушки – в клеенчатых чехлах на случай всяческих излияний.
Гулять мне можно только с подругами, но это и хорошо: мужья, жены, дети, братья-сестры и прочие родственники когда-то заканчиваются, список подруг – бесконечен. Так что теперь я как шамаханская царица: хочу чаю зеленого, а не черного; привезите мне шоколадку не молочную, а горькую.
Из списка подруг можно сделать бесконечный континуум, но иногда случаются осечки. Приехала б. (бывшая) свекровь.
– Кто это к вам? – спрашивают.
Я для весу – типа тогда точно гулять отпустят – говорю:
– Бывшая свекровь.
И – опаньки:
– А вам можно только с подругами.
Пришлось долго рассказывать, что и свекровь, особенно бывшая, может стать подругой.
С другом мужескаго полу тоже гулять не пустили, но разрешили посидеть в креслах в холле, как будто мы сразу бы с ним в какой-нибудь сугроб запилили и слились бы в экстазе. Хотя понимаю их подозрения: я после салона, куда меня любезно отпустили, в манике, педике, с распрямленными покрашенными волосами – ну не для подруг же старалась.
Так как делать мне здесь абсолютно нечего: невозможно же бесконечно собирать паззлы, раскрашивать картинки и ходить под «Три дня любви» Евы Польны по длинному коридору, – я наблюдаю. Как говорил один знакомый немец, я пришел сюда «наблюдовать». Я люблю наблюдать за людьми и придумывать разные истории. Итак.
– Валя, вы помыли пол в палате? – спрашиваю я у санитарки Вали, мрачной грозной женщины, которая прикатила тележку с ведрами и тряпками для мытья полов.
– Если бы помыла, то я бы уже отъехала.
Спорное утверждение для учреждения, где мы находимся. Может, и отъехала уже. Не помыв.
Подруга Ирка спрашивает, есть ли на территории моего санатория белки.
Говорю:
– Есть, даже две, а прошлой зимой видели лису, но она, кажется, зиму не пережила.
– Вот и хорошо, – говорит Ирка. – К ним нельзя подходить, к лисам этим, вдруг… сумасшедшая.
Вскоре после моего поступления маленькая санитарка узбечка Маша спрашивает меня: «Вы с голосами или не спите?»
Задумалась. Пыталась найти в себе голоса, даже погуглила. Но нет.
Маша путает фамилии, часто пытается дать мне чужую зубную щетку и называет меня «как-ее-там-Zахарова», нелучшая фамилия в нынешние времена (Олюшка и Катя, простите).
Снаружи киргизы с раз-веялками собирают опавшие листья в черные мешки. А-ля расчлененка Декстера.
А Аня с рыженькой косичкой звонким голоском правильно напевает в ду́ше «Листья желтые». Говорят, Аня раньше пела в каком-то ансамбле, а теперь живет здесь. Долго. Может, навсегда. Просит кастеляншу Заряну Сергеевну (не путать с санитаркой Зариной) заплетать ее рыжие с сединой волосы в длинную косичку. Аня быстро ходит по коридору в белых кроксах, не размахивая руками (такая походка есть и у других обитателей, я называю их пряничными человечками). Зубов Аня не носит. Жмут. Иногда клеится к Семену Нечипоренко, который тоже рыжий с проседью и тоже живет тут вечно. Он подолгу сидит в игровой комнате и играет в какую-то стрелялку с римскими воинами. (Один раз он спрашивал меня(!), как называется наименьшее боевое подразделение у римлян, и я (о чудо! университетское образование не пропьешь) угадала.) У Семена большой живот, и он носит казенные пижамные штаныв сине-черную клетку, которые ему коротки.
Диалог. Аня хлопает Семена по животу и спрашивает: «Ты на каком месяце?»
Семен: «На восемнадцатом».
Аня: «Как у слона. Дальше ты должен сказать: а хочешь, хоботок покажу?»
Но Семен молчит. И не хочет ничего показывать.
У Ани бездонные голубые глаза, и она как-то пару дней заходила ко мне в палату нюхать подаренные подругами гиацинты. Наклонялась к ним близко и говорила: «Ох, какой аромат, с днем рождения вас». Правда, цветы быстро завяли, да и день рождения у меня был в начале июля. Аня расстроилась.
Однажды Аня надела колечко с жемчугом и новый коричневый кардиган и дефилировала по коридору со словами: «Мне к лицу дорогие вещи».
Перед сном, на ночь нам дают кефир.
Юля Суслова высовывается из палаты: «А кефир будет?»
Аня проходит мимо по коридору и бросает, не снижая скорости: «Надейся и жди».
– Привет, Димуля, – говорит Аня.
«Димуля» обиженно отвечает:
– Я Миша.
– Ну, ладно, Димуля, покедова.
– Я Миша.
Миша, парень высокий, постоянно шаркая тапками, ходит туда-сюда по коридору, закатив глаза и открыв рот. Кажется, в эти моменты он что-то изобретает. Миша здесь уже месяцев девять. Говорит, не хочет возвращаться домой, так как родители высасывают из него энергию. Чтобы укрепить ее, Мише дают галоперидол.
Через полгода Аню разобьет инсульт, и ее переведут на пятый этаж, где содержатся тяжелые пациенты. Она перестанет петь. Сильно похудеет, с ввалившимися щеками и остановившимся взглядом мутных глаз будет сидеть в коридорчике, никого не узнавая.
Кормят нас тут… в общем-то, норм. Только несоленое все, чтобы давление было как у космонавтов. Мы с соседкой на ЩД – щадящей диете. Нам дают печеные яблоки на полдник, а печенье не положено, но добрая Юлечка дает иногда. Вероятно, у остальных – диета беспощадная. Недавно давали печенье «Лиза» – на упаковке, правда, было написано «Гензель и Гретхен». О чем думали разработчики? Видимо, о том, что Лиза написать на печенье проще…
Все напитки одинакового цвета мочи, только вкус разный: вода с легким оттенком сладкого чая, компота, напитка «шиповник» или с намеком на яблочный сок.
Суп некоторые «жильцы» называют баландой. Для меня стало открытием, что бульон может быть сварен на картошке или на вермишели.
Каждый день после обеда у нас бывает обход врачей. Думаю, проект «бережливая больница» Росатом сюда внедрял (здесь подписаны по назначению халаты персонала, ведра для мытья полов и т. п., что намекает на внедренный кайдзен). Моя врач Мария Викторовна высока и стройна и периодически радует глаз доктора Владимира Иваныча (и не только его) мини-юбками, открывающими ее бесконечные ноги. Иногда она садится на мою кровать и этими ногами болтает. Не знаю, смогу ли узнать ее на улице, потому что Мария Викторовна всегда приходит на обход в маске и я вижу только ее пронзительно голубые глаза, которыми она пристально на меня смотрит.
Обход начинается на пятом этаже, а потом врачи спускаются к нам, на четвертый. Санитарки следят по камерам и говорят, в какой палате обход и скоро ли к нам спустятся. Бывают отдельные вредные экземпляры, которые буркают: «Идет обход. Какая разница где».
Обычно пациенты наматывают шаги по коридору, чтобы показать врачам, как они проводят жизнь в движенье, а не валяются на кровати. Я тоже начинала с подобной показухи, а потом втянулась и стала нахаживать по двадцать тысяч с лишним шагов.
Обход идет по коридору. В отделении есть психологи: три модные грации. Мой первый психолог Вероника Николаевна, или Никник, – голубоглазая, стройная красотка метра под два ростом. Сначала она давала мне тесты на когнитивную пригодность. Потом заставляла вытягивать из трех колод метафорические карты. Потом пугала нерадужными перспективами: сначала кончатся деньги и меня переведут в общее отделение, потом лишат дееспособности и отправят в психоневрологический интернат или будут лечить ЭСТ (электросудорожной терапией). «Подумаешь, приставят к вискам проводки и вылечат», – со сладостной улыбкой говорила она. В моей голове возникали кадры из фильмов «Полет над гнездом кукушки» и «Мученицы», психологическая травма моя, меня начинало трясти и бросало в жар от обреченной покорности частично воплотить сюжет фильма в жизнь. Потом Никник решила меня чем-то занять, то рекомендовала начать помогать кому-то, то поехать в салон покрасить волосы, то поучиться чему-нибудь, например – о майн готт! – записавшись на курсы шоппинга. На «Нарисуй картинку по номерам» пришлось согласиться. Надо сказать, к тому моменту я уже сложила паззл целиком впервые в жизни и третью неделю с перерывами на прием скудной пищи решала по три бесплатные задачки из проги «Люмосити». На картинке 1000 точек, которые надо соединять по порядку. Некоторые из них (а это была ксерокопия) пропечатались плохо. Зрение у меня хуже некуда: и близорукость, и дальнозоркость, и еще хрен знает что, поэтому по картинке пришлось водить носом. Кое-как номерки я соединила, но второй глаз – а это был мужской портрет – не был прорисован из-за плохо пропечатавшихся цифр. Никник всё понравилось:
– Смотрите, – говорит, – какой выразительный глаз получился, а всего лишь циферки соединили.
Я говорю:
– Это да, конечно, но вот со вторым-то глазом не получилось: циферки смазанные.
Она спросила, может ли забрать портрет предположительно Махатмы Ганди с отсутствующим левым глазом.
Я ответила:
– Берите, вряд ли мы захотим украсить им стену.
Никник задумалась и стала говорить про синдром госпитализация-что-то, когда так привыкаешь к больничке, что не хочешь из нее выходить. И что она подумает, чем бы еще меня напугать и ухудшить мое пребывание тут, чтобы синдром этот не развился. Тем самым разозлила меня, что оказалось, в общем-то, неплохо.
Еще она рассказывала, как нашла сыну онлайн препода английского из Голландии. В процессе занятий голландец стал превращаться… в женщину. Никник испугалась и занятия прекратила. «Неужели смена пола отшибла у голландца знание английского языка?» – хотела спросить я, но решила на всякий случай не открывать хлеборезку.
Когда Никник уехала в отпуск на Шри-Ланку к отцу своего, как она выражалась, мало́го, мне заменили психолога на роковую брюнетку Веронику Рамазановну. У нее был другой подход, мягче и деликатнее. Смена психолога меня радовала. Пока познакомимся, пока начнем, я смогу и дальше саботировать все советы и предложения, – думала я. Но ВР была упорна. Она то проводила наши занятия, прогуливаясь со мной на свободе (вне территории больницы), то предлагала сходить в соседний ТЦ выпить кофе. Раскрасками и картинками меня не мучила, тем более что к тому моменту я заканчивала складывать десятый паззл из тысячи фрагментов: «Фламинго на фоне моря, или Пятьдесят оттенков голубого». И в конце концов методика ВР совместно с новым препаратом Марии Викторовны начала приносить плоды. Я возвращалась в себя и к себе. Никогда не забуду, как ВР сказала мне: «Здравствуйте, Катя. Я наконец-то очень рада познакомиться с вами, настоящей».
Помимо врачей, психологов, санитарок и санитаров, у нас есть медсестры. Одна, которую я считала самой главной, строго спрашивает, глядя поверх очков: «Как настроение? Все нормально? Жалобы есть? Неужели так вам ничего и не помогает?» Оказалось, никакая она не старшая медсестра, а просто понтуется, разнося таблетки. Думаю: надо немного проехаться. Вот она приносит таблетки, смотрит поверх очков, спрашивает про настроение, а на руке у нее что-то написано ручкой. «Ой, – говорю, – это у вас татуировка?» Она отвечает: «Нет, это чтобы вспомнить утром, а то так набегаешься за день…» – «Неужели имя, сестра?» – спрашиваю я, а она краснеет.
Санитарка то ли хочет быть любезной, то ли облеченной властью. Спрашивает у бабушки Зои:
– Какое у вас настроение?
– Какое может быть настроение в психиатрической больнице?
Зоя раньше работала редактором, поэтому ходит с толстой тетрадью и конспектирует, что ей говорит телик в игровой комнате. Я называю ее Зоя-с-кружечкой после одного эпизода. На посту стояла чья-то баночка с мочой, и Зоя решила свою тоже сдать. Но специальной баночки у нее не было, что и неудивительно: Зоину мочу никто не ждал, и она принесла ее в своей чайной кружечке. Санитарки на посту заохали и попросили Зою содержимое вылить, а кружечку хорошенько помыть, что она, наверное, и сделала. Теперь из этой кружечки она каждый день бегает поливать цветы к вящему ужасу санитарки Иры, которая трепетно за ними ухаживает. (У нас цветут орхидеи, цикламены и еще какие-то беленькие со странным названием «женское счастье». Вообще-то, цветочные горшки у нас не положены из соображений безопасности. Как-то раз один горшок полетел во Владимира Иваныча, но он сказал: «Ничего страшного, пусть цветы остаются, радуют глаз пациентов».)
Но мы отвлеклись от Зои. Спрашиваю у нее, пока нас везут на скорой к стоматологу: что она пишет в своих тетрадочках, книгу? Зоя говорит, что делает заметки, конспектирует, учится медицине. Потому что поступила сюда совсем безграмотной в этом плане, совсем ничего не знала. Говорю: «У вас какие-то курсы дистанционные?» – представляя что-то типа TED, а она отвечает: «Я Малышеву конспектирую и доктора Мясникова. Столько нового…»
Другая бабушка – Ирина Петровна с красивой фамилией Воздвиженская. Она даже собирала как-то обитателей больницы в общей комнате, где рассказывала историю своей семьи. Но, говорят, было неинтересно. Ирина Петровна похожа на птицу: у нее крючковатый нос, впалый рот (зубов она тоже не носит) и абсолютно безумные глаза, суровый взгляд шизофреника. Раньше она работала научным сотрудником – литературоведом и библиотекарем, и видимо поэтому не разрешает брать книги из игровой комнаты, не заполнив формуляра. Понятное дело, что никаких формуляров там нет. Но основное занятие, а точнее даже миссия, Ирины Петровны – это охрана кулера. Она сидит рядом с ним, и если кто-то, недайбог!, будет наливать воду, пока горит красная лампочка, она строгим голосом кричит: «Не наливайте! Вы что, не видите, что горит красная лампочка?! Это значит работает кипятильник! Вы же не наливаете чай из чайника, когда он кипит?! Вы его сломаете!»
Даже холодную воду наливать не велит. Поэтому мы позволяем себе мелкие шалости: смотрим направо, налево и, если Ирины Петровны нет на горизонте, радостно наливаем воду при красной лампочке. У меня даже появилась идея: подарить ей магнит с вечно горящей красной лампочкой. Вот было бы весело. Хотя за время моего пребывания сломалось три кулера, так что, может, Ирина Петровна не так уж и не права.
Однажды одна девочка, пытаясь усмирить неутомимый нрав Ирины Петровны, кажется, похвалила ее кофточку. Или сказала, что она выглядит хорошо.
– Ты что, лесбиянка? – строго спросила Ирина Петровна, продолжая неусыпно следить за красной лампочкой.
На вопрос: «Как ваши дела?» Ирина Петровна отвечает: «Какие могут быть дела в психушке?!»
Однажды она (о чудо!) заговорила со мной. Видимо, была короткая ремиссия.
– Мне кажется, вы хотите со мной поговорить, – сказала она, когда я собирала очередной е…чий паззл («Тропический лес, или Пятьдесят оттенков зеленого») в игровой комнате. Паззл Ирина Петровна почему-то называла кубиком Рубика. Она рассказала мне, что была научным работником, литературоведом, писала статьи, получала за это хорошие деньги и даже хотела устроиться работать в ИНИОН, но ее не взяли из-за маленького ребенка. Потом Ирина Петровна рассказала, что неплохо рисует, и спросила, не смогу ли я ей попозировать. Но потом передумала ввиду отсутствия мольберта. Больше мы с ней не разговаривали, а потом она и здороваться со мной перестала.
Некоторые пациенты здесь долго не задерживаются, но оставляют свой след.
Вика из семнадцатой палаты след оставила яркий. Она носила лосины и худи «Хилфигер». Зеленого, канареечно желтого, малинового и прочих вырви глаз цветов. Вечером переодевалась в белую с шелком пижаму. Вика не спала десять суток подряд и нахаживала десятки километров и тысячи шагов по коридору, громко разговаривая по телефону. Зачем она так делала, было не очень понятно, потому что палата у нее была одноместная. Но зато про перипетии Викиной жизни и работы знало все отделение.
Моя соседка Любовь Семеновна поступила в больницу в состоянии крайней растерянности. В казенном халате и мужской байковой пижаме в клетку, что составляло некоторый диссонанс с качественным татуажем ее глаз, хорошо окрашенными волосами, ботоксом и губами уточкой. Родом она была из Читы, одна дочка жила в Москве, другая в Воронеже, сыновья и муж Виктор Иванович, директор швейной фабрики, где Любовь Семеновна была главбухом, – в Чите. Себя она называла забайкалочкой, пила в пять утра крепкий чай с молоком, громко прихлебывая и приговаривая: «А-а-а-а-а, вкусненько» или «Вкусняшка». Что с ней приключилось, было не очень понятно. Кажется, она потерялась в мегаполисе. Без банковских карточек и денег. Какие-то наркоманки вроде бы предлагали ей ширнуться, а она вместо полиции вызвала скорую помощь, которая ее доставила в 67-ю больницу, психиатрическое отделение. «И правильно сделали», – сказала Мария Викторовна и, переглянувшись с Владимиром Иванычем, прошептала: «Психопатический бред». А медсестра с папкой с назначениями просто грустно и сочувствующе смотрела. Любовь Семеновна пробыла тут три недели, но след оставила яркий, надолго. Она довольно быстро пришла в себя, радуясь душу, возможности съедать содержимое передач от родственников в любое время, а не с четырех до пяти часов, как в общем отделении, делать запасы, «как белочка», а еще тому, что никто не орет и к кровати или стулу не привязывает и волосы запутавшиеся не состригает. Она переоделась в спортивный костюм с крупной надписью «Армани» и мазалась диоровским кремом. Видимо, у нее было плохое кровообращение: мерзли руки и ноги, и она постоянно нагревала воду в душе, потоки которой вызывали у меня ужас: видимо, осталась привычка из страны с очень платной водой. Однажды Любовь Семеновна захотела принять душ в полчетвертого ночи, видимо, живя по читинскому времени, что вылилось в скандал. Шум воды разбудил даму из соседней палаты, которая днем ходила по коридору, разговаривая сама с собой, а тут высказала Любови Семеновне все, что она думает про ночные купания. Прибежали и санитары, только я ничего не слышала – хорошее снотворное попалось.
За довольно короткое время я все узнала про семью Любови Семеновны, про депрессию мужа, жизнь детей и внуков, про ее электровелики с техническими подробностями, операцию на ноге в Германии и т. д. и т. п., а также новости из телика. Она бегала по коридору, перезнакомилась со всеми и даже ходила в гости к мальчикам в палату, что, вообще-то, возбраняется. Клянчила еду, молоко и чай (подобно многим бабулечкам в отделении), но щедро делилась тем, что приносили ей дети. Ее активность электровеника, видимо, вызывала беспокойство ее лечащего врача Владимира Иваныча, и Любовь Семеновна стала сонной, чувствовала себя несобой, а когда пожаловалась врачу, он сказал: «Это я так сделал» (уровень Бог).
Любовь Семеновна записалась на барокамеру, рассказывала, как учила испанский, помимо вечных новостей любила смотреть медицинские передачи по утрам и сериал про завоевание Кавказа по каналу «Культура». Она часто стирала белье и одежду и сушила постиранное, закутав в постель. Утешала еврейского мальчика Борю, который переживал за свою маму. Хохотала с наполовину якутом Васей и интересовалась перистальтикой Миши. Когда дети ее забрали домой, даже стало скучновато.
Меня переселили к другой соседке, Карине. Карина содержалась тут третий год, и история ее госпитализации была покрыта тайной и мраком. Вроде бы она поссорилась с шумными соседями, те вызвали скорую, которая забрала Карину сначала в общее психиатрическое отделение, где был адский ад, а потом ее перевели сюда. Карину навещала мама, с которой у нее были сложные отношения в анамнезе. Мама плакала, а Карина говорила, что врачи не хотят ее отпускать, потому что она нездорова. В моей картине мира это означало, что кого-то из соседей она все-таки придушила. Карина была немногословна, не задавала никаких вопросов, что меня вполне устраивало, каждый день смотрела ютьюб-каналы гамадрила Люськи и белого какаду Жорика, который от тоски выщипал себе летательные перья, пумы Месси из крымского зоопарка, глухого буля, бульдога, катающегося на скейте, и другие мимимишки про животных и фильмы. Врачи ее периодически просили составить им бест-список для просмотра. Карина родилась в Баку, армянка. Ее дядьев звали Альберт (ударение на а) и Роберт. Еще были Оскар и Жюльен. Оказалось, что в мирной жизни Карина работала дерматологом-венерологом («Венерология – это так интересно!» – тихо говорила она), могла правильно диагностировать любой вид сыпи (проверено на санитарках), работала косметологом, делала эпиляцию, и дома у нее был кабинет с креслом. Так как она успела полежать с разными обитательницами больнички, то с некоторыми из них отношения у нее были сложные. Случалось, что она не выходила на наш «пикадилли-променад» в коридоре, если там были некоторые персонажи.
Одна из них Света Пакурина.
Карина считала, что Пакурина похожа на лошадь, и часто рассказывала анекдот от Ксении Собчак: дети, мы сейчас будем рисовать лошадь, а ты, Ксюша, не вертись.
Сама Пакурина говорила, что ее рожали на лошади. Что это означает и как это происходило, оставалось только догадываться. Вероятно, ее мать была амазонкой.
Карина за глаза называла ее необлагороженной.
За три года у Карины были разные соседки. Одна разделяла стол на две равные части: любые посягательства рассматривались как вхождение вражеских войск на чужую территорию. Она заставляла Карину взбивать подушки и не лежать на кровати перед обходом врачей.
Кстати, о подушках. Они тут такие классные, что относись я к жизни проще – обязательно скоммуниздила бы парочку. Ибо они обладают потрясающим психотерапевтическим эффектом – лупить со всей дури их клеенчатые тушки можно до бесконечности.
Но вернемся к Карине. Другая соседка обвиняла ее в том, что Карина писает мимо унитаза, третья отбирала еду, постоянно клянчила, что бы поесть, и по ночам трогала Карину за щеки (может, считала ее бурундучком, который хранит там свои запасы?).
Была еще молоденькая девушка (анимешница, наверное), которая во время обострений жила в мультиках. Мультики, в общем-то, были безобидными для окружающих, их авторка, как принято, но запрещено теперь говорить, причиняла вред только себе: например, выкидывала в унитаз банковские карточки или рвала паспорт в клочья. Л – значит логика: и действительно, зачем в мультике все вышеперечисленное?!
Еще была одна с галлюцинациями. Она просила прогнать енота из-под стола.
Карина знала наизусть имена всех сиделок, медсестер и врачей и помнила все позиции нашего меню на каждый день, включая полдники.
Юля с Таней и Владимиром Иванычем собираются на концерт Ваенги в КДС. Они купили билеты, с Юлей поедет муж, а Таню будет сопровождать Владимир Иванович.
Юля в молодости была манекенщицей, у нее были красивые ноги, и она работала на Кузнецком мосту. Сейчас у нее болит колено, и она ждет волшебного укола гиалуронкой в сустав. Таня сиганула с двенадцатого этажа во время ссоры с мужем, но ей повезло: она упала на капот автомобиля. Травмы, конечно, были, она и сейчас ходит с палочкой на колесиках и лежит в больнице очень долго, но уже может ходить – приплатите-мне-все-равно-не-пойду – на концерт любимой певицы.
Еще у нас есть Модус: бабушка божий одуванчик, похожая на гномика или гриб из давно забытого мультика.
Вечером у нее начинается психчас, она идет на пост и компостирует мозги санитаркам, в сто первый раз рассказывая про своих внучек, квартиру в Москве, где идет ремонт и куда ее заберут, когда ремонт закончится. Но, судя по срокам, там выкладывают мелкую мозаику по всему периметру квартиры. То есть навряд ли.
Однажды Модус вышла в коридор в красно-клетчатой флисовой пижамке и воскликнула: «Господи, спасибо тебе! Сегодня священный день! Я молилась и мои молитвы дошли до тебя! Сегодня Херсонская область, ЛНР и ДНР вошли в состав России!» Кошмар, конечно, но Модус-то как раз находится в надлежащем месте, в отличие от многих других, сходных взглядов с ней, которым это тоже не помешало бы.
Мы с ней пересеклись на барокамере. Раз пять она рассказала, как болела ковидом и у нее было сорок процентов поражения легких. Ковидом она заразилась от мужа, который умер от сопутствующих заболеваний. Говорила она о нем мало и кратко, в стиле «хорошо или ничего».
По ее словам, в нашу больницу она, главный врач санатория в Сочи, невролог, доктор наук, легла исключительно потому, что здесь есть барокамера.
Она сделала десять сеансов, а потом еще семнадцать, и на двадцать седьмом сеансе, как космонавт, наблюдающий за членами своего экипажа в открытом космосе, она увидела главврача отделения ГБО, который, радостно улыбаясь, размахивал бумагами и показывал пальцами колечко.
Я спросила: «Что бы это значило?» Модус посмотрела на меня как на умалишенную и сказала: «Ну конечно 0 % повреждения легких».
Все отделение гипербарической оксигенации, или ГБО, порхало вокруг нее, как будто сама английская королева посетила их обитель. И тумбочку под ноги ставили, и шапочку повязывали, и курточку надевали, и в сто пятидесятый раз про строящуюся квартиру в Москве и милейших умненьких внучек выслушивали. Сначала мне казалось, что вечный монолог Модус направлен исключительно на нее саму и у других места вписаться в этот поток не предусмотрено, что делает удобным общение а-ля канон на два голоса: каждый исполняет исключительно свою партию. Но оказалось, ноу-хау есть.
Двадцать семь сеансов! Модус подняла очи к небу и с придыханием спросила меня:
– Знаешь, девочка, как важна барокамера?
– Да, знаю, но, вообще-то, я не девочка, меня зовут Катя, – ответила я, лучезарно улыбаясь и мрачно думая про себя: девочки ездят в метро.
Со следующего утра Модус стала называть меня коллегой, просить распутать запутавшиеся крестики (барокамера как оплот атеизма), стала вести диалог, прислушиваясь к моим репликам. Так, глядишь, через пару недель и в соавторы статьи о пользе ГБО позовет.
Одна пациентка имела неосторожность во время прошлой своей госпитализации зайти в палату к Модус, чтобы подарить ей шоколадку, а вышла через три часа, обладая практически полной и исчерпывающей инфой о внучках, строящемся доме, жизни в Сочи и т. п. В этот раз (дама вновь легла на госпитализацию) Модус даму игнорила по полной, так что та даже подумала, что забвение теперь ее удел. На самом деле, Модус все прекрасно помнила, просто делала вид.
Есть тут и таинственная обитательница – Эльвира Сергеевна. Она никогда не выходит из палаты на променад, но любит групповые занятия у психолога. Эльвира Сергеевна не отличается ухоженностью и аккуратностью: волосы у нее сальные, нет нижнего зуба, волоски на лице, и дезодорантом она, вероятно, не пользуется. (Впрочем, это довольно обычное состояние тех, кто в депрессии или с какими-либо другими диагнозами.) Эльвира Сергеевна весьма приветлива. Сказала мне без предисловий, что написала книжку стихов для детей. Так что из палаты не выходит: наверное, пишет вторую.
С писательско-поэтическим даром все сложно. Стоматолог Эля внезапно перестала спать и начала писать стихи философского типа, которые ей, как она считала, нашептывал сам Господь. Но господь Эли, видимо, никудышный поэт, стихи были плохие. Эля недоумевала, как с ней случилось такое. Конечно, как стоматолог она была не чужда творчеству: пломбу красивую поставить или виртуозно вырвать зуб, но чтобы стихи… Но если бы Эля писала талантливые стихи, то в психушке было бы ее место или в списке Нобелевских лауреатов? На этот вопрос я до сих пор не знаю ответа.
Наташа похожа на Мерилин Монро: светлые кудрявые волосы, пухлые губы. У Наташи – мани́и. Уж какие только лекарства она ни перепробовала, в каких больницах ни лежала. Ничего не помогает. В одну из известных больниц ее взяли с оплатой за полцены: ее лечащий врач (светило психиатрии) делал исследование по действию нового препарата, который он испытывал, в частности, на Наташе. У нее начались глюки. То она управляла звездолетом, сидя на кровати, то любовалась сверкающим кокошником на голове у соседки. Здесь у Наташи открылся «портал». Связь с высшими силами. Она решила, что беременна тройней: Владими́ра, Святослава и еще кто-то, имени не помню. Действительно, от таблеток и заедания невкусной больничной еды сладким многие прибавляют в весе, и Наташа, видимо, не была исключением. С помощью пульта от телевизора Наташа общалась с инопланетянами и несла что-то невразумительное. Но и это вылечили.
У Лены был психоз. Она заблокировала все свои банковские карточки и телевизор в игровой комнате на пятом этаже так, что даже вызывали мастера, но он не справился. Хотя образование у Лены гуманитарное.
Мария Викторовна решила отправить нас с Кариной на физиотерапию, чтобы мы были при деле. Сначала про нас забыли и никто никуда не звал, а мы и не отсвечивали, но Мария Викторовна спросила, как наша физиотерапия, и, получив невнятный ответ, назначила ее еще раз. Так мы пошли на консультацию к врачу-физиотерапевту. В кабинете сидели два врача: мужчина и женщина. Как сказала Карина, мужчина – завотделением. «Надо же, – говорит, – какой хороший человек. Не похоже, чтобы у него был роман со своей подчиненной». И дальше она рассказала, как ее домогались начальники на разных работах. Но эти истории мы опустим, а перейдем к физиотерапии. Доктор спросила у меня, на что я жалуюсь.
– Да, в общем, ни на что.
Она спросила, какие у меня есть заболевания, а потом предложила:
– Ну если у вас ничего не болит и вы не хотите, то можем ничего не назначать.
Ну как же, как комсомолка и отличница я не могла ослушаться рекомендаций моего лечащего врача. В общем, из назначений получился кентавр. Оказалось, что массаж шеи и плеч мне делать нельзя, потому что есть проблемы со щитовидкой. Массаж спины нельзя из-за кисты в груди, массаж ног – еще из-за чего-то, не помню уже. Остановились на массаже рук, магнитах и дорсенвале. На следующий день мы пошли на процедуры.
Аппарат с загадочным, предположительно французским, именем оказался металлической коробкой с ручкой и делениями а-ля семидесятые, напомнив мне достижения нашей космической отрасли в музее в Звездном городке. Нужно было расчесывать волосы пластиковой расческой с электроразрядами, пока сыплется песок в песочных часах. Дальше мой трип бэк ту зе ю эс эс ар продолжился в другом кабинете, где стояли кушетки с какими-то матрасами из пластин. «Снимите обувь и ложитесь», – сказала врач. Я легла. Врач заносила какие-то данные в компьютер, потом поговорила с сыном по телефону, потом сняла очки и просто сидела ко мне вполоборота. Я занервничала. Весь персонал больницы всегда был вежлив, а тут непонятно, что делать дальше. Покашлять? Сказать: алёгараж, когда начнется процедура? Но в таких учреждениях становишься очень вежливым, как одна моя подруга, однажды проснувшаяся в вытрезвителе с собственной фамилией, написанной маркером на груди. В общем, пока я продумывала, как обратиться, заиграла электронная музычка и врач сказала: «Все, процедура закончилась, можете вставать». Ну, думаю, ничего себе, вообще ничего не почувствовала. А тем не менее шея, которая иногда побаливала, прошла.
Как-то в один из понедельников мы пришли на физио, и там было много народу. Обе кушетки были заняты, и доктор, показав на аппарат, состоящий из двух колец, говорит: «Ложитесь сюда, у вас все равно только ноги. Я вам всегда нижний отсек включаю». Надо же, а у меня шея прошла. Кто бы мог подумать, какая связь.
Массаж рук проходит под интернет-версию радио «Орфей» – золотые хиты эстрады, льющиеся из телефона массажиста. Ощущение трипа на машине времени усиливается под пение Карела Готта и ансамбля «Самоцветы».
Однажды радио «Орфей» не работало, и массажист Дима включил радио «Джаз». Мы разговорились, Дима сетовал на то, что всегда передают одно и то же: если Бах, то «Аве, Мария», никакого ХТК не дождешься, если Вивальди, то «Времена года» или, в лучшем случае, Концерт для мандолины с оркестром. В общем, Дима оказался большим знатоком музыки, и мы с ним стали обсуждать Юджина Чичеро, Буэно Виста сошиал клаб, Эллу и Луи и других.
Сегодня у Димы опять играло радио «Орфей». Но выяснилось, что на самом деле он любит электронную музыку и отлично в ней разбирается.
Пытаюсь вспомнить известных мне музыкантов и завожу трек «Модерата» из фильма «И всё же Лоранс». В результате массаж правой руки проходит под Аль Бано и Ромину Пауэр, а левой – под Модерат. Интересно, будет ли отличаться эффект.
В день последнего массажа Дима подарил мне маленькую бумажку с фигурными краями, где он написал немного детским почерком имена своих любимых электронных музыкантов. Он трогательно краснел и извинялся за неразборчивый почерк. А я в знак благодарности рассказала ему про «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», про Рюити Сакамото и «Фордландию» Йохана Йохансона.
На приеме у стоматолога мне назначили рентген. На него меня повел санитар Костя. Несмотря на зиму, он был в форме с коротким рукавом. На мой вопрос, не холодно ли ему, Костя ответил: «Не-а, я толстокожий».
Рентген зубов я никогда в жизни не делала и думала, что придется раскрывать рот по максимуму и вгрызаться в кассету. Ан нет. От доктора вкусно пахло копченой колбасой. Видимо, обед только закончился. Она вставила в аппарат кассету «Кодак» и велела слегка приоткрыть рот и не глотать.
Охранница в рентгенологическом отделении говорила пациентке: «Женщина, вы на зубы? Надевайте бахилы. Зубная фея сейчас снимок проявляет».
Через несколько минут зубная фея вышла с моим проявленным снимком в руке и в полном восторге.
– Скажите, – спросила она, – как вам удалось сохранить все тридцать два зуба?
– Наверное, генетика, – ответила я.
– Но что вы едите?
– То же, что и все. Копченую колбасу, шоколад.
– Вот! – воскликнула рентгенолог. – А мне все говорят: не ешь копченую колбасу.
Моему выздоровлению помогли, как это ни удивительно, японские «пацанки» сукэбан. Подруга Юлька, которая работает в телике, всячески пыталась вернуть меня к жизни, в частности подсовывая мне работу с японским.
Так, она спросила меня, не знаю ли я про грозу японских якудза – девчонок сукэбан, которые держали в страхе Японию в 1970-е. Я про них ничего не знала и заинтересовалась. Стала читать и искать по Юлькиной просьбе видеоматериалы. Так был сделан один из первых шажочков к себе.
Раньше на нашем этаже было геронтологическое отделение. Лежали семьдесят человек. И у них была трудотерапия. Пациенты мыли полы, собирали листья и сгребали снег. И делали это с большим удовольствием. Сейчас трудотерапию отменили, и все маются от скуки. «Это все демократия», – говорит санитарка Оля по пути на ГБО. «При чем тут демократия, – бурчу я. – По-моему, это просто идиотизм, если называть вещи своими именами». – «Это точно», – соглашается санитарка.
Говорю своей подруге Оляше, что я хороший человек.
– С чего это ты взяла? – спрашивает Оляша.
– Ну ты же ходишь ко мне, значит, я хорошая.
– Это я хорошая, вот к тебе и прихожу, – отвечает Оляша.
Подруга Малкина спрашивает меня:
– Как дела?
– Отлично, – говорю, – как в раю.
– Я надеюсь, ты не с того света пишешь, – отвечает Малкина.
По дороге на ГБО около здания валяются ледяные глыбы. Говорю санитарке Маше:
– Да тут рай для суицидников. Ходи, как Пятачок с Винни-Пухом: «Винни, Винни, кажется дождь собирается», – и лови льдины себе на голову.
Подруга Нина спрашивает, как мои дела.
Говорю:
– Думаю, скоро выпишут. Как только наладится сон.
– Катя, если бы хороший сон был основанием для выписки, никого бы не выписывали никогда и все больницы были бы переполнены.
Санитар Саша выглядит как герой американских боевиков про русскую мафию. Он огромный, как глыба: плечи, руки, лицо. Саша добрый внутри и рассказал мне, как был дрыщом после армии. При росте метр 98 весил 86 кг, но двадцать лет качалки сделали свое дело, и теперь Голливуд ждет его. Но, кажется, Саша об этом даже и не подозревает. Ходит он медленно, несет себя, будто крейсер, который рассекает ледниковые воды. Мыть полы Саша не любит: не мужское это дело. Как и бабушек мыть. Поэтому, когда наступает его очередь, Саша глубоко картинно вздыхает.
Сидим у входа на ГБО с санитаркой Таней, ждем, когда закончится сеанс у еще одной пациентки. Вдруг заходит толпа бабушек с симпатичным бородатым экскурсоводом. Бабульки надевают бахилы и уходят на второй этаж на экскурсию в больничный музей. Спрашиваю Таню, много ли еще осталось ждать, а то я бы в конец очереди из бабулек пристроилась, послушала бы рассказ про историю больницы, благо экскурсовод симпатичный.
– О-о, – говорит Таня, – так бы сразу и сказала, что пошоркаться с ним хочешь, а то музе-ей, экскурсия…
– Как я при бабках-то пошоркаюсь? – спрашиваю я, обкатывая новое слово. – Я ему вопросы для начала задам, потом попрошу индивидуальную экскурсию, а вот та-а-ам…
– Вы и пошоркаетесь, – гогочет Таня.
Чем хорошо лежать в психиатрической больнице?! А тем, что с меня взятки гладки. Маммолога тут нет, поэтому напросилась на визит к гинекологу. Медсестра хотела взять мазок (кто бы мог подумать, какая связь), но я твердо отвергла ее притязания. Медсестра угоманиваться не хотела и спросила меня, почему я сразу про УЗИ груди не сказала, когда малого таза делали. И тут – парапампам! – моя гениальная отмазка: а я в невменозе была полном, не помню ничего, даже УЗИ малого таза в голове не отложилось. Вот где еще можно так гениально оправдаться?!
Модус держит в руке пластиковый стаканчик с кефиром: давайте чокнемся с вами!
Пухленькая санитарка Лиза:
– Мы и так тут все чокнутые.
Георгия к нам спустили с пятого этажа, где лежали более тяжелые пациенты. Видимо, у него варикоз или еще что-то с венами: он носит специальные чулки, которые ужасно трудно надеваются и не менее тяжело снимаются. Поэтому по утрам и вечерам Георгий занудно просит, чтобы санитарки ему помогли. Даже не знаю, можно ли его назвать занудой, он все время бормочет себе под нос все свои мысли, а иногда и довольно-таки громко и шумно. Мысли у Георгия идут непрекращающимся потоком и не подвластны цензуре, поэтому он часто матерится, чем приводит в бешенство некоторых особенно чувствительных санитарок. Мыться Георгий не любит, чулки носит одни и те же, не стирая, ходит небритый, а санитарка Лиза периодически предлагает помыть его, особенно его, как она выражается, бубенчики. Но Георгий категорически отказывается. У него есть дела поважнее. Он считает машины скорой помощи. Заходит в игровую комнату, смотрит в окно и говорит: вон еще психов привезли. Он умножает количество машин на предполагаемое количество психов в машине и выдает отчет к концу дня. Судя по подсчетам Георгия, психов к нам в корпус привозят много.
Из плюсов пребывания в больнице: я знаю на собственном опыте, а не понаслышке о многих симптомах и побочных эффектах, с которыми бы я вряд ли познакомилась, если бы осталась снаружи. Неусидчивость, когда ты не можешь усидеть на месте (есть еще ее разновидность неулежчивость): и сидеть не могу, и стоять не могу, и ходить, и лежать.
Липкое чувство тревоги. Тебя вдруг бросает в жар, начинают потеть руки-ноги, испарина, пот течет градом и, опять же, появляется неусидчивость.
Ощущение будто тебя пыльным мешком притрёхнули, когда тебя решили загасить уколами, капельницами или таблетками. Галочкой (галоперидолом), анечкой (аминазином) или релашечкой (реланиумом). Бродишь еле-еле, как сомнамбула, ничего толком вспомнить не можешь. Зрачки как пара крошечных точек. Жопа от укола болит.
У меня отобрали телефон на ночь. Чувствую себя престарелым Вовочкой.
– Вовочка, отдай фонарик и не читай ночью под одеялом.
– Вовочка, открой рот, покажи, как ты проглотил таблетки.
– Вовочка, карликов, гномов и енотов тут нет.
Приходит нелюбимая медсестра моя, приносит таблетки.
– Ну что, вы сегодня едете красоту наводить? Красивой станете – как мы вас узнаем?
– По паспорту, – говорю. – Ой, а паспорт-то у вас. Тогда никак.
– Придется по походке. Я милую… – знаете? – спрашивает медсестра.
Хочу сказать, что про милую я еще одно знаю (как свою я милую из могилы вырою), но вовремя осекаюсь. А то салона мне не видать, как пермяку свои соленые уши.
Подслушала на территории. Девушка в бордовой форме (значит, медсестра: медсестры бордовые, санитары серые, врачи темно-синие) говорит кому-то по телефону:
– Время проходит. Ты залежишься. Я те говорю: ты – залёженная.
Ухожу на выходные в лечебный отпуск. Уже стою в дверях. Вдруг медсестра Ира кричит мне:
– Катя, возвраща-а-а-айтесь!
– Конечно, я верну-у-у-усь, – кричу я в ответ.
– Нет, возвращайтесь сейчас, – говорит Ира.
Оказывается, я забыла подписать какую-то бумажку.
Прохожие на территории:
– О, здесь психиатрическая, оказывается, – говорит молодой человек девушке. – Сейчас я тебя тут и оставлю.
В кабинете физиотерапии:
– Антон Борисович, вы работаете?
– Да, – отвечает флегматичный толстяк, похожий на актера, получившего «Оскар» за фильм «Кит».
– Сильно работаете?
– Татьяна Алексеевна, вы меня пугаете своими вопросами.
– А я такая. Хитрая… забавная.
Мужик стоит около схемы расположения корпусов на территории больницы.
– Скажите, а где корпус двадцать один?
Я подхожу к схеме, ищу 21-е отделение, затем показываю его мужику.
– Нет, – говорит он с ужасом, – я тут не лежу, мне архив нужен.
Объясняю, как пройти к архиву, мужик слушает вполуха. И через паузу спрашивает:
– А где Высоцкий-то тут лежал?
– В клинике неврозов, – бросаю я, удаляясь.
Сходила в парикмахерскую. Подстриглась покороче.
Соседка Карина на обходе врачей (а меня не было) говорит:
– У Кати теперь такая хорошенькая головка, что хочется ее отрезать, поставить и любоваться.
Заведующая крякнула, а Мария Викторовна отвернулась, давясь от смеха, и сделала вид, что не слышит.
Наступила осень, похолодало, а больницу отапливают по японским стандартам энергосбережения, которые как раз я когда-то помогала внедрять. В палате жуткий дубак, мы замерзаем даже в одежде. Предлагаю Карине закрыться сверху покрывалом гобеленового типа, которым застилают кровати. Карина говорит: «О нет! Их же не стирают так часто, как постельное белье. И на них лежат мужики. Фу!» Убедив Карину, что от покрывала не забеременеть, я погружаюсь в свои осенние сны.
Медсестра пытает Карину, куда я ушла. Карина не знает. В конце концов, устав от расспросов, Карина говорит: «Да съела я ее». Учитывая Каринин аппетит, становится страшновато…
На улице осень. Гуляем с Кариной по территории. Все перекопано. Зачем – не очень понятно. В одной из ям устанавливают что-то квадратное небольшого размера, похожее на бункер. Шутим с Кариной, что это бункер на случай ядерной войны для директора больницы и его заместителей. «Хоть бы застрелились они там, как Гитлер», – с чувством говорит Карина.
Рентгенолог Сережа ничего не помнит. Он забывает, в какой палате лежит, и каждый день спрашивает, где его вещи. Сереже кажется, что он на Марсе, а мы все марсиане. Даже не знаю, что может ему помочь.
У Рэя синие волосы. Он называет себя так от стинг-рея, что означает «скат». Но на ската Рэй не похож, он похож на девочку. Особенно когда накрасится. Обычно глаза он красит красным. Рэй любит рисовать и взял сюда с собой набор фломастеров и карандашей, а еще сделал коллаж из букв в стиле унабомбера, только в его коллаже не угрозы, а стихи о любви. Рэй обижается, когда санитарки называют его «она», и часто ходит на пятый этаж играть с мальчиками и смотреть «Полет над гнездом кукушки». Сначала он не знал, как общаться, а теперь подружился с молодыми пациентами, которых я называю детьми. Вчера он даже пел в коридоре песни Манескина и «Группу крови на рукаве». А я думаю о том, какая у нас в отделении толерантность. Мальчик так мальчик. Рэй так Рэй. Ну синие волосы. Ну подумаешь, макияж – накрасился с утра. Наверное, это связано с тем, что тут никого ничем не удивишь.
Сижу жду консультации у Марии Викторовны. Рядом тетка, тоже ждет.
– Судя по вашему виду, у вас здесь лежит или кто-то очень молодой, или очень пожилой, – говорит она, явно приглашая к беседе.
– Вы не угадали. Ни тот и ни другой. Это я.
На стене отделения физиотерапии вместо значка выхода «Exit» красуется трогательная надпись «Домой» со стрелочкой. Наконец я ухожу по адресу. Вещи собраны, ремень и зубная щетка получены, выписка готова. Здесь было плохо и невыносимо, скучно и тоскливо, весело и мегабодро. Я ухожу, с любовью ко всем, кто встретился на моем пути, ухожу, чтобы постараться не вернуться.
Три госпитализации, пребывание в больнице в общей сложности около года, дни, полные отчаяния и мрачной тоски, сменились на дни возвращения к себе, понимания ценности и важности себя и любви к себе и миру, особенно благодаря моему лечащему врачу Марине Юрьевне Кожевниковой, психологу Виктории Азатовне Ионовой, всем моим дорогим и верным друзьям (Оляше, Пирожку и Мишиной, Илюхе и Жа, Гармашам и Гармашатам, коллеге Ибрахим, Ирме, Асе, Гесс, Ирке и Ольге, Митьке, Тане, Маку и Олюшке, Ире и Наде, Степуре, Игореше, Ане), которые не теряли надежды даже в самые сложные моменты, а также всему коллективу неравнодушных врачей, среднему медперсоналу и санитар/кам. С благодарностью, радостью и пожеланием всем, кто страдает сейчас, не терять надежды я заканчиваю свои заметки.
Заметки япониста
Интро
За свою довольно-таки долгую карьеру переводчика я успела поработать со всеми видами японского театра: кабуки, но, дзёрури (бунраку), арт-кабуки, кёгэн, с оркестром придворной японской музыки гагаку, музыкантами: классическими, фолк и рок, с хором и оркестрами, с несколькими группами японских барабанщиков, участвовала в съемках сериала нетленки японского Пикуля Сибы Рётаро «Тучи над холмом», переводила японских конных лучников ябусамэ и на всяческих спортивных мероприятиях: Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, международные соревнования по каратэ, на экономических форумах и международных конференциях, на фабриках и заводах, в полях и офисах. Историй накопилось великое множество, и, видимо, настало время ими поделиться.
Культурные различия
Однажды в Японии ехали мы с подругой-японкой в метро. И одна девушка случайно рассыпала какие-то мелкие предметы. Они разлетелись в разные стороны, девушка ползала по полу, пытаясь их собрать. Весь вагон сидел с каменными лицами, как будто ничего не происходит. Какие черствые японцы, подумала я и сказала подруге:
– Почему все сидят как истуканы? Давай поможем девушке.
– Ни в коем случае, – ответила подруга. – Девушка и так растеряна: она рассыпала свои вещи, тем самым причинив неудобство другим пассажирам, а если ей еще начнут помогать, то она совсем потеряет лицо.
別腹
Сижу сейчас в «Хлебе насущном» и думаю о прекрасном японском слове бэцубара, что в буквальном переводе – «другой живот». Так говорят, когда после сытного обеда вы еще заказываете пирожное, которое как раз и отправится в ваш «другой» живот. Вот было бы здорово, если бы у человека реально было два желудка: один поменьше – для еды, другой побольше – для десертов…
Красноярск
Госпоже С. очень не хотелось лететь в Красноярск. Настолько, что она даже забыла заказать такси в аэропорт и не взяла с собой визитки, хотя и собиралась в командировку. В Красноярск она отправлялась не впервые, девятнадцать лет назад она провела там полтора месяца, и видимо поэтому ее подсознание изо всех сил пыталось вытеснить все, что было связано с этим городом. Девятнадцать лет назад она работала в японском банке, офис которого находился на Сахалине. Чем она только ни занималась: устраивала салюты в Южно-Сахалинске и Хабаровске, предварительно получая разрешение на провоз пороха в Москве, организовывала концерты и еще всякую ерунду, которая никак не входила в обязанности строгого банковского служащего. Директор банка очень любил Россию и даже придумал прямой авиарейс, связывавший префектуру Аомори и Хабаровск. Но если есть рейс, то должен же кто-то на нем летать. И тогда директор стал набирать туристические группы в Россию.
Дедушка летел рейсом «Москва – Хабаровск», и у него случился удар. Обычно с дедушками такое случается в самолете во сне, но этому повезло он встал в туалет, и тут его разбил паралич. Дедушка упал на глазах у всех пассажиров, и в самолете, на его счастье, оказалось даже два врача: русский и японец, которые хором затвердили, что, если самолет не совершит экстренную посадку, в Хабаровск прилетит труп дедушки. Так самолет сел в Красноярске, и дедушку отправили в больницу. Он был клиентом банка, где работала госпожа С., не слишком богатым, обычным клиентом, который отправился в тур, организованный директором банка. Тот чувствовал свою ответственность и отправил госпожу С. в Красноярск ухаживать за дедушкой. Ухаживала, конечно, медсестра, нанятая по страховке, а госпожа С. улаживала все технические формальности и каждый день навещала дедушку в больнице. В больнице не было лекарств, их для дедушки покупала госпожа С., еще она купила десять градусников, так как на сорок человек был только один. У дедушки был отменный аппетит, он быстро шел на поправку, госпожа С. таскала ему продукты. А по вечерам возвращалась в гостиницу «Октябрьская», под окнами которой с семи до одиннадцати вечера была дискотека. В августе пошел снег. Госпожа С. погрузилась в депрессию. Но дедушка поправился. И потом еще лет пятнадцать, а то и больше поздравлял госпожу С. с Новым годом. Вроде бы, история с хеппи-эндом, а в Красноярск госпоже С. больше не хочется.
Бунраку
Гастроли кукольного театра бунраку подходили к концу. Показывали пьесу известного японского драматурга Тикамацу Мондзаэмона «Сонэдзаки синдзю», то есть «Самоубийство двух влюбленных в Сонэдзаки». Я заведовала титрами. Сначала сделала перевод, а во время спектаклей сидела в боковой ложе и нажимала на кнопочку. В остальное время переводила устно: интервью, пресс-конференции, организация сцены и проч. Очень напряженный график. В самом конце пьесы между титрами была большая пауза, и я уснула. Открыла глаза в ужасе и поспешно нажала на кнопку. Финал, аплодисменты, спектакль окончился, а дальше был прием, устроенный в честь артистов в японском посольстве. Все говорили благодарственные речи, и тут выступила продюсер театра. Она сказала: отдельно я хотела бы отметить работу переводчика титров. Сегодня тайминг финальных титров был потрясающим, – и дальше что-то про вабисаби и югэн.
Все-таки хороший сон всегда – залог успеха.
О карме
На заседание круглого стола по отходам, который проводили в Улан-Удэ, неожиданно зашел какой-то буддистский монах, в бордовых одеждах, тапках и с тряпичной сумкой. И говорит: «Не знаю, нужен ли Иркутску или Улан-Батору мусоросжигательный завод, но нам в Улан-Удэ очень как нужен». И дальше про дракона стал рассказывать, который в Байкале живет. А потом говорит: «Построите нам мусоросжигательный завод – двести лет в раю будете наслаждаться, а не построите – будете двести лет в аду мучиться».
Оказалось, монах не простой, а Пандидо хамдо лама – лидер всех буддистов России.
Министр природы Бурятии покраснел и говорит: «Вы это не переводите. Или только про рай переведите, а про ад не стоит.
Я говорю: «Я не могу святое слово искажать и в аду потом двести лет мучиться», – и все перевела. С удовольствием.
Вдогонку к предыдущему
Мусорные заводы в Японии – это совсем не то, что мы обычно себе представляем.
Однажды группу русских стажеров в Японии повезли смотреть мусоросжигательный японский завод. Многие были недовольны: ну вот, нюхать эту вонь, бродить в грязи… Но оказалось, что завод стоит посреди жилых городских кварталов, никакой вони нет, все сотрудники ходят в белоснежной форме, на крыше завода посажен сад, растут деревья и цветы.
Так хочется хотя бы двести лет побыть в раю…
В сауне
Переводчик с японской стороны Елизавета была девушка ответственная, в очках, твидовом брючном костюме. Периодически преданно носила портфель за боссом.
Российской стороне требовалось наладить неформально дружеские отношения с японцами, и они пригласили их в сауну на Байкале.
Но формальные/неформальные, а переводить кому-то надо. А кроме Елизаветы никого не было. Так она и сидела, роняя капли пота, в белом махровом халате, надетом на твидовый костюм, смотря прямо перед собой (шаг вправо, шаг влево – расстрел).
Подарки
Дедушка привез Марине Петровне подарок из Японии. Красиво упакованный, в коробке.
Марина Петровна звонит мне и спрашивает: «Катя, ты не знаешь, что мне Кобаяси подарил? Упаковано так красиво – передарить хочу. Спросят, что там – а я не знаю».
Ну, думаю, надо как-то деликатно спросить, чтобы не обиделся.
Спросила. А дедушка говорит: «Я и не знаю, что там. Его секретарша покупала».
Марина Петровна прислала японцам открытку со свечой и надписью: «Скорбим». Японцы перепугались, спрашивают: что случилось, кто-то умер?
А это она выразила соболезнования по поводу девятилетия катастрофы на ядерной электростанции в Фукусиме.
Энергоаудит
Российская сторона написала японцам программу энергоаудита.
Проводить его будем в school & garden. Долго гадали, что отапливают в саду. Цветы? Деревья? Оказалось, детей в детском садике.
В этом «саду» мы провели довольно много времени, облазив с «энергетическими» дедушками все подвалы с трубами и отважно покрутив какие-то важные колесики, от которых зависела подача тепла. В конце энергоаудита дедушки дали указание, как энергоэкономно, то есть сберегающе, регулировать отопление. И, видимо, их рекомендации были приняты. Но, как всегда, а-ля рюс. В больнице, где мне выдалось полежать, действительно регулировали подачу тепла: в зимние месяцы – больше в морозы, меньше в более теплое время, но. В апрельские морозы батареи были выключены, но зато, когда началась весенняя жара, они стали шпарить, как не в себя.
Еще i need something to confess[3]. Когда мы ходили по покинутому, как будто в тихий час, садику – ему предстоял ремонт, – я подумала: двойка по физике (предмет гордости золотой медалистки, комсомолки, отличницы) у меня есть, а вот воровать мне никогда не доводилось, кроме белого налива в дачном тарусском детстве. Поэтому (о боги!) я сперла из садика крошечного пластикового ослика, который долго путешествовал в моем кармане, а теперь с легким немым укором стоит у меня на письменном столе. И на Луне бывают пятна.
Совещание в ЦОДД
Для установки японского оборудования нужно разрешение сторонней организации.
Видимо, чтобы стало понятнее, зачем оно нужно, дядька с лицом гаишника говорит мне: «Ну вот представьте, Екатерина, я приду к вам домой без разрешения и надену ваше платье…»
Японцы окаменели, а меня с моей богатой фантазией вырубило минуты на три. Так и сидела, думая: красное ему бы пошло.
А я все летала…
Почему-то всякий раз, когда приходит время улетать из Японии в Москву, со мной что-то приключается. То надвигается ужасный тайфун, разверзаются хляби небесные, зонтики летают в воздухе, как пики самураев (а были ли у самураев пики? ну да ладно), потоки воды смывают Японию, и, разумеется, не летают самолеты и не ходят поезда. Фокус с тайфунами повторялся неоднократно, так что один мой знакомый японец стал даже называть меня «тайфууонна», то есть женщина-тайфун.
В этот раз погода была хорошая и ничто не предвещало беды. Надо сказать, я всегда сажусь с той стороны самолета, откуда видны сотрудники аэропорта, потому что, когда самолет начинает движение, они вежливо кланяются и машут рукой на прощание. Очень трогательно.
А тут смотрю я в иллюминатор, но никто не кланяется. Вот, думаю, до чего докатилась страна Япония: уже и в аэропорту перестали кланяться. И тут объявляют, что самолет вынужден остановить подготовку к взлету, так как на борту есть заболевший пассажир (к счастью, это было еще до короны). Все начинают переглядываться: по проходу идет совершенно нормальный с виду японец, совсем не больной. Дальше начинают искать его багаж для выгрузки. Ждем. Наконец самолет снова начинает движение, но нам снова никто не кланяется и рукой не машет на прощанье. Вот, думаю, докатилась Япония. Но взлететь у нас почему-то не получается. А надо сказать, самолет почти полностью заполнен японцами, русскоязычных мало. И тут командир корабля на своем русском языке говорит: «У нас обнаружены неполадки, но мы попробуем взлететь». На японский никто эту фразу не переводит. Все русские зеленеют. К счастью, взлететь не удалось. Нас высадили, дали купоны на еду, сотрудник «Аэрофлота» сказал, что в каком-то отсеке двигателя что-то сломалось, завтра привезут нужные детали и всё починят. Я с радостью пошла есть любимые суси и полировать их холодным саке, а потом отправилась в любезно предложенную гостиницу. Гостиница была аккуратная и чистенькая, но почему-то во многих номерах двери были открыты. Оказалось, номера такие малипусечные, что чемодан в них открыть невозможно. За столом можно было сидеть на кровати, а чтобы достать вещи из чемодана, приходилось открывать дверь. На столе в номере лежала книга – не Библия и не изречения Будды, а очерки о владельце гостиницы с фотографиями: то он с Муаммаром Каддафи, то с плакатом «Верните северные территории!».
В гостинице был отличный ресторан, все из тофу, который я очень люблю.
На следующее утро я снова была в аэропорту, где мне любезно предложили полететь вторым рейсом, который отправится попозже, но не будет столь плотно забит пассажирами, как этот. Самолеты в Японию летают каждый день, так что несложно было догадаться, что за самолет мне предлагали. Я стояла на своем: хочу улететь сейчас, у меня срочная работа от МИДа Японии, и меня посадили на рейс. А сэнсэй, которого я должна была переводить на следующий день, летел со мной в один день. «Представляешь, – говорил он потом, – я летел с таким комфортом, мне предложили, как почетному пассажиру „Аэрофлота“, самолет, который вылетал попозже, но народу практически никого, я там был как король и выспался хорошо на четырех сиденьях». Я не стала его расстраивать историей про сломанный двигатель.
Улан-Удэ
Однажды летели мы с группой японских исследователей из Красноярска в Иркутск. План был такой: в Иркутске сесть на поезд и доехать на нем до Улан-Удэ, попивая пиво и любуясь видами Байкала. Но судьба распорядилась иначе. Аэропорт Иркутска не принимал из-за погодных условий, и мы сели в Улан-Удэ. Пассажирам предлагалось или выйти в Улан-Удэ или вернуться в Красноярск. Я говорю: «Мы прилетели в Улан-Удэ». Ноль реакции. А надо сказать, некоторые из сэнсэев знали русский язык в той или иной степени. Ну, думаю, надо объяснить. Говорю: «Мы уже прилетели в Улан-Удэ, можем забрать свой багаж и выйти в город». Недоумение на лицах. Уже и не знаю, как объяснить. Наконец, один из бойких сэнсэев говорит: «А зачем нам тут выходить? Мы же в Улан-Удэ летим, а это Улан-Удэ». С трудом, но мне все-таки удалось всех уговорить, что Улан-Удэ и Улан-Удэ – это не два разных города, а один и тот же. Мы забрали багаж и вышли. Дальше нас ожидал квест: поселись в гостиницу. Был выходной, день города. Я, сохраняя спокойствие на лице, звонила девушке из туристического агентства, которая занималась нашим размещением в Улан-Удэ. Номер телефона был неправильный. Сохраняя радостную улыбку на лице (мои подопечные и так пребывали в стрессе от смены маршрута), я лихорадочно соображала. Путем сложных дедуктивных размышлений мне таки удалось угадать номер турагента. Гостиница для нас нашлась. Мы купили пива «Балтика» и поехали любоваться Байкалом.
И снова о Красноярске
Ох уж этот Красноярск. Не обойтись без приключений.
Однажды я возвращалась из Красноярска в Москву. Фамилия у меня очень распространенная, до такой степени, что в титрах фильмов обязательно хоть раз да встретишь. Прямо как японская Ямамото.
Я зарегистрировалась на рейс, сдала багаж, получила посадочный и ждала объявления посадки. Вдруг слышу свою фамилию. Вот, думаю и тут однофамильцы. Какого-то Тарасова просят пройти к стойке регистрации. Вскоре объявили посадку, самолет забит битком. И на моем месте сидит женщина с детьми. Зову стюардессу, показываю ей свой посадочный, а там – па-ба-а-ам! – Михаил Тарасов написано. Чудны дела твои, господи, думаю. Стюардесса говорит, а мы вас по громкой связи вызывали, чтобы место поменять, а то тут женщина с детьми весь ряд просила, мы не могли ей отказать. Я говорю: тогда найдите мне место свободное. А их нет. Стюардесса суетиться начала, звонит куда-то. Ну как же, у них девица какая-то неучтенная с посадочным Михаила Тарасова права качает. Пришел какой-то дядька, который зачем-то отобрал мой посадочный и порвал его. А у меня к нему багажная квитанция приклеена. Начали скандалить. А Михаил Тарасов, тот, настоящий, сидит себе в бизнес-классе и в ус не дует. Я говорю: посадите меня в бизнес-класс, если в экономе мест нет. Уперлась рогом и самолет покидать не хочу: имею законное право. Наконец мои вопли возымели действие, и меня таки посадили в бизнес-класс, но не рядом с моим однофамильцем, а с какой-то девушкой. В общем, голливудской истории не получилось, опять фарс какой-то.
Оперная дива
Однажды мы ездили с концертами по западу Японии. Гастрольный тур русских пианиста и скрипачки. Как водится, после концерта в гримерку приходили восторженные зрители засвидетельствовать свое почтение музыкантам. Пришла и одна японская оперная дива. Она училась в Германии и неплохо знала немецкий. Она что-то говорила на нем пианисту, а он с улыбкой кивал. Когда она ушла, я спросила его, о чем они говорили. «Понятия не имею, я немецкого не знаю», – ответил пианист. А оперная дива ушла очень довольная: она поговорила с иностранцем на его иностранном языке. Ох, уж это островное японское самосознание!
Гурумэ ты моя, гурумэ
Музыканты – оригинальные люди. Когда мы ездили с гастролями, то вызывали недоумение в каждом ресторане. Скрипачка восполняла недостаток витамина С свежевыжатым лимонным соком. Обязанности были распределены: я заказывала лимон, а пианист своими сильными пальцами выжимал его в стакан. С заказом лимона почти всегда возникали сложности. Японцы привыкли подавать лимоны нарезанными дольками, мы же просили целый лимон, разрезанный пополам, что вгоняло бедных официантов в ступор. Зачем этим странным гайдзинам (сиречь иностранцам) две половинки лимона? – недоумевали они, но лимон все-таки приносили. Недостаток витамина С восполнялся.
Однажды мы ужинали в японской идзакая (заведении, где охотно подают спиртное и разнообразные закуски к нему, но не заботятся о меню десертов). Скрипачка (двадцать девять лет, вторая премия на конкурсе Чайковского, когда никому не присудили первую, скрипка Страдивари, характер капризный) сказала, что хочет чего-нибудь вкусненького на десерт. Мы с официантом застыли: он в недоумении, я в страхе, что у дивы сейчас испортится настроение, и все, пиши пропало. Вдруг она увидела икру морского ежа: мягкую субстанцию цвета детской неожиданности со специфическим запахом. Не всякий японец ее любит, а уж иностранцы-то и подавно. Но скрипачке морской еж пришелся по вкусу, и мы стали заказывать его везде, где только ни были. Хорошее настроение и успех гастролей были обеспечены.
Перед ответственным концертом в Токио скрипачка заболела. Насморк, кашель, в горле першит. Мы поехали в больницу Сэйрока, что в переводе означает святого Луки. Скрипачка изложила свои жалобы, а потом добавила: «Доктор, дайте мне что-нибудь такое, чтобы я стала энергичная, бодрая и здоровая на время концерта, а потом уже неважно». – «Такие препараты я вам выписать не могу», – грустно ответил доктор. В результате лечили ее настойкой под названием «Тафмэн» (букв. крутой чувак) с картинкой корня чего-то там, весьма смахивающего на член, на бутылочке.
Многие годы спустя скрипачка зачем-то увлеклась каким-то дико странным культом некого Кузи. Стала его адепткой и главной властной женой. Била нерадивых прихожанок. Она, капризная красотка, русская Анна Софи Муттер, которая когда-то просила снимать только ее левый профиль, стала ходить в трениках и не следила за своим внешним видом, а потом и вовсе попала в тюрьму.
Вспоминаю, что в ее детстве мама и папа переехали в Подмосковье из Одессы, чтобы дочь могла учиться в ЦМШ. Ее мама мыла полы, а она ездила каждый день на электричке и в памяти прокручивала заданные произведения. Пути Господни неисповедимы. История получилась грустной.
Едят ли ханты манты
В Ханты-Мансийске я была два раза. Первый с японскими учеными, у которых было даже свое научное общество, занимавшееся изучением советской и российской педагогики. Один из сэнсэев специализировался на Макаренко. Другой – на Выготском. По вечерам, после основной работы, в ресторане разворачивались «симпозиумы» в прямом смысле этого слова. Сэнсэи вели жаркие споры, градус которых зашкаливал настолько, что все боялись: еще немного, и почтенные профессора начнут отвешивать друг другу тумаки.
Сам город мне понравился. Построен он был политзаключенными, ссыльными, которых выкинули в чистое поле, прямо как в книге про Зулейху. Поэтому люди здесь душевные, отзывчивые, всегда давали нам пирожки с брусникой на дорожку, были приветливы и открыты.
В городе есть шикарный шахматный клуб, крутецкая лыжная трасса, курган с фигурами медведей и прочей ХМ-фауны.
Коренные народы Югры (так называют этот регион) – это ханты и манси. Если кто забыл, то языки их угро-финские, наиболее близки венгерскому. С лица они азиаты, но волосы часто светлые и глаза голубые. Говорят, у манси блондинов больше. Живут они в чумах на стойбищах. Занимаются оленеводством. Зимой носят всё из оленьего меха. Летом одежды яркие – красные, розовые, с узорами. Женщины прячут лицо, носят платки типа павловопосадских. Детям хантов и манси построили супершколу-интернат, а они растерялись: не умеют сидеть на диванах и стульях и по полочкам вещи раскладывать. На полу оно же удобнее.
Едят они в основном рыбу: муксуна, нельму. Говорят, в школах-интернатах по СанПиНу сушеная рыба детям не положена, а без рыбы дети ханты и манси болеют своими неизвестными болезнями.
Как мы поссорились с шаманом
Второй раз мы приехали сеять доброе-вечное на мансийской земле, рассказывая про возрождение «Ниссана». Дедушки-лекторы – бывшие сотрудники «Ниссана», ныне на пенсии, то есть, как их называют, «оу би», или «олд бои» = «старые мальчики», – почти в каждом слайде презентаций славили Карлоса Гона, рассказывая, что сделал и что не сделал Карлос Гон, и разыгрывали сценки «Карлос Гон в цеху» (почти как Ленин в Разливе). Даже не знаю, что они рассказывают теперь.
Один из лекторов очень хотел увидеть настоящего шамана. После лекций была запланирована баня, туда нам его и подогнали. Мы сидели в зале, пили пиво с сушеной рыбой (слава богу, сцены «Переводчица в халате поверх офисной одежды, смотрящая прямо перед собой» удалось избежать). Похожий на индейца шаман – кажется, он был манси – изрядно поднабрался и рассказывал, как в советское время у них проходили партсобрания. Шаманизм советская власть, разумеется, не приветствовала, считая его вредным для сознания строителей коммунизма. Поэтому сначала проводили реальное собрание, а после него начинали камлать. В этих краях популярен культ медведицы, вот они что-то на эту тему и разыгрывали. Потом шаман выпил еще, стал ругать православие, чем задел мои православные корни (мой прадед был священником в Сибири), посмотрел на меня мутным глазом и заявил: «А ты-то ничего, только не все переводишь». Во мне проснулся ледяной берсерк, и я, осмелев, железным голосом сказала, что он даже не представляет себе, насколько я все перевожу. Но тут японцы захотели-таки залезть в сам банный зал и оттуда прыгнуть в ледяную воду. А шаман, к моему счастью, уснул.
Гастроли театра кабуки
Однажды мы с моим любимым продюсером Исикавой, с которым потом судьба, увы, развела нас, летели в самолете в Питер. За плечами успешные гастроли театра кабуки в Москве, аншлаги, пресса, небывалый успех. Вдруг Исикава говорит: «Что-то у нас так все гладко идет, что даже скучновато. Никакого драйва и адреналина». Мы прилетаем в аэропорт Плюково. Выясняется, что багаж всех артистов вскрыт. И пропали ноутбуки, пачки наличных иен и прочее, то есть то, что они, люди искусства, положили в багаж. Обчистили всех, кроме главы труппы Накамуры Гандзиро Третьего, впоследствии Сакаты Тодзюро Четвертого (имена актеров кабуки могут меняться на протяжении актерской карьеры в зависимости от выслуги лет и творческих достижений, каждое новое имя круче, чем предыдущее). У Гандзиро – без сомнения, самого богатого человека в труппе – на чемодане не было коричнево-зелено-черной наклейки в цвет занавеса кабуки, и читавшие восторженную прессу просвещенные питерские грузчики на его чемодан внимания не обратили. Ну хорошо, мы взбодрились, оставили русского директора решать вопросы с багажом, а сами поехали размещаться в гостиницы. Выяснилось, что российская принимающая сторона что-то перепутала и номеров меньше, чем нужно, а в Питере 300-летие. Искали и размещали везде, узнав много новых локаций. Мы с Исикавой в результате оказались в маленьком отеле на Английской набережной с гигантскими номерами, где дитя японских гор и рисовых полей терялся в просторах номера и чувствовал себя неуютно, а я ставила будильник на час раньше, включала оранжевую воду питерских труб, засыпала и вставала к тому моменту, когда она приобретала более-менее нормальный оттенок.
Часть японцев разместили в гостинице, если не ошибаюсь, «Советская». Один из музыкантов пошел принимать душ, оставив кошелек с деньгами на кровати. Пока он мылся, кто-то зашел в номер, дальше понятно… Другие музыканты покатались в метро, где их тоже так ловко лишили наличности, что они даже этого не заметили. Рабочие сцены пошли гулять по Садовой, где стали участниками прекрасного флешмоба «Угадай, в каком стаканчике шарик»… После этих приключений посольство Японии издало брошюру «Как приехать в Россию и не остаться без денег».
А мы поехали в театр, где должны были состояться спектакли. Это был зал питерской консерватории с оркестровой ямой, которую – ну надо же! – никто не закрыл. Поэтому всю ночь мы ругались с оргами и монтировали дорогу цветов, которая у японцев была вымерена до последнего сяку.
Короче, взбодрились по полной программе.
И еще о мире кабуки
Глава труппы Тикамацу-дза Накамура Гандзиро Третий прилетел в Москву для переговоров о предстоящих гастролях вместе со своими продюсерами и лучшим учеником. В перерыве между переговорами мы пошли пообедать. Накамура Гандзиро Третий заказал себе спагетти и мороженое на десерт. Порция спагетти была большая. Гандзиро не доел их и отдал ученику, который, трепеща от оказанной ему чести, радостно съел их. Мороженое уготовано было доедать мне. Ох, эти ужасные различия культур. Чтобы не обидеть звезду кабуки, мне пришлось поесть мороженого. При этом я, разумеется, старалась не думать о скандалах в желтой прессе, которая мусолила, по каким гейшам тот ходил и сколько их у него было.
Якутия
Пару раз нас с сэнсэями занесло в Якутию. Сэнсэи изучали проблемы образования у коренных малых народов Севера, и Якутия отлично им подходила.
Как несложно догадаться, титульная нация республики Саха-Якутия – якуты, которые называют себя с ударением на ы. Помимо якутов там проживают эвены, эвенки, юкагиры, долгане и чукчи. Их языки являются официальными языками Якутии, помимо якутского и русского. Якутский – тюркский язык, когда-то якуты пришли на эту землю и завоевали ее. Русские в Якутии часто работают на тех видах работ, на которых в России можно увидеть выходцев из Средней Азии: гардеробщицы, уборщицы и т. д. Якуты же занимают руководящие должности.











