Читать онлайн Древние тайны Русского Севера
- Автор: Светлана Жарникова
- Жанр: Мифы, Легенды, Эпос
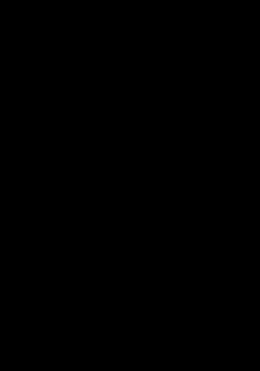
О Светлане Васильевне Жарниковой
В четверг двадцать шестого ноября две тысячи пятнадцатого года в кардиологическом центре имени Аламазова в Санкт-Петербурге, ушла из жизни Светлана Васильевна Жарникова, выдающийся русский этнолог и искусствовед.
Светлана Васильевна была замечательным учёным-этнологом. Совместно с Натальей Романовной Гусевой они открыли отечественному читателю связь между русской и индоиранской культурами, древнейшими культурами на нашей планете. Гусеву Валерий Чудинов видел в юности на постановке спектакля «Рамаяна» в Центральном детском театре, где он был артистом оркестра, а она произнесла речь о значении этой великой поэмы. Позже он читал её положительные отклики на первые работы начинающего эпиграфиста Гриневича. О наличии связей между русскими и индийцами говорил академик Олег Николаевич Трубачев. И это направление успешно продолжила Светлана Васильевна Жарникова. Выступления Светланы Васильевны, в которых она внятно излагает доводы о родстве русского языка и санскрита, разошлись по интернету сотнями тысяч публикаций. Их посмотрели миллионы людей. И во многом благодаря этому тема древних ариев вышла из-под спуда непрофессиональной пропаганды, вновь став объектом изучения и обсуждения.
Она рассказала о том, как сложно проходила защита её кандидатской диссертации, которую ей хотели засчитать в качестве докторской диссертации. До этого в науке господствовало представление о том, что многие названия топонимов, гидронимов, многие традиции костюма на Руси имеют угро-финское происхождение, однако Светлана Васильевна Жарникова показала, что эти названия родственны названиям в санскрите, а традиции родственны традициям Индии.
У Светланы Васильевны много публикаций на Петербургском сайте «Гиперборея». Так, в статье «Уважение к минувшему» она пишет: «Унизительный взгляд на прошлое русского народа навязывался русским при упорном игнорировании того факта, что мифология, сказки северных народов мира, древнейшие священные тексты Индии и Ирана, самые авторитетные историки Эллады фактически в один голос утверждали, что во времена уже записываемой истории на северо-востоке Европы, в условиях Золотого Века жил счастливый, добрый, красивый и мудрый народ, который заложил многие культурные основы современной цивилизации.
После открытия северной культуры Гипербореи и уточнения датировки несколькими десятками тысячелетий культуры воронежских Костёнок самая горячая тема в российских исторических исследованиях стремительно сместилась в существенно более глубокое прошлое, чем то, которое ещё
совсем недавно считалось точно установленным периодом появления цивилизации на Руси».
Это утверждение и сегодня является очень смелым, а в тысяча девятьсот восемдесят восьмом году казалось неслыханным. Валерий Чудинов вспоминает, как в пятом году он задал вопрос о памятниках Гиперборее директору краеведческого музея в Мурманске, на что получил ответ: «Я фантазиями не занимаюсь».
Зато ими (Гипербореей) занимаются шведы и норвежцы, и весьма успешно. Полагая, что раз русские сами утверждают, что они не имею отношения к памятникам Гипербореи, а скандинавы имеют, то русские должны вернуть Мурманскую и Архангельскую области скандинавам.
В статье тысяча девятьсот восемдесят шесттого года «К вопросу о возможной локализации священных гор Меру и Хары в индоиранской (арийской) мифологии» Светлана Васильевна пишет: «Среди многих неразгаданных тайн древнейшей истории народов Евразии отнюдь не последнее место занимает проблема, вот уже более столетия волнующая умы исследователей и порождающая все новые и новые, порой абсолютно взаимоисключающие гипотезы, – это вопрос о том, где же находились легендарные Хара и Меру, священные северные горы индоиранского (арийского) эпоса и мифов, с которыми соотносят, как правило, скифские Рипейские, или Гиперборейские горы античных авторов. Начатая более восьмидесяти лет назад книгой выдающегося политического деятеля Индии Бала Гангадхара Тилака "Арктическая родина в Ведах" серия публикаций, в той или иной мере связанных с этим вопросом, продолжается и по сей день.
Проанализировав большой материал, они приходит к выводу: «Все вышеизложенное, думается, дает нам основание предполагать, что священные горы Хара и Меру индоиранской мифологии, Гиперборейские и Рипейские горы скифов и античных авторов можно ассоциировать с возвышенностями северо-востока европейской части СССР – Северными Увалами».
Хотя с точки зрения Валерия Чудинова слово «Хара» означает иное произношение имени русского бога Яра, а гору Меру я локализую в Гренландии, где скала в центре города Поло была именно скалой Яра, но я восхищен тем, что уже в то время Светлана Васильевна взялась за исследование данной темы как научной проблемы. Это выдаёт её огромную научную смелость.
В статье «Что значит – русская земля?» Светлана Васильевна отмечает: «Один из крупнейших геоморфологов нашего времени Юрий. Мещеряков называл Северные Увалы "аномалией Русской равнины" и подчеркивал, что именно они являются главным водоразделом бассейнов северных и южных морей. Именно на широте Северных Увалов помещал Птолемей Рипейские, Гиперборейские или Алаунские горы, аналогичные священным Меру и Хара арийской древности. Он писал, что "внутри Сарматии живут алаунские скифы, они составляют ветвь сильных сарматов и называются алаунянами".
В районе Северных Увалов можно встретить такие названия рек, гор, населенных мест как Харово, Харовская гряда, Харовка, Рипино, Рипинка, Рипа, Мандара, Мандарово.
На ближайших подходах Увалов к Волге, на Костромской земле течет река Мера. В Вятской губернии был известен горный массив, называвшийся Кукарский Увал.
Махабхарата сообщает, что длина хребта Меру (или Хары) равнялась тысяча шестьсот километров и на западе его ограничивала местность Гандхамадана. Но если мы сегодня отложим от горы Нарады по Северным Увалам тысячу шестьсот километров на запад, то попадем в Карельское Заонежье, где до сих пор имеется озёро Гандамадана и гора Гандамадана. Здесь же, в районе Гандамаданы, течет река Сагаров Ручей. О сыновьях Сагары, выкопавших канал, рассказывает один из сюжетов древнеиндийского эпоса. Таких примеров можно привести множество.
Завершить же наш рассказ хотелось бы следующим. Согласно географии Махабхараты, за священными северными горами жили разные народы: данавы (даны, данайцы), дайтьи (дайчьи), саумьи (сауми), яваны (греки) и народ северных Куру, проживавший на островах Кур и Наль (Холмогоры). А вся эта огромная страна на берегах Белого и Баренцева морей именовалась Расаталой, что значит Русская земля».
На взгляд Валерия Чудинова, названия Харово, Харовская гряда, Харовка означают Ярово, Яровская гряда, Яровка, Меру означает Мера, Расатала – Русью Стала, то есть «Русь перенесенная» (из Гипербореи). Наши предки противостояли природным катаклизма тем, что, приходя на новое место, они переносили названия и образ жизни своего народа на это новое пространство. И открытие этой вторичной Руси – весьма важный вклад в историческую науку. Перед её статьей «Воттовара – за ней живут гиперборейцы» помещено изображение камня, в центре которого изображен город Поло, примерно такой же, как на карте Меркатора. К сожалению, на портале «Гиперборея» эпиграфистов не нашлось, и надписи на этом замечательном камне никто не прочитал.
А в самой статье Светлана Васильевна Жарникова написала: «В моей статье «К вопросу о возможной локализации священных гор Меру и Хары индоиранской (арийской) мифологии», вышедшей в свет в тысяча девятьсот восемдесят шестом году в Информационном бюллетене ЮНЕСКО, был сделан вывод о том, что цепь священных северных гор арьев реально существует и состоит из таких древних широтных поднятий как Приполярный Урал, Тиманский кряж, Северные Увалы, возвышенности запада Вологодской области, возвышенности современной Ленинградской области, горы Карелии и Кольского полуострова. Именно за этими возвышенностями, делящими реки на текущие к северу, находилась та земля, которую древние греки называли Гипербореей, то есть «лежащей выше северо-восточного ветра (Борея)».
Норд-ост – Борей действительно не проникает за пределы этих возвышенностей, почему многие путешественники отмечали, что даже при
суровых морозах здесь всегда очень тихо и холод переносится легко. Таким образом, словосочетание «Ватавара» (ныне произносимае как «Вотоваара») на санскрите буквально значит:«Ограждающая от ветра» или «Преграда ветру».
Кстати, в этой статье имеется и набор иллюстраций. Камень в виде конусообразного навершия расколот пополам. Однако на нем можно прочитать надпись, идущую вдоль пояска в нижней трети камня.
Следующая статья Светланы Васильевны, написанная в соавторстве с её сыном, Алексеем Виноградовым: «Пур-Наволок – город Архангельск». Они пишут: «Говоря о географических названиях Русского Севера, мы всегда должны помнить научное положение, утверждающее, что на громадных просторах европейской России, вплоть до крайних северных областей, господствуют названия, в основе которых лежит какой-то древний индоевропейский язык. Это положение было сформулировано академиком Соболевским в работе "Названия рек и озёр Русского Севера", где он писал: "Исходный пункт моей работы – предположение, что две группы названий родственны между собой и принадлежат одному языку индоевропейской семьи, который я пока, вплоть до подыскания более подходящего термина, именую скифским"».
Этот факт Валерий Чудинов подтверждает, поскольку скифы, по результатам его исследований, занимали всю Евразию (от Великобритании до Тихого океана) и основой их языка был язык русский.
«Обратим внимание на замечательный севернорусский город Архангельск. Знаете ли Вы, что до того, как статьАрхангельском, он носил другое имя – "Пур– Наволок"? Что в Вологодской, Архангельской, Олонецкой губерниях были нередки такие вот названия сел и деревень: Пурово, Пурино, Пура, Пурка, Пуркино? Судя по всему, когда-то на месте этих исторически молодых поселений стояли очень древние города. Да, и не случайно в древнейших скандинавских сагах Северная Русь носила имя Гардарики – "Городами Богатой"». Это – очень ценные указания, которые могут помочь при рассмотрении геоглифов.
В статье «Межнациональные отношения в свете новой российской национальной идеи» Светлана Васильевна Жарникова обращается к весьма острой с политической точки зрения проблеме: «В настоящее время проблемы молодежной политики, а, следовательно, и межнациональных и межконфессональных отношений становятся как никогда актуальны. Попытки пастулировать православие, точнее ту его форму, которая сложилась за время правления династии Романовых, как основу основ российкого государства, должных результатов не принесли (не говоря уже о том, что «воцерковление» на фоне чудовищной безнравственности выглядит несколько театрально).
Кроме того, не стоит забывать, что в России немало народов, исповедующих другие религии. И все они граждане России, которым также должна быть близка и «понятна» Российская национальная идея.
Что может стать основой, своеобразным стержнем этой новой национальной идеи Российского государства?
Судя по всему, это осознание глубины общего исторического пространства, восстановление исторической памяти народов. Кстати это понимали россияне еще в самом начале двадцатого века. Так известный исследователь Русского Севера Андрей Журавский писал: «Россия меньше чем какая-либо другая нация может познать себя без помощи незнания корней, своего прошлого, а не познав себя, невозможно познать других и учесть свои положения среди других, как не исправив себя, невозможно исправить других. Будем же изучать опыты седого прошлого. Это отнюдь не только «интересно» или «любопытно», но жизненно важно, необходимо».
Сегодня вопрос в том, что же это за «опыты седого прошлого», стоит достаточно остро. И чтобы ответить на него судя по всему необходимо заглянуть на глубину значительно большую, чем пресловутое «тысячелетие русской истории».
Валерий Чудинов пишет:» Своевременная и правильная мысль, которую я целиком поддерживаю. Вообще мне кажется, что наследие Светланы Васильевны много шире, чем только проблемы этнологии, и к нему следует периодически обращаться»
Вот статья «Русские и германцы: северная прародина» написанная совместно с Алексеем Германовичем Виноградовым для «Радио Германии»: «Взрывоопасное и чреватое многочисленными межнациональными конфликтами начало двадцать первого века, пожалуй, как никогда заставляет людей задумываться над извечным вопросом: "Кто мы и откуда?". Но для того, чтобы ответить хоть сколько-нибудь внятно на этот вопрос, нам необходимо погрузиться в глубины тысячелетий. И там, у колыбели современных народов Европы, перед нами предстанет картина, во многом неожиданная и поучительная.
Общеизвестно, что в глубочайшей древности (примерно до пятого тысячелетия до нашей эры) предки почти всех современных народов Европы говорили на едином, так называемом индоевропейском языке и жили на единой прародине, поиски которой учёными продолжаются до сегодняшнего дня. В настоящее время подавляющее большинство их считает, что вплоть до рубежа четвёртого тысячелетия до н.ашей эры. людей, говоривших на индоевропейских языках, на землях Индии, Греции, Италии, Франции, Британских островов попросту еще не было.
И хотя именно с книги немецкого ученого Фон Шлегеля "О языке и мудрости индийцев", вышедшей в свет в нчале девятнадцатого века, где высказывалась впервые мысль о единой прародине всех индоевропейцев на территории Индостана, среди европейцев началось повальное увлечение
всем индийским, многие последующие немецкие исследователи помещали эту прародину очень далеко от Индии».
Валерий Чудинов указывает что он показал, что тысячу лет назад основным языком в Европе был язык русский, так что мысль о том, что и язык Индии, санскрит произошел от русского, кажется ему весьма близкой и понятной.
Ещё в начале нашего века на этот вопрос пытался ответить выдающийся индийский ученый Бал Гангадхар Тилак, анализируя древние тексты в своей книге «Арктическая родина в Ведах». По его мнению, родина предков индо-иранцев (или, как они себя называли, – ариев) находилась на Севере Европы, где-то около Полярного круга. Об этом свидетельствовали дошедшие предания о годе, который делится на светлую и темную половину, о замерзающем Молочном море, над которым сверкает Северное сияние («Блиставицы»), о созвездиях не только приполярных, но и заполярных широт, кружащихся длинной зимней ночью вокруг Полярной звезды. Древние тексты рассказывали о весеннем таянии снегов, о незаходящем летнем солнце, о горах, протянувшихся с запада на восток и делящих реки на текущие на север (в Молочное море) и текущие на юг (в Южное море)».
«Именно эти горы, объявленные рядом ученых «мифическими», стали камнем преткновения для исследователей, попытавшихся вслед за Тилаком определить более конкретно, где же все-таки находилась страна, описанная в Ведах и «Махабхарате», а также в священной книге древних иранцев «Авесте». (Единственный научный перевод всех книг «Авесты» на русский язык осуществил её сын – Алексей Германович Виноградов).
К сожалению, индологи редко обращаются к русским областным диалектологическим словарям, практически не знают центральнорусской и тем более северорусской топонимики, не анализируют географические карты и почти не заглядывают в работы своих коллег из других областей науки: палеоклиматологов, палеоботаников, геоморфологов.
В июне 1993 года мы, группа работников науки и культуры Вологодской области и наши гости – фольклорный коллектив из Индии (штат Западная Бенгалия), плыли на теплоходе по реке Сухоне, от Вологды до Великого Устюга. Индийским коллективом руководили две женщины с удивительными санскритскими именами – Дарвини (то есть Дарящая свет) и Васанта (то есть Весна). Теплоход медленно шел по прекрасной северной реке. Мы смотрели на цветущие луга, вековые сосны, на деревенские дома – двух-трехэтажные хоромины, на полосатые отвесные берега, на тихую гладь воды, любовались пленительной тишиной белых северных ночей.
И вместе удивлялись, как много у нас общего. Мы, русские, – тому, что наши индийские гости могут практически без акцента повторять за нами слова популярной эстрадной песни. Они, индийцы, – тому, как знакомо звучат названия рек и деревень. А потом мы вместе рассматривали орнаменты, – выполненные именно в тех местах, мимо которых шел наш теплоход.
Сложно описать то чувство, которое испытываешь, когда гости из далекой страны, указывая то на одну, то на другую вышивку вологодских
крестьянок, наперебой говорят: «Это есть в Ориссе, а это в Раджастхане, а это похоже на то, что делается в Бихаре, а это – в Гуджерате, а это как у нас – в Бенгалии». Было радостно ощущать крепкие нити, связывающие нас через тысячелетия с далекими общими предками».
Статья заканчивается так: «Остров Сканда, по авторитетному мнению Иордана, занимал не только нынешний Скандинавский полуостров, но и побережье Белого моря, бассейны рек Ваги и Сухоны, на территории Вологодской и Архангельской губернии. Не случайно именно в этих местах еще в начале нашего века в ткачестве и вышивке русских крестьянок стойко сохранялась традиция геометрического орнамента, истоки которого можно найти в древнейших культурах каменного века Восточной Европы, некоторые ученые считают "визитной карточкой" арийских народов».
Весьма интересной является и статья «Мы кто в этой старой Европе?» где говорится: «В северорусских говорах слова зачастую несут в себе более архаичный смысл, чем тот, который в измененном и отшлифованном виде сохранился в священном языке жрецов Древней Индии. В северорусском гаять – убирать, хорошо обрабатывать, а в санскрите гайя – дом, хозяйство, семья.
В вологодских говорах карта – это вытканный на половике узор, а в санскрите карт – прясть, отсекать, отделять. Слово прастава, то есть тканая орнаментальная или вышитая полоса, украшающая подолы рубах, концы полотенец и в целом декорирующая одежду, в санскрите означает – хвалебная песнь: ведь в гимнах Ригведы священная речь постоянно ассоциируется с орнаментом ткани, а поэтическое творчество мудрецов сравнивается с ткачеством – «ткань гимна», «ткать гимн» и так далее. Вероятно, именно в северорусских говорах надо искать объяснение и тому, как готовился ритуальный хмельной напиток сома. В текстах Ригведы постоянно упоминается некая «жертвенная солома», необходимая для приготовления сомы».
Из сказанного можно сделать вывод о том, что древние географические карты изготавливались не только из камня, но и из ткани.
«Обратите внимание на то, что последнее по времени событие, описанное в эпосе «Махабхарата», – это грандиозная битва между народами
пандавов и кауравов, которая, как считается, произошла в три тысячи сто втором году до нашей эры на Курукшетре (Курском поле). Именно с этого события традиционная индийская хронология начинает отсчет самого плохого временного цикла – Калиюги (или времени царства богини смерти Кали).
Но на рубеже четвёртого тысячелетия до нашей эры племен, говоривших на индоевропейских языках (и, естественно, на санскрите), на полуострове
Индостан еще не было. Они пришли туда значительно позже. Тогда возникает естественный вопрос: где же они воевали пять тысячелетий назад?
Валерий Чудинов говорит: «И это наблюдение я также могу подтвердить, ибо когда я преподавал в УДН, студенты из Индии утверждали, что мы, русские, говорим на индийском санскрите».
В две тысячи пятом году Светлана Васильевна написала и иную статью: «Так ли прост русский дед-Мороз?»: «Таким образом, мы пришли к выводу, что наши далекие предки много тысячелетий тому назад, когда они были не только нашими предками, но и прародителями большинства современных народов Европы, поклонялись Богу Создателю Вселенной – ночному звёздному небу у начала своей священной северной реки, несущей воды в Белое (Молочное) море, "имеющее удобные заливы. Прошли тысячелетия. Грозный бог ночного неба превратился в Деда Мороза. (Санта Клауса), священная богиня вод в Снегурочку. Но все также несет свои воды в Белое море река, которую мы, по прошествии многих тысяч лет, продолжаем называть Двиной – двойной. А у начала Северной Двины, у слияния двух образующих ее рек Сухоны и Юга, находится древний русский город Великий Устюг. Именно он по праву может и должен именоваться "Родиной Деда Мороза", так как именно здесь в глубокой древности и сложился этот образ, воспетый в гимнах Ригведы и Авесты, древнейших памятников культуры всех индоевропейских народов.
Поскольку образ Деда Мороза берет начало в древнем мифологическом Варуне – боге ночного неба и вод, то и исток образа Снегурочки, постоянно сопровождающей Деда Мороза, надо искать рядом с Варуной. Судя по всему, это мифологизированный образ зимнего состояния вод священной реки арьев Двины (Ардви древних иранцев). Таким образом, Снегурочка – воплощение застывших вод вообще и вод Северной Двины в частности. Она одета только в белые одежды. Никакой иной цвет в традиционной символике не допускается. Орнамент выполняется только серебряными нитями. Головной убор – восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом». – Великолепный вывод!
Валерий Чудинов перечислил всего несколько из многих статей Светлана Васильевна. Но у неё имеются и монографии. Наиболее известная – «Золотая Нить».
«В книге Светланы Васильевны Жарниковой «Золотая нить» живым, популярным языком рассказывается о сенсационных открытиях, сделанных автором, среди которых определение местонахождения легендарных «священных северных гор» арьев, воспетых в мифах и преданиях, поиски которых велись учеными разных стран более ста пятидесяти лет.
Книга повествует о сложившихся в глубокой древности на севере Восточной Европы и унесенных арьями в на территорию Ирана и Индостана обрядах и обычаях, доживших до наших дней в одинаковых формах как в Индии, так и на севере России. Многие из них впервые получают объяснение
на основе древних арийских текстов. Из книги читатели узнают о сложной
символике древних орнаментов, возраст которых иногда превышает двадцать тысячелетий, донесенных севернорусскими ткачихами и вышивальщицами до наших дней. О глубоких многотысячелетних истоках образов наших народных песен, сказок, былин, заговоров. В наш век бурного развития национального самосознания, поиска народами своих этнических корней и возникающих зачастую на этой почве конфликтов, эта книга является чрезвычайно актуальной и важной в осознании народами их родственных связей и в укреплении деловых и дружественных контактов».
Светлана Васильевна пишет: «В тысяча восемсот пятьдесят восьмом году в типографии Главного Штаба в Санкт-Петербурге была отпечатана тиражом в тысячу экземпляров книга Александра Васильева «О древнейшей истории северных славян до времен Рюрика, и откуда пришел Рюрик и его варяги». Свой труд он предварил словами выдающегося языковеда-слависта Шафарика: «Чего не сделаем, недоразумеем, то даст Бог сделаем, не сегодня-завтра; а если и не мы, то наши потомки; но для того, чтобы что-нибудь было сделано, надобно, чтобы оно было уже начато».
Александр Васильев писал: «Многие восстанут против моих убеждений, но опровергнуть их нет возможности. Все, что представляю я, все основано на фактах, на сказаниях древних летописцев; я первый поблагодарю того, кто докажет мне мою ошибочность и основательнее меня объяснит приход Варягов, но уверен в душе, что сделать этого нет возможности. Мои соотечественники, примите этот добросовестный труд – вам отдаю на суд его». Он написал эти слова в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году.
В тысяча девятьсот восемдесят втором году я разрезала страницы книги, которую почти за сто двадцать пять лет так никто и не прочел. Хочется верить, что это судьба только одной из тысячи. Но ведь их было так мало.
Грустно, если и остальные постигла та же участь. Как не вспомнить тут слова гениального русского поэта: «Мы ленивы и не любопытны». Судя по всему, пришла пора искупать этот грех. Сейчас трудно оценить огромность того, что сделал Александр Васильев. Вспомним, как воспринимали свою отечественную культуру, историю своего народа многие выдающиеся умы России – его современники.
«Я за все русские древности не дам гроша. То ли дело Греция? То ли дело Италия?» – писал Батюшков.
«Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство – вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного памятника, который говорил бы вам о прошлом, который воссоздал бы его перед вами живо и картинно», – восклицал Чаадаев».
Эта негативная оценка русской древности российской интеллигенцией, к сожалению, жива и сегодня. Тем намного рельефнее выглядит труд Светланы Васильевны.
Другая книга Светланы Васильевны: «След ведической Руси». В этой книге собраны основные доказательства зарождения белых народов на севере
Евразии. Именно в этой книге впервые приведен свод строго научных фактов на русском языке. Основой книги стали данные диссертации «Архаичные мотивы севернорусской орнаментики (к вопросу о возможных праславянско-индоиранских параллелях), которая была защищена в Институте этнографии и антропологии Академии наук СССР.
У Светланы Васильевны Жарниковой хватило научной смелости и доказательности для того, чтобы отстоять идею, что русский этнос имеет много тысяч лет своей истории.
Валерий Чудинов пишет: «Я себя считаю в определенной степени ее учеником.
Нам будет очень не хватать этой исследовательницы, человека-первопроходца. Ибо она показала, что прошлое Руси следует искать, прежде всего, на просторах России, в её природе, топонимике и древних артефактах, а не в зарубежной историографии. Мы скорбим о её кончине со всеми патриотами России».
Жарникова Светлана Васильевна. Родилась в тысяча девятьсот сорок пятом году во Владивостоке Приморского края.
Детство и юность прошли на Курильских островах, Камчатке, Украине, Эстонии и Кабардино-Балкарии.
В тысяча девятьсот семидесятом году закончила факультет теории и истории изобразительного искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде.
Работала в городе Анапе и городе Краснодаре. С тысяча девятьсот семдесят восьмого по две тысячи второй год жила и работала в Вологде. Затем в Санкт-Петербурге.
В тысяча девятьсот восемдесят восьмом году защитила диссертацию «Архаические мотивы севернорусской орнаментики (к вопросу о возможных праславянско-индоиранских параллелях)».
В тысяча девятьсот девяностом году избрана действительным членом Академии наук РСФСР. С две тысячи первого года член Международного Клуба Ученых. В две тысячи третьем году избрана действительным членом Русского географического общества.
При этом отношение к ней и особенно к её трудам в Вологде крайне отрицательное. Так несмотря на наличие академического звания, она работала на должности младшего научного сотрудника Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В апреле две тысячи двадцать четвёртого года архив Светланы Васильевны был без
описи изъят вологодской полицией и исчез.
Но тут всё понятно, ведь, как объяснял один известный вологжанин: «Арии, индусы? Нищие! Зачем, они нам, лучше мы финно-уграми будем, может нас Финляндия заберёт. Заживём!». В общем «Вологда –це Европа».
Локализация священных гор Меру и Хары индоиранской (арийской) мифологии
Среди многих неразгаданных тайн древнейшей истории народов Евразии отнюдь не последнее место занимает проблема, вот уже более столетия волнующая умы исследователей и порождающая все новые и новые, порой абсолютно взаимоисключающие гипотезы, – это вопрос о том, где же находились легендарные Хара и Меру, священные северные горы индоиранского (арийского) эпоса и мифов, с которыми соотносят, как правило, скифские Рипейские, или Гиперборейские горы античных авторов.
Начатая более восьмидесяти лет назад книгой выдающегося политического деятеля Индии Бала Гангадхара Тилака «Арктическая родина в Ведах» серия публикаций, в той или иной мере связанных с этим вопросом, продолжается и по сей день. Ответ на вопрос, по-видимому, так и не найден, о чем свидетельствуют две последние по времени публикации – книга Бонгарда-Левина и Грантовского «От Скифии до Индии» и Куклиной «Этногеография Скифии», дающие совершенно взаимоисключающую локализацию так называемых Рипейских гор, причем в основу этих локализаций легли одни и те же мифологические сюжеты, одни и те же исторические источники, одни и те же, данные древними авторами, географические ориентиры.
Бонгард-Левин и Грантовский, обобщив и проанализировав материалы «Авесты», «Ригведы», «Махабхараты», сообщения Геродота, Помпония Мелы, Плиния, Птолемея, средневековых арабских путешественников Ибн Фадлана, Ибн Баттута, пришли к выводу, что повторяющиеся во всех без исключения источниках географические характеристики вполне реальны и дают возможность ассоциировать Рипейские горы, Хару и Меру конкретно с Уральскими горами, так как только Урал соответствует почти всем тем специфическим особенностям, которые считались необходимыми атрибутами священных северных гор: большой высотой, природными богатствами, близостью к северным морям.
С таким решением вопроса в корне не согласна Куклина, автор «Этногеографии Скифии». В основу её концепции легло убеждение в том, что: «По-видимому, прежде всего необходимо отделить одно от другого представления о мифических северных горах и о горах, которые располагаясь к северу от Скифии, реально давали начало многим земным рекам. Те и другие называются Рипейскими, однако локализации поддаются, несомненно, только эти последние горы, тогда как первые, связанные с Крайним Севером и Гипербореями, следует искать не на карте, а в мифотворчестве индоиранских народов».
Высказывая свое несогласие с локализацией северных гор на Урале, Куклина резонно отмечает, что при такой постановке вопроса «получаются следующие, по существу, неустранимые противоречия: во-первых, Рипейские горы, по недвусмысленным свидетельствам античных писателей,
должны быть вытянуты в широтном направлении, что никак не может быть увязано с Уральскими горами;
во-вторых, Уральские горы все-таки расположены на восток или северо-восток от причерноморской Скифии, а вовсе не на север от нее; в-третьих, Уральские горы не являются тем водоразделом, с которого берут начало скифские реки».
С этими возражениями трудно не согласиться. Находя противоречия у авторов «От Скифии до Индии», их оппонент тоже оказывается перёд практически неустранимыми противоречиями.
Во-первых, Тянь-Шань, хоть и протянулся в широтном направлении, но отнюдь не является водоразделом рек, впадающих в Северное и Южное моря. Здесь действительно берет начало великая река Средней Азии – Сырдарья, но впадает она в Аральское море, которое вряд ли можно назвать Ледовым, или Мертвым океаном. Что касается остальных рек Средней Азии (текущих на север), то все они не несут свои воды в море, что никак не соответствует ни индоиранской мифопоэтической, ни скифской традициям. И хотя на Тянь-Шане находится водораздел рек Средней Азии и Кашгарии, все реки, текущие отсюда на юг, также не впадают ни в какое море, а являются притоками одной-единственной реки Тарим, теряющейся в пустыне Такла-Макан.
Здесь также не приходится говорить о реках, текущих в золотых руслах, о годе, где шесть месяцев день и шесть месяцев – ночь, о Полярной Звезде и Большой Медведице высоко над головой и о многом другом, связанном именно со священными северными горами.
Таким образом, мы останавливаемся перед парадоксом: Урал не может быть ассоциирован с Рипейскими горами скифов и священными Харой и Меру индоариев по вышеизложенным причинам, но и Тянь-Шань также в рамки традиционных представлений не укладывается.
Для обоснования своих выводов она также приводит обширный свод высказываний античных авторов – Псевдо-Гиппократа, Дионисия, Евстафия, Вергилия, Плиния, Геродота о северных горах, именуемых Рипейскими, и далее, обращаясь к работе Бонгарда-Левина и Грантовского, вслед за ними приводит образцы поразительных совпадений между скифскими полярными представлениями, древнеиндийской и древнеиранской «арктической» традицией.
Говоря об этих совпадениях, Куклина делает следующий вывод: северные горы и весь «арктический» цикл – всего лишь миф, пересказ сведений, полученных от коренного населения Сибири, а с реальными Рипейскими горами могут ассоциироваться только хребты Тянь-Шаня, так
как они являются единственной широтной водораздельной грядой в этой части Евразии, отличаются большой высотой, находятся на севере по отношению к Индии и Ирану.
Это тем более странно, если учесть следующие обстоятельства: в традиции «Махабхараты» и «Ригведы» на севере находилась страна Хариварша, местопребывание Рудры-Хары – «Столпника, носящего светлые косы», «святого властелина Хари-Нараяны, бесконечного Пуруши, пресветлого вечного Вишну, камышеволосого, русобородого, всех существ Предка». Именно на севере обитал бог богатства Кубера, здесь помещались «семь риши» – сыновья бога-творца Брахмы, которые почитались как семь Праджапати – «владык существ», праотцов, прапредков, воплощавшихся в семи звездах Большой Медведицы. И, наконец, на севере находился «чистый, прекрасный, кроткий желанный мир», где «возрождаются добродетельные люди», и вообще, «северная часть земли всех других прекрасней, чище», а «день богов» – это путь солнца на север.
Нам представляется, что в данном случае Куклина, далека от истины, утверждая, что северные горы индоиранского эпоса – это чистый вымысел, и не имеет смысла искать их на географической карте. Однако трудно согласиться и со всеми авторами гипотезы об Уральской локализации гор Хара и Меру: слишком много противоречий несет в себе и эта концепция.
Здесь следует выделить следующие группы сведений, касающихся Рипейских гор, Хары и Меру, идентичных у средневековых арабских путешественников, у античных авторов, в скифской, древнеиндийской и древнеиранской мифической традиции, на которые обращают также внимание и авторы «От Скифии до Индии», и автор «Этногеографии Скифии»:
Рипейские горы, Хара и Меру протянулись с запада на восток, отделив север от юга.
На севере, за Рипейскими горами, Харой и Меру находится Ледовитый, или Кронийский, или Мертвый, или Молочный океан, или огромное море Воурукаша, куда впадают реки, текущие с этих гор на север.
Рипейские горы, Хара и Меру являются водоразделом, так как делят реки на текущие на юг и текущие на север.
С вершин Хары, Меру и Рипейских гор берут начало: небесная Ганга, священная Раха, река Русия, все большие реки Скифии, кроме Истра-Дуная.
В этих северных краях всегда молено увидеть высоко над головой Полярную Звезду и созвездие Большой Медведицы.
Здесь полгода длится день и полгода – ночь, зимой дует холодный северо-восточный ветер, приносящий много снега.
Реки, берущие начало в этих горах, текут в золотых руслах, а сами горы таят в себе несметные богатства.
Горы, покрытые лесами, изобилуют зверем и птицей; очень высоки, непроходимы.
За Рипейскими горами, Харой и Меру лежит счастливая страна.
Вероятно, имеет смысл ещё раз обратиться к древним источникам, тем более, что среди исследователей растет убежденность в том, что верить античным авторам можно и должно. Так, Агбунов на основе привлечения данных палеогеографии для изучения изменений береговой линии Черного моря приходит к выводу, что «произведения древних авторов представляют собой, как правило, достоверный источник и заслуживают большего внимания и доверия. Хочется подчеркнуть, что конкретные историко-географические описания античных авторов в большинстве своем абсолютно достоверны».
В данном случае мы обращаемся к такому авторитетному источнику, как «География» Птолемея, тем более что к нему нас отсылают и авторы книги от «Скифии до Индии», и автор «Этногеографии Скифии». Но так как текст, как мы уже убедились ранее, можно интерпретировать по-разному для доказательства взаимоисключающих концепций, обратимся к карте Птолемея, вернее, к той ее части «Географии», где на севере изображена цепь гор, названных Гиперборейскими, и, приводя которую, Бонгард-Левин и Грантовский говорят об ошибке Птолемея, поместившего на севере горы, которых нет.
Для сравнения мы используем карту европейской части СССР19 и обнаружим, что на карте Птолемея есть такие вполне реальные географические объекты, как Балтийское, Черное, Азовское моря, а также Каспийское море с впадающей в него Волгой, названной древним авестийским именем Рха, отмечены все более или менее значительные возвышенности вплоть до Южного Урала, который отделен значительным расстоянием от намеченных Птолемеем на севере и протянувшихся в широтном направлений Гиперборейских гор, дающих начало двум истокам священной реки древних иранцев – Рахи.
Уже эта карта свидетельствует о том, что Птолемей, а вероятно, и географы древности задолго до него различали Гиперборейские (или Рипейские) горы и Урал, и не ассоциировали их друг с другом.
На поставленный нами вопрос, прав или неправ был Птолемей, есть ли на севере такие возвышенности, с которых берут начало Волга и Кама, карта СССР дает беспристрастный ответ: такие возвышенности есть! Это находящиеся на северо-востоке европейской части СССР, объединяющиеся при посредстве Тиманского кряжа в единую систему с Северным Уралом и протянувшиеся с запада на восток Северные Увалы.
В своем капитальном труде «Рельеф СССР», один из крупнейших советских геоморфологов Юрий Мещеряков писал: «Мировой водораздел, ограничивающий бассейн Северного Ледовитого океана, наиболее выдвинут к югу, в глубь материка Евразии, в азиатской части СССР. Максимальное
расстояние от океана до водораздела отмечено на меридианах Байкала-Енисея. Перейдя Урал, линия водораздела сразу резко приближается к побережью, в пределах возвышенности Северные Увалы линия водораздела удалена от побережья всего на восемьсот километров». Далее он пишет о том, что положение главного водораздела северных и южных морей на Русской равнине принадлежит Северным Увалам, и, называя их «основной орогидрографической аномалией Русской равнины», отмечает парадоксальность того, что «наиболее высокие возвышенности (Среднерусская, Приволжская), расположенные в южной части равнины, не являются главными водораздельными рубежами, а уступают эту роль маловыразительным, сравнительно невысоким Северным Увалам».
Мещеряков указывает также, что в отличие от большей части возвышенностей Русской равнины, имеющих меридиональное направление, «остается неясным происхождение инверсионной морфоструктуры Северных Увалов. Эта возвышенность имеет не меридиональное, а субширотное направление». Говоря о «тесной, органической связи между волнообразными деформациями Урала и Русской равнины», он подчеркивает, что «…от орографического узла «Трех камней» (Конжаковский камень, Косьвинский камень и Денежкин камень) отходит Тиманский кряж. Этот расширенный и повышенный участок Урала лежит на широте Северных Увалов и объединяется с ними в единую широтную зону поднятия». В той же работе отмечено единство происхождения Северных Увалов, Галичской и Грязовецко-Даниловской возвышенностей, тех широтных поднятий на территории Северо-Востока европейской части СССР, которые объединяют в единую дугу возвышенности Карелии, Северные Увалы и горы Северного Урала, ту часть хребта, которая имеет северо-северо-восточную направленность.
Итак, Северные Увалы – главный водораздел рек севера и юга, бассейнов Белого и Каспийского морей – находятся именно там, где на карте Птолемея помещены Гиперборейские (или Рипейские) горы, с которых берет начало священная река «Авесты» – Рха. Однако по той же авестийской традиции исток этой реки находится на горах Высокой Хары – Хары Берёзайти, на «золотой вершине Хукарйа».
Здесь небезынтересно привести сообщение Ал-Идриси о горах Кукайа, которые он помещает на крайнем северо-востоке Ойкумены и «которые могут быть связаны с Рипейскими горами античных географов, и прежде всего Птолемея», а также горой Хукарйа «Авесты». Ал-Идриси, рассказывая о горах Кукайа, с которых берет начало река Русийа, отмечает, что: «В упомянутую реку Русийа впадает шесть больших рек, истоки которых находятся в горах Кукайа, а это большие горы, простирающиеся от Моря
Мраков до края обитаемой Земли. Это очень большие горы, никто не в состоянии подняться на них из-за сильного холода и постоянного обилия снега на их вершинах».
Если принять локализацию Рипейских (Гиперборейских) гор и гор Кукайа как Северных Увалов, то найти эти шесть рек несложно. В Волгу (Русию) действительно впадают берущие начало именно на Увалах шесть рек – Кама, Вятка, Ветлуга, Унжа, Кострома и Шексна. Таким образом, если считать истоком Волги, как это было принято в античной традиции, Каму, то начинается собственно Волга – Рха – Птолемея и «Авесты» действительно с Северных Увалов. С них же берет начало и величайшая из рек Русского Севера – могучая и полноводная Северная Двина, впадающая в Белое море и имеющая более тысячи притоков. Среди крупных притоков Северной Двины выделяется один – река Емца, не замерзающая зимой, так как в ее каньоне бьют «кипуны» (источники).
В гимне Ардвисуре Анахите – священной реке «Авесты» – есть следующие строки:
Бескрайняя, славная именем,
Длиной равная всем водам,
Здесь, по земле, текущим,
Мощная, сходящая с вершины Хукарйа
к морю Ворукаша.
Ардвисура Анахита,
У которой заливов тысяча,
У которой притоков тысяча.
И один приток этой воды моей
Простирается на семь кишваров,
И приток этой воды моей
Непрестанно струится зимой и летом.
Воспевая священную реку, текущую на север в море Ворукаша, автор гимна славит приносящих ей жертвы на «вершине Хары», «на вершине Хукарйа» прапредков арьев Яму и Парадата.
К этому можно добавить также, что Северные Увалы действительно не только являются главным водоразделом Русской равнины и границей севера и юга, но здесь уже можно наблюдать год, разграниченный на шесть светлых и шесть темных месяцев, можно видеть высоко в зените Полярную Звезду и Большую Медведицу, а спустившись ниже к морю – и полярное сияние. Долгая зима – обычное явление в этих широтах, где первый снег зачастую выпадает во второй половине сентября, а последний – нередко в конце мая, так что «в среднем период безопасного произрастания растений можно считать равным четырем месяцам».
Здесь, вероятно, уместно вспомнить слова Геродота о том, что «во всех названных странах (у Рипейских гор) зима столь сурова, что восемь месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи не будет, разве только если разведешь костер. Такие холода продолжаются в тех странах сплошь восемь месяцев, да и остальные четыре месяца не тепло».
Кроме того, интересно, что отмеченная Геродотом безрогость быков в землях у Рипейских гор, которую он связывает с суровым климатом этих мест, подтверждается наличием комолого скота и в наши дни в Кировской и Пермской областях.
Обращаясь вновь к индоиранской эпической традиции, мы должны подчеркнуть еще одну важную деталь: все – и гимны «Авесты» и «Ригведы», и «Махабхарата», и античные авторы, и средневековые арабские путешественники говорят о богатствах гор Хары и Меру, Рипейских (Гиперборейских), Кукайа. Так, Геродот пишет: «На севере же Европы, по-видимому, есть очень много золота. Как его там добывают, я также не могу определенно сказать. Согласно сказанию, его похищают у грифов одноглазые люди-аримаспы». Есть ли доля истины в рассказах о золотых руслах рек, о несметных сокровищах этих гор, если мы будем считать Северные Увалы реальным прообразом легендарных гор?
Обратимся к справочной литературе. В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» сообщается, что берега и русла рек Меры, Волги (у Костромы), Унжи и их притоков изобилуют пиритом (золотой обманкой) настолько, что его хватает для промышленных: разработок, и крестьяне в собирали вымываемые реками куски породы и отвозили их на местные заводы. Стекающая также с Северных Увалов на юг река Вурлам и ее притоки проносят свои воды в поймах, содержащих золотой песок.
Здесь уместно дать небольшую справку о наличии в районе Северных Увалов, Тиманского кряжа, а также других возвышенностей севера европейской части СССР полезных ископаемых, многие из которых, вероятно, были хорошо известны и использовались еще в глубокой древности. Это слюда оконная, воск горный, смола, точильный камень, соль каменная, гранит, медистый известняк, малахит, железо, медь, олово, серебро, золото, драгоценные камни – алмазы, цирконы, ильмениты, шпинели, аметисты, морионы, гранаты, горный, хрусталь, агаты, бериллы, халцедоны, янтарь. Этот перечень можно было бы продолжить, но он и так представляется достаточно обширным, чтобы убедить в следующем: реки, «текущие в золотых руслах», и горы, «богатые драгоценными камнями», – не миф, а реальность.
Думается, что таинственные священные горы индоиранской мифологии, скифских преданий и рассказов античных писателей обретают вполне реальные очертания, так как практически все, что говорилось о Харе и Меру, Рипейских (Гиперборейских) горах, можно соотнести с Северными Увалами:
Как и легендарные горы, Увалы протянулись с запада на восток.
Как и эти горы, они являются границей севера и юга, выполняют функцию главного водораздела рек юга и севера, берущих начало на Увалах.
Как на этих горах, на Северных Увалах можно видеть круглый год в зените Полярную Звезду и Большую Медведицу.
Как за хребтами этих гор, за Увалами лежит побережье замерзающих Белого и Баренцева морей. Здесь полгода длится полярный день и полгода – полярная ночь. На побережье можно увидеть полярное сияние.
На территории СССР есть только одно место, где направление преобладающих воздушных масс зимой четко ориентировано с северо-востока на юго-запад. Это мощный воздушный поток, рождающийся в Карском море, скользящий вдоль западной оконечности Северного Урала и проносящийся по Северным Увалам, – «тот самый северо-восточный ветер, который неизменно упоминается в связи с Гипербореями, Рипейскими горами и всем кругом околорипейских проблем».
Реки, текущие с Северных Увалов, действительно часто имеют золото в руслах или же русла, выложенные пиритом (золотой обманкой), который также дает визуальное впечатление золота.
Северные Увалы и Тиман богаты различными полезными ископаемыми.
Северные Увалы покрыты великолепными лесами с богатым разнотравьем. Здесь растут ель, липа, вяз, ильм, ольха, берёза, черная и красная смородина, кизил, жимолость, шиповник, встречаются мощные заросли хмеля. Эти места всегда славились обилием зверя, птицы и рыбы; все это упоминается в античной и средневековой литературе применительно к Рипейским горам.
Итак, среди всего, что было сказано о священных горах индоиранцев (Рипейских горах скифов) и что мы пока не связали с Северными Увалами, осталась одна важная деталь – высота гор. Действительно, Хара, Меру и Рипейские горы описываются как очень высокие, высота же Северных Увалов сейчас не превышает пятисот метров над уровнем моря. Здесь следует учесть следующий момент. Описывая вершины Хары и Меру, певцы «Махабхараты» постоянно отмечают, что они покрыты лесом, изобилуют зверем и птицей. Следовательно, они никак не могут быть очень высокими.
Что же такое Северные Увалы? Обратимся за справкой к «Словарю народных географических терминов» Мурзаева, где говорится, что «увал в районе Белого моря – это крутое и высокое побережье реки, гористая гряда, сопровождающая долину».
На водораздельном участке Северных Увалов речные долины – это глубокие (до восемдесят и более метров) каньоны с крутыми отвесными берегами. Река Сухона на участке от города Тотьмы до устья своей стремительностью напоминает горную реку, так как ее падение превышает здесь пятьдесят метров. Надо учесть, что высота горных массивов – это не нечто абсолютно стабильное: за тысячелетия возвышенности меняют свои параметры, растут и опускаются. Так, согласно данным геологии, древние речные долины водораздельного участка были на сто шестьдесят метров ниже современных, а появление глубоко врезанных древних долин
исследователи единодушно связывают с вертикальными тектоническими движениями сравнительно большой амплитуды – на четыреста метров. Таким образом, мы не можем с определенностью сказать о том, какова была высота Северных Увалов в эпоху индоиранской древности.
И, наконец, вопрос о прародине индоиранских народов до настоящего времени считается открытым. Большинство исследователей связывает сложение индоиранской общности с южной половиной европейской части СССР – Поднепровьем, Северным Причерноморьем, Поволжьем. К северу от истоков рек, протекающих по этим землям, находились в древности именно Увалы, преграждавшие путь дальше, на побережья Белого и Баренцева морей (вероятно, именно с этим обстоятельством связаны легенды о непроходимости Северных гор).
И еще одна немаловажная деталь – именно на водораздельном участке Северных Увалов и по сей день широко распространены очень интересные с точки зрения возможности сопоставления их с индоиранской лексикой топонимы: Харино, Харово, Харина гора, Харенское, Харинская, Хариновская; Мандара, Мандарово, Мандра (и гора Мандара «Махабхараты»); Рипино, Рипинка, Рипа (и Рипейские горы).
Не менее интересны и названия (происхождение которых еще не объяснено) рек этого региона: Индола, Индоманка, Индосар, Синдош, Варна, Стрига, Свага, Сватка, Хварзенга, Харина, Пана, Кобра, Тора, Арза и др. (Насколько известно автору статьи, возможная связь гидронимов описываемого района с индоиранскими языками еще не прослеживалась учеными).
Кроме того, в этих местах в ткачестве и вышивке русских крестьянок стойко сохранялась традиция геометрического орнамента, истоки которого можно найти в древнейших культурах Евразии эпохи энеолита и бронзы, и прежде всего – в орнаментике керамики андроновской земледельческо-скотоводческой культуры, которую многие исследователи связывают именно с индоиранской (арийской) общностью.
Все вышеизложенное, думается, дает нам основание предполагать, что священные горы Хара и Меру индоиранской мифологии, Гиперборейские и Рипейские горы скифов и античных авторов можно ассоциировать с возвышенностями северо-востока европейской части СССР – Северными Увалами.
В заключение хотелось бы отметить, что районы Северных Увалов, особенно в их восточной и центральной части, на сегодняшний день археологически почти не исследованы, и можно надеяться, что в ближайшем будущем археологов здесь ждут новые интересные находки и открытия.
Где же вы, горы Меру?
На далеком севере, где земля покрыта большую часть года снегом, протянулись с запада на восток великие и бескрайние горы. Вокруг их золотых вершин совершает свой годовой путь солнце, над ними в темноте ночи сверкают семь звезд Большой Медведицы, а в центре мироздания расположена Полярная звезда. С этих гор устремляются вниз все великие земные потоки, только одни из них текут на юг, к теплому морю, а другие – на север, к белопенному океану. На вершинах этих гор шумят леса, поют дивные птицы, живут чудесные звери и в золотых руслах текут здесь реки. Но не дано простому смертному взойти на них, лишь самые смелые и мудрые преступали предел, положенный людям, и уходили навеки в страну блаженных, берега которой омывали воды молочного океана.
Горы, отделяющие север и «белое» море от всех остальных земель, зовутся горами Меру, а величайшая из них – Мандарой. За горами Меру полгода длится день и полгода – ночь, там воды застывают, приобретая причудливые очертания, там, в небе над океаном сверкают радужные водяницы, и только птицы и великие мудрецы – «риши» знают дорогу в этот край. Так рассказывают о далекой северной стране, о древней прародине гимны Веды – древнейшего священного памятника индийцев. Странной, неожиданной сказкой, непонятно как родившейся в далекой жаркой Индии, звучал бы этот рассказ, если бы не жил он среди древнейших преданий и другой южной страны – Ирана.
В Авесте, священном памятнике иранских народов, в самой древней ее части Бундахишне, повествующей о сотворении мира, рассказывается и о далекой северной прародине иранцев – земле богов и предков, где с запада на восток протянулись хребты Высокой Хары – Хары Берёзайти с их главной вершиной горой Хукайрья. И над Высокой Харой также сверкают семь звезд Большой Медведицы и Полярная звезда, поставленная в центре мироздания. Отсюда с золотых вершин берут начало, все земные реки и величайшая из них – чистая река Ардви, ниспадающая с шумом в белопенное море Воурукаша. Над горами Высокой Хары вечно кружит Быстроконное солнце, и полгода длится здесь день, а полгода – ночь. Только смелые и сильные духом могут пройти эти горы и попасть в счастливую страну блаженных, омываемую водами белопенного океана.
Опять эти сказочные золотые горы, покрытые густыми лесами, где растет священное растение сома, или хаома, и с которых стекают в золотых руслах буйные реки. Откуда, как, когда узнали индийцы и иранцы о странах холода и снегах, замерзающих водах и северном сиянии? Когда и где смогли увидеть высоко над головой Полярную звезду? Эти вопросы задают себе ученые вот уже целое столетие.
В начале века появилась книга Бала Гангадхара Тилака «Арктическая родина в Ведах». Он считал, что предки индийцев обитали в Арктике, откуда в восьмои тысячелетии до нашей эры под влиянием наступающих холодов ушли на юг.
Споры о том, где же находилась прародина индийцев, в каком месте высятся священные горы Меру и Хара Берёзайти, не прекращаются. Сегодня уже большинство ученых пришло к выводу, что слагалась индоиранская общность в южнорусских степях в третьем – начале второго тысячелетия до нашей эры. Советский исследователь Горнунг предположил, что «колыбель индоиранского языкового и культурно-исторического единства» находилась в Среднем Поволжье. Ученые знают теперь, что древние арии были земледельцами и скотоводами, они сеяли хлеб, пасли скот и, расселяясь на все более широких пространствах, продвигались и на восток, и на запад, и на север, и на юг. И где-то именно на севере от их прародины должны были находиться те самые священные горы, которые воспевали гимны Авесты и Риг веды. Но где?
О великих северных горах писали и древнегреческие авторы, считавшие, что эти горы, названные ими Рипейскими, занимали весь север Европы и были северной границей Великой Скифии. О далеких Северных горах, протянувшихся с запада на восток, писал «отец истории» Геродот. Сомневаясь в невероятной, фантастической величине Рипейских гор, Аристотель, тем не менее, верил в их существование и был убежден, что именно с этих гор стекают все самые большие реки Европы, кроме Истра – Дуная. За Рипейскими горами, на севере Европы, помещали древнегреческие и древнеримские географы Великий Северный, или Скифский, океан.
Но где конкретно находятся Северные горы – этот вопрос остается открытым, и по сей день. Быть может, это хребты Урала воспели создатели древних арийских гимнов, как думают известные советские исследователи Бонгард-Левин и Грантовский?
Действительно, Уральские горы находятся на севере по отношению к Индии и Ирану, они богаты золотом и самоцветами и протянулись далеко к замерзающему северному морю.
Да только и Авеста, и Веда, и античные историки постоянно повторяют, что великие горы тянулись с запада на восток, делят землю на север и юг, а Урал – это граница запада и востока. И, наконец, не берут начало с Уральских гор ни Дон, ни Днепр, ни Волга, и священную реку Ардви, стекающую в «белопенный океан», трудно найти на отрогах Урала. Не разделяет он и «земные воды» на те, что текут к югу, и те, что устремились к северу. А ведь это отличительная черта и гор Меру, и Высокой Хары. Или перепутали древние арии в своих путешествиях восток и запад с севером и югом?
Маловероятно! Знали они географию для своего времени очень неплохо, а перепугать стороны восхода и заката солнца более чем сложно. А если ни певцы Вед, ни создатели Авесты, ни античные авторы не ошибались, и действительно существовали эти горы на севере Европы, протянувшиеся, как выгнутый в сторону юга лук, с запада на восток? И, вероятно, никуда они не делись.
И остается одно – чуть-чуть повнимательнее посмотреть на карту нашей Родины. Вот Черное, Азовское и Каспийское моря, выжженные солнцем
степи; сюда текут с севера великие реки – Днепр, Дон, Волга. А вот север европейской части страны. Холодные и неприветливые Белое и Баренцево моря, Ледовитый океан. Сюда текут с юга на север многие реки, и среди них могучая, полноводная Северная Двина, впадающая в Белое море. Огромная Восточно-Европейская равнина пестрит возвышенностями: Среднерусская, Валдайская, Приволжская. Среди них не сразу выделит глаз дугу, состоящую из гор Кольского полуострова, мелких возвышенностей запада Вологодской области. Северных Увалов и Северного Урала, протянувшуюся с запада на восток на три тысячи семьсот километров и действительно отделяющую от всей остальной территории Европы побережье Белого и Баренцева морей.
Частью этой огромной дуги, причем очень значительной, являются доходящие до Северного Урала и протянувшиеся на две тысячи километров с запада на восток Северные Увалы. Они не высоки. Конечно, не Памир, не Гималаи, но именно здесь находится водораздел рек Каспийского и Белого морей. Именно здесь, на Северных Увалах, начинают свой путь на юг Унжа и Ветлуга, Кама и Вятка – реки бассейна Великой Волги, и всего в нескольких километрах от них начинает свое стремительное движение на север, к Белому морю река Юг, которая, сливаясь с рекой Сухоной, образует Малую Северную Двину. Второй крупный водораздельный участок также вписывается в дугу Северорусских возвышенностей. Это район Белого озёра, где берут истоки многоводная Шексна, текущая на юг, а Онега и Сухона – к Белому морю.
Что же такое Северные Увалы? «Увал. В районе Белого моря,– как сказано в «Словаре народных географических терминов» Мурзаева,– крутое и высокое побережье реки, гористая гряда, сопровождающая долину».
На водораздельном участке Северных Увалов, где горы как бы рассекают реки на южные и северные, речные долины – это глубокие, до восьмидесяти метров и более каньоны с крутыми отвесными берегами. Река Сухона (часть малой Северной Двины) на участке от города Тотьмы до устья напоминает своей стремительностью горную реку, ведь падение ее здесь превышает пятьдесят метров, а в районе села Опоки высота берегов превышает восемдесят метров. У Сухоны здесь около ста тридцати притоков. Русла рек, текущих в районах Северных Увалов, как правило, выложены чистым оранжево-желтым слюдистым песком, а высокие обрывистые берега, окружающие их, – из оранжевого слюдистого песка, ярко-красной пластичной глины, красного грубозёрнистого и желтого песчаника. Как не родиться тут легендам о реках, текущих в «золотых» руслах, среди «золотых» гор!
Конечно, могут и возразить: «Как же так, ведь горы Меру и Хара Берёзайти – Великие, самые высокие в мире, выше неба и даже выше солнца?»
Наверное, это объясняется тем, что когда человек покидает родину, её образ – где самое яркое солнце, самые зеленые травы, самые чистые реки и
самые высокие горы – живет в легендах и песнях. Столетие за столетием все дальше на юго-восток уходили те из ариев. Они встретили на своем пути высочайшие горы мира, и образ Великих гор земли предков окрасился новыми красками. Высокая Хара и Меру, воспетые праотцами в своих священных гимнах, конечно же, не могли быть ниже Памира и Гималаев, они должны были быть самыми высокими в мире, выше солнца.
В гимнах Вед, и в Авесте вершины этих гор покрыты густыми лесами, где поют дивные птицы, где живут разные звери, где растет чудесная охмеляющая хаома-сома. Выходит, не так уж были высоки заросшие лесом, населенные зверем и птицей Меру и Высокая Хара.
А что же на Северных Увалах? На три четверти они покрыты лесами. И какими лесами! Здесь и ель, и пихта, и липа, и клен, и ильм, и вяз, и черемуха, и ольха, и берёза, и осина, и даже дубы. Это на 60-м градусе северной широты! Растут в этих местах различные кустарники: красная и черная смородина, шиповник, кизил, жимолость, калина и в изобилии – хмель. А на лесных лугах – пышное разнотравье. Еще в начале века эти места славились как богатые охотничьи угодья, обильные зверьем, птицей, рыбой. Но это летом.
Зимой же метёт пурга, завывает пронизывающий северо-восточный ветер, кружит, застилая все вокруг хлопьями снега, метель. Выходит, что унесли арии в свою новую жаркую родину память о беспощадном, смертельном северном ветре – Ваю, царящем на склонах гор Меру. Зато перед теми, кто, победив в схватке с ветрами и снегом, преодолевал эту горную преграду, открывались бескрайние просторы моря, причудливо застывшие воды, и сверкал в их честь, озаряя путь дальше, свет северного сияния.
Память живет в гимнах Веды и Авесты, в названиях сел и деревень Русского Севера. Вслушайтесь в них: Мандарово, Мундора – Мундорка и гора Мандара «Вед»; Харово, Харачево, Харапиха, Хархорино – Харионово и Высокая Хара «Авесты»; Рипино, Рипина и Рипейские горы древних греков. А еще Святогорье, Семигорье и множество сел и деревень с названиями Гора или Горка.
Ведь называют же жители Харовского района, где протянулась Харовская гряда, песок странным словом «хара». На санскрите (языке индоиранцев) хара – желтый, золотистый, оранжевый, красноватый, солнечный.
Однажды в Вологду приехали преподаватели русского языка из разных стран мира. И вот в залах музея, глядя на образцы вышивок и ткачества, выполненные северорусскими крестьянками, молодой индиец сказал удивленно: «Здесь для меня почти нет ничего нового.
Всё это я много раз видел у себя дома. Но это и потрясло меня больше всего. Объясните, как к вам могли попасть наши вышивки?»
Чудь
Одним из основных постулатов противников размещения древней прародины индоевропейцев на Русском Севере является предположение о его первоначальном финно-угорском населении. Указание на отсутствие такового в беломорском бассейне, встречают возражение в виде наличия в древности фино-угорского народа Чудь. Несмотря на многочисленные материалы сказаний о Чуди собранные за последние двести лет, этнографически этот вопрос не рассматривался, хотя материалы также давно найдены и опубликованы.
Священник Грандилевский, повествуя о родине Ломоносова, приводит легенды о святилище "чудского истукана бога Иомалли или Юмалы", известного по описаниям одинадцатого века, в связи с городом Бирмией, находившимся на берегах Двины и являвшимся торговым центром края. Легенда рассказывает, что на богатом кладбище в середине "стоял истукан бога Иомаллы или Юмаллы, сделанный весьма искусно из самого лучшего дерева: истукан был украшен золотом и драгоценными камнями… На голове Юмаллы блистала золотая корона с двенадцатью редкими камнями, ожерелье его ценилось в сто пятьдесят фунтов золота. На коленях его стояла золотая чаша, наполненная золотыми монетами, – чаша такой величины, что четыре человека могли напиться из нее досыта. Его одежда превосходила ценою груз самых богатейших кораблей." Исландский летописец Штурлезон, как отмечает Грандилевский, "описывает то же самое, упоминает чашу серебряную; ученый Кострен подтверждает изложенную повесть народными преданиями о сокровищах славного народа.
Одно из этих преданий, занесенных в памятную книгу Куростровской церкви, гласит: "Идол Юмалы был слит из серебра и прикреплен к самому большому дереву." Само имя Юмала, Иомалла или Ямал, удивительно близко к наименованию ведического бога смерти Ямы; в возможности таких параллелей убеждает нахождение идола на кладбище и то, что он был "прикреплен к самому большому дереву". Здесь, вероятно, уместно вспомнить слова одного из текстов Ригведы, а именно "Разговора мальчика с умершим отцом:
Где под деревом дивнолистным
пьет со всеми богами Яма
наш родитель начальник рода
там проходит дорогой предков
Мы же эту обитель Ямы
почитаем богов жилищем
в камышовую дудку дуя
украшаем хвалебным пеньем".
И коль скоро "капище Юмалы почиталось "богов жилищем", нет ничего удивительного в том, что "чудь, приходя молиться, жертвовала в
чашу серебро и золото" и что "ни денег, ни идола украсть было нельзя, потому что чудь крепко берегла своего бога, постоянно около него стояли часовые, а дабы они не пропустили каких, либо воров, около самого идола были проведены пружины, кто дотронется до идола, хотя одним пальцем, сейчас пружины заиграют, зазвенят разного рода колокольчиками и тут не уйдешь никуда".
Заметим, что чудь в преданиях о ней постоянно называется "белоглазой", что отнюдь не свидетельствует о классическом финно-угорском характере внешности, а напротив подчеркивает специфическую, присущую северным европеоидам исключительную светлоглазость.
Грандилевский отмечает, что в памятной книге Куростровской церкви пишется: "Еще в недавнее время ельник этот был предметом многих суеверий, мимо ельника, особенно в ночное время, боялись проезжать и проходить, а раскольники считали его священною рощею и до тысяча восемсот сорокового года хоронили туда покойников". Таким образом, ельник считался священным у староверов, что вообще не свойственно специфически финно-угорским святилищам.
Надо сказать, что Грандилевский, делает следующий вывод: "В культурном отношении древняя Заволоцкая чудь, когда сделалась уже исторически известною, едва ли много отличалась от киевских или новгородских славян, едва ли она могла быть в разряде полудикарей, в строжайшем смысле этого слова, потому что ея развитие далеко опередило всех остальных соплеменников… жила оседло, имея столицу… крепостные пригороды, погосты и большие поселения… свой религиозный ритуал… имела князей, для защиты от врагов возводила довольно хорошие городски или крепостные насыпи… с доисторического еще времени имела очень широкую торговлю со скандинавами, англо-саксами, со всеми чудскими и финскими народами. Уже Штурлезон, испанский летописец писал о сказочных богатствах Юмаллы, норвежцы интересовались даже земледелием, привившимся в быте Заволоцкой Чуди, и говорили о нем, как предмете, стоившем особого внимания. Двинское Заволочъе составляло центр общего внимания и было оно таковым исключительно по первую четверть одинадцатого века".
Грандилевский выводит из "чудского самородного говора" такие названия как Двина, Печора, Холмогоры, Ранула, Курья, Куростров, Нальостров. Но сегодня мы знаем, что такие гидронимы как Двина и Печора – индоевропейского происхождения; Ракула – находит параллели в санскрите, где – Ра – обладающий, способствующий, a кула – стадо, род, множество, знатная семья, союз, хозяйство, дом. Что же касается Курьи, Кур-острова и Наль-острова, то их наименования, близки именам предков "северных Куру" "Махабхараты" – Наля и Куру.
Здесь имеет смысл привести текст Грандилевского, восхищенно описывавшего эти края: "И вот, говорит одно предание, в ту область, где
теперь город Холмогоры и его предместья, пришел полудикий человек чудин именем Кур, с ним его мать, и, вероятно, жена да кое-кто из своих родных иль соплеменников. Очень понравилась пришельцам восхитительная местность будущих Холмогор; все здесь было как нельзя лучше для них. Целая сеть проливов из Двины и в Двину, чудные высокие сухие боры на холмах с открытыми видами на окрестности, множество озёр, великолепнейшие еловые рощи и непроходимые дебри чернолесья, мрачные лесистые овраги, травянистые острова доставляли удобнейшие места и для звериной охоты, и для ловли рыбы, и для охоты на птиц, и для мирного домашнего дела, и для защиты от врага. Тут и летом и зимою водный простор открывал прекрасные пути куда угодно; словом, чего бы не пожелал себе полудикий сын природы для него везде открывались готовые запасы. Сюда забегали громадные стада диких лосей и оленей; здесь постоянно жили медведи, волки, лисицы, хорьки, куницы, горностаи, песцы, рыси, росомахи, белки, зайцы, в несчетном множестве; отсюда не выводились утки, гуси, лебеди, рябы, тетерева, журавли, куропатки; реки и озёра кишели рыбою; грибов и ягод родилось необъятное множество. В глубоких ложбинах могли быть естественные и удобные загоны для ловли зверей, для травли лосей и оленей. В бесчисленных озёрных водоемах, в проливах и заливчиках имелись великолепнейшие места для ловли рыбы плетнями, вершами и просто для глушения чем попало, а ловля водяной или лесной птицы силками сама собою напрашивалась в руки какому угодно дикарю, как легчайшее занятие. Не ужаснулся смелый Кур своего одиночества; ему так понравилась новая местность, что решился навсегда остаться тут, не приглашая к себе никого, кроме немногих своих спутников. И вот он занял высокий круглый холм в излучине двинского пролива, который с той поры вместе с холмом получил его имя. Кур жил с матерью и прочими, пока не выросла его собственная семья; тогда дети остались при отце, а их бабка и те, кто с ним пришли ранее, переселились к западу на высокие холмы за рекою Быстрокуркою, чем предание народное объясняет происхождение Матигорской области. Благодаря особым жизненным удобствам, и более тому, что здесь чудское племя никогда не подвергалось истреблению, как случалось в соседних областях, никогда оно отсюда никем не было вытесняемо, не вело войн, держалось оседлой трудовой жизни,– будущий Холмогорский округ быстро заполнялся населением, которое разрослось в целый независимый могучий полудикий народ – Чудь Заволоцкую".











