Читать онлайн Славный путь к поражению
- Автор: А. Петров
- Жанр: Современная русская литература, Историческая литература
Размер шрифта: 15
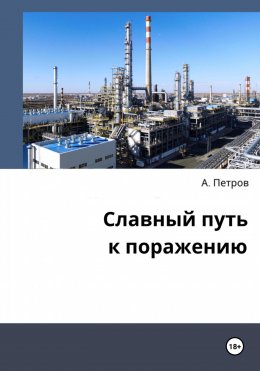
Чтение книги временно недоступно
Продолжить чтение
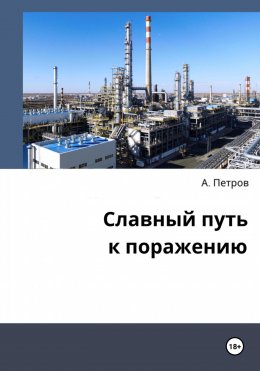
Чтение книги временно недоступно