Читать онлайн Подробности гражданской войны
- Автор: Пётр Ореховский
- Жанр: Современная русская литература
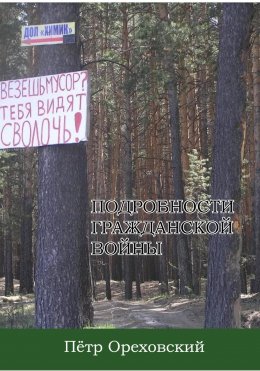
ЮБИЛЕЙ 1905
Сто лет сплошных революций, войн – и ты во всём этом. И Запад, и Восток перепугали – поляков, прибалтов и чехов до сих пор трясёт. Ханжи. Дзержинский один стоил всей армии Крайовой и отряда латышских стрелков в придачу. Отряд латышских стрелков стоил всего корпуса белочехов, забывших присягу, данную Колчаку. А этот корпус стоил всей чешской армии образца 1938 года.
И что? Никого не отдадим обратно, все наши, русские, включая любимого солдата Швейка, творения заместителя коменданта взятого красными сибирского города. Даже Сталин с Троцким наши – и не смей от них отказываться; даже Гудериана выучили себе на голову в Казани. Или это он тебя выучил себе на голову, русский татарин? Теперь уже неважно.
Умеешь ли ты прощать? Не тех, кто приписал тебе все 777 смертных грехов, пусть их. Но сможешь ли ты забыть и простить себе эти сто лет или, как и предсказано, будешь каяться до тех пор, пока окончательно не расшибёшь себе лоб в соборах, мечетях, синагогах и дацанах? И сможешь ли потом не проклясть тех, кто вновь научил тебя молиться?
А куда девать тех, кто и не хочет слышать ни о каком прошлом и живёт между большой дорогой и тёмным переулком? Уж не ты ли помогал им размножаться, говоря о праве на бесплатные хлеб, водку и женщину, не так ли ты понимал гуманизм? И не нужно ли тебе теперь двенадцать тел новых апостолов, готовых защитить твои кости и органы, чтобы имел ты возможность учить других молиться новым старым богам? Может, всё-таки стоит на какое-то время позаимствовать меч у Христа, иначе зачем, по-твоему, Он нёс его сюда?
«Человек – животное, имеющее наглость обещать». Те, наверху, обещали все сто лет, ты помнишь это? Они научили обещать и других, сколько их теперь, и никому не стыдно. Да и то – стыдно ведь того, что ты считал себя лучше, а получилось хуже; а если ты уж и так хуже некуда – чего уж тут стыдиться? Юродивые и есть блаженные – и все вместе счастливые: им не стыдно. Тут уж и прощать нечего: живые, а сраму не имут. Кажется им, что любит их Бог, и блажат они с трибун, а кто теперь уже и в храмах… Не жди, им каяться не в чем – и тебе невозможно их простить; да и не попросят они у тебя прощения.
Осмотрись – кругом сплошные победители. Одни формируют очередной новый порядок, другие обретают старую фундаментальную религию, третьи всё ещё празднуют торжество своей победы быть свободными на счёт других… Лишь у тебя за плечами сто лет поисков своей правды. Ты тоже всё время побеждал, а истина открывается в поражении. И остаётся только победить себя, чтобы понять.
Осталось ли у тебя ещё время?
Кто говорит о времени, когда ты ищешь правды в себе?
Мои руки пусты – не мне бросать в тебя камни; хотя очередь первых давно прошла, но следующие за ними никак не могут остановиться. И я буду жить с ними, с русскими великими убийцами и святыми, потому что это – и моё тоже.
СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ
1.
Сидорову, заместителю начальника департамента экономики N-ской области, сказали, что губернатор Евгений Геннадьевич Пуделькин, будучи на охоте, убил егеря. Сидоров был потрясён и, несмотря на строжайший запрет источника передавать эту новость дальше, рассказал об этом случае Ивановскому, владельцу городского ЦУМа, и Петровскому, начальнику областного управления ГосНИ. Через месяц известие о том, что Пуделькин убил егеря, знала половина города и треть имеющего высшее образование населения области.
Все отчего-то ждали, знающе подмигивая друг другу, что об этом вот-вот напишет свободолюбивая демократическая или не менее любящая свободу и Родину коммунистическая региональная пресса. В конце концов, все местные журналисты так или иначе ходили в друзьях у половины города и трети образованного населения области. Как-то предполагалось, что отчаянные папарацци, конечно же, вытащат на свет неприглядную историю о том, как Пуделькин начал гулять на новогодние праздники, обмывая заодно первые сто дней своего губернаторства, а в контрапункте изложения расскажут о далёкой деревне, где жил несчастный егерь, получавший за свою нелёгкую и опасную работу едва ли больше шестидесяти долларов в месяц, и как роковым образом пересеклись пути этих представителей элиты и народа. Но местная пресса словно воды в рот набрала. "Ну что там, продвигается журналистское расследование?" – спрашивали, бывало, акул пера мещане и обыватели. "Какое расследование?" – совершенно искренне в ответ удивлялись разгребатели грязи. "Про случай на нашей местной царской охоте", – продолжали вопрошать нетерпеливые доброжелатели свободной прессы. "Трудно идёт, никаких фактов, одни слухи. Официальные лица отказываются давать какие-либо сведения по данному вопросу, а охотхозяйство, сами знаете, у чёрта на куличках…" – "Так вы что, туда и не ездили?" – "Нет, не ездили. А чего там найдёшь? Мы вот только в областном УВД интересовались… Да и времени нет. Может, в будущем месяце…" И туземцы области N понимающе кивали головами и отставали от представителей местных медийных структур, продолжавших по два раза в день демонстрировать уважаемого Евгения Геннадьевича в самых положительных видах: вот он выделяет деньги на ремонт областного роддома, вот он сидит за рулём катка, разравнивающего щебень под дорожное полотно, всем своим видом показывая, что наступил окончательный конец дуракам и плохим дорогам… "Всё сам, везде сам…" – шептала растроганная вторая половина города и оставшиеся в неведении относительно случая на охоте две другие трети образованного населения области. И жизнь продолжалась.
Отдельные личности, тем не менее, ждали публикации не в местных, а в центральных газетах. Сидоров просто точно знал, что об этом должна была написать злобная оппозиционная газета эмигрировавшего олигарха. Более того, о случившемся должны были показать едкий телерепортаж по московскому каналу, который тоже отличался своей неподвластностью цензуре и свободолюбием. Сидоров был сам источником утечки в эти средства массовой коммуникации. Но и опять-таки ничего не произошло, ни одна собака не сбрехнула, ни одна кошка не мявкнула.
2.
Сидоров, которого за компетентность, возраст и безотказность в работе пригласили из городской администрации в областную, страдал. В области окончательно решили его жилищный вопрос – до этого, разведясь с женой, он жил в казённом жилье на правах субаренды, а тут ему дали нормальную смежную двухкомнатную в хрущевском доме и даже позволили её приватизировать. Не то чтобы его мучило наличие идеалов, вошедших в противоречие с действительностью. За двенадцать лет работы в муниципалитетах и на госслужбе Сидоров эволюционировал, по собственному мнению, от романтика до циника. Скорее он мучился из-за подозрения на наличие у себя рудиментов идеалов. "С чего ты решил, что случай с егерем должен быть интересен прессе? – спрашивал он сам себя. – И почему тебе было важно, чтобы об этом случае все узнали?" Сидоров не находил ответа на свои вопросы и не мог понять мотивов, которыми он руководствовался, разговаривая с журналистами.
Когда-то он, как и все, был скрытым диссидентом, что проявлялось в прослушивании записей Галича и Высоцкого, чтении и распространении самиздата. Последнее заключалось в распечатке на АЦПУ машин типа ЕС 1050 "Доктора Живаго", "Ракового корпуса", стихов Гумилёва и Цветаевой. В конце восьмидесятых он даже побывал городским депутатом, но, вместо того чтобы заняться, как и остальная тогдашняя совесть нации, бизнесом, перешёл на работу в исполнительную власть.
Он участвовал в коммерциализации и последующей приватизации торговли и бытового обслуживания, нескончаемой реформе ЖКХ – рассчитывал тарифы, в переходе российского здравоохранения на страховые рельсы, а потом обратно, на рельсы бюджетные… Он готовил цифры, в соответствии с которыми часть граждан попадала в категорию малоимущих и получала социальные льготы, а другие категории населения – нет. Во многих важных и противоречивых процессах нашего времени участвовал Сидоров, избавляясь от вредных моральных иллюзий сам и избавляя от них других. Теперь же какая-то мелочь, пустячок нарушал гармонию его сознания. "В 1992-1993 годах Ивановский у нас работал начальником областного управления торговли, так его чуть не посадили за управление автомобилем в нетрезвом виде. Остановили машину в два часа ночи во дворе его дома и прямо там провели освидетельствование. И сразу статьи в газетах… Полоскали бы ещё потом сколько, если бы он не ушёл по-тихому. Ему это даже на пользу пошло – теперь вот богатый человек. Сейчас же – человека убить – и ничего? Хотя, может, врут всё? и не было никакого егеря? но зачем тогда эта клевета появилась? Ведь никакой цели специальной у неё нет, до выборов ещё почти три года", – мучился бедный Сидоров, занимаясь, как это часто бывает с исчезающими ныне интеллигентами, обдумыванием того, что его абсолютно не касалось.
Постепенно разговоры о злодеянии Пуделькина, и без того довольно квёлые, совсем заглохли. Губернатор как-то сумел никого не обидеть: весь костяк старого бюрократического аппарата остался на месте и, как и прежде, эффективно решал вопросы.
Сидоров когда-то не понимал, в чём состоит разница между работой и решением вопросов. За разъяснением он тогдашний, недавно пришедший в исполнительную власть, обратился к Петровскому. Они вместе работали в городской администрации – Петровский возглавлял финансовый отдел, откуда потом и ушёл в начальники налоговой инспекции. С Сидоровым же они сочиняли первое бюджетное послание мэра городскому Совету, поскольку Сидоров совсем недавно перестал быть депутатом и поэтому ещё представлял, чего примерно ждут от документа с названием "бюджетное послание" городские избранники.
– Почему в системе говорят о хорошем чиновнике: не "он умеет работать", а "он умеет решать вопросы"? – спросил у Петровского Сидоров. – Это как табу на слово "взятка", говорят только, что "нужно уметь договариваться"?
– Ты полегче, полегче с такими выражениями, – отвечал Сидорову Петровский. – Уметь договариваться – это вообще политика. Скажем, у тебя в доме крыша течёт или там дорога разбита, подъехать к подъезду невозможно. Когда ещё у жилищников до твоего двора и дома руки дойдут. Но у начальника ЖКУ, скажем, дочь хочет поступить в наш университет. Так помоги ей – ты же с ректором на короткой ноге – в чём проблема? А тебе ремонт вне очереди сделают. При чём тут взятка? Во все советские времена, сколько помню, так и было, никаких взяток, только взаимные услуги.
– С умением же вопросы порешать – это из другой оперы, – продолжал Петровский. – Раньше вопросы у нас партия ставила, и она же решала. Теперь партии нет. Теперь у нас государство российское, и все партийные деятели – тоже государственные. Чем-то им же заниматься надо? Вот они и занимаются: половина из них придумывает правила, в соответствии с которыми наши люди должны жить. Однако по большей части этих правил жить нельзя, по ним можно только умирать. Часть россиян так и поступает. У той же части, которая пытается выживать, возникает естественный вопрос: а как? С этим вопросом они приходят к нам, то есть – ко второй части чиновников. Мы решаем их вопросы, изготавливая бумаги, которые и послужат человеку необходимой защитой.
– Сложно как… – поразился тогдашний Сидоров величественной картине самозанятости государственного населения. – Это же сколько народу надо: и правила придумывать, и сразу же встречные бумаги готовить…
– А ты думал. Бюрократы в скорости размножения уступают только кроликам. За нами не успевает размножаться ни один народ. Оттого и случаются реформы и революции, потому что, если бы не этот фактор, за десять лет все бы уже превратились в госслужащих, и налоги бы платить стало некому.
– Твои взгляды на исторический процесс мне понятны. Но что же такое тогда работа? – не отставал от сути проблемы Сидоров.
– Работа чиновника, ты имеешь в виду?
– Да. Только не говори, что работа чиновника – решать вопросы.
– Но без этого не обойтись. Только здесь есть разница: есть вопросы, которые придумали другие чиновники, а есть вопросы, которые ставит жизнь. Скажем, в твоём доме крышу можно отремонтировать, но найти деньги и организовать ремонт крыш во всём городе – это уже очень большая работа. За редкими исключениями, ни один чиновник такую работу сделать не способен. Аналогично – вылечить одного человека можно. А вот найти деньги, чтобы качественно лечить всех, учить всех или там охранять от хулиганов…
– Ты, Петровский, пессимист. Или даже вот что, ты – циник, – поморщился тогдашний Сидоров.
– Как и положено финансисту, – согласился Петровский. – Погоди, проработаешь у нас два-три года, сам таким станешь.
И сегодняшний Сидоров таким стал. И теперь уже не мог понять, отчего ему так неуютно из-за каких-то охотничьих глупостей, которых и вообще-то, может быть, и не было. Или даже было. Или – не было…
3.
В сезон летних отпусков численность областных чиновников сокращалась на треть, но вопросы решались с прежней скоростью. Сидоров уже давно не ходил летом в отпуск: предполагалось, что разведённому мужчине, который вдобавок должен быть крайне благодарен начальству за то, что его из города перевели в область, отпуск летом не нужен. В результате Сидоров смог непосредственно наблюдать появление в областной администрации загадочного человека из Петербурга, которого Пуделькин назначил своим первым заместителем.
Звали первого вице Волков, и рядом с Пуделькиным он смотрелся соответственно буквальному значению этих фамилий. Он курировал вопросы промышленности, строительства, местного самоуправления, экономики и финансов. В связи с вхождением в должность он сразу стал ездить по области, знакомясь с местным цветом общества. Пуделькин делал вид, что поездки Волкова его не трогают, хотя было очевидно, что его заместитель начинает постепенно набирать политический вес.
Сидоров, которого замучили вопросами о новом начальнике отслеживавшие всё происходящее в коридорах власти Петровский и Ивановский, недоумевал и ничего не мог им ответить. Похоже, что Пуделькин вовсе не дружил с Волковым, хотя внешне губернатор относился к своему питерскому выдвиженцу подчёркнуто корректно. С какой стати Пуделькин назначил Волкова на эту должность и кто стоит за этим решением, чиновничьему люду было абсолютно непонятно. Пресса по-прежнему демонстрировала разные ракурсы простёршего над областью отеческие крыла губернатора, о поездках и делах Волкова писали мало, хотя и позитивно. Сидоров тоже немало размышлял на эту тему, потом закономерно решил, что это – не его ума дело, и пошёл в отпуск. На дворе стоял октябрь, работники его департамента, включая непосредственного начальника, уже были на месте. Справедливо рассудив, что отдохнуть, оставаясь в городе, ему не удастся, Сидоров сагитировал одну из своих знакомых разведенных подруг посмотреть на неведомую и дешёвую страну Тунис, а на обратном пути из Москвы решил заехать к парочке друзей. И все мысли о превратностях государственной службы сразу же вылетели из его головы.
Выйдя из отпуска, Сидоров, к своему удивлению, узнал, что Волков уже два раза справлялся о нём. Мысль о том, что его могут уволить, после отпуска Сидорову была даже приятна. В весьма благодушном настроении, готовый к превратностям судьбы, он явился в высокопоставленный кабинет.
– Нам нужна стратегия, Сидоров, – схватил быка за рога Волков.
– Что вы имеете в виду? – осторожно спросил Сидоров. – Стратегический план социально-экономического развития области департаментом сделан давно, при новом губернаторе он уже один раз уточнялся.
– Это не стратегия. Она не отвечает на вопли нашего времени, не учитывает невозможности прежнего развития событий. В ней нет сценариев, она предполагает только один вариант, по которому на бюджетные деньги, которых нет, осуществляются мероприятия, ценность каждого из которых вызывает сомнения. В общем, нам нужен другой документ.
– Хорошо, – взял под козырёк слегка обалдевший от стиля общения вице-губернатора службист Сидоров.
Волков посмотрел на него, помолчал и добавил:
– Сейчас я занят. Подойдите ко мне в 18.30, продолжим разговор.
Беседа, точнее выдача указаний Сидорову, продолжилась, однако не в кабинете Волкова, а в ресторане, куда последний повёз своего подчинённого. Волков говорил о многом, и Сидоров со многим соглашался. Вдобавок вице-губернатор сразу же придал совсем другую тональность их отношениям, заявив, что в ресторане им разговаривать удобней, поскольку бережёного бог бережёт. Его кабинет то ли прослушивается, то ли нет. То ли тем, на кого он думает, то ли нет. В общем, ничего не было понятно, но Сидорову явно выказывалось большое личное доверие. Несмотря на это, Сидоров не забыл о субординации и напомнил Волкову, что он всего лишь заместитель начальника департамента экономики. А поэтому: не будет ли противоречить волковское поручение мнению непосредственного сидоровского начальника? Волков поморщился и сказал, что это он берёт на себя.
В конце недели Ивановский, Петровский и Сидоров пили пиво и играли в преферанс. Обычно такое времяпрепровождение имело место у них раз в месяц, но иногда, по настроению, они собирались и чаще. Сидоров рассказал им о своём коротком знакомстве с Волковым и полученном от него поручении.
– Он тебя вербует, – сказал коммерсант Ивановский.
– Это как бы очевидно, – ответил Сидоров. – Ещё бы понять, куда?
– В свою команду, – заметил мудрый Петровский. – Сдаётся мне, что Волков прислан сюда Кремлём. Пуделькина-то постепенно переведут на какую-нибудь третьестепенную должность в каком-нибудь столичном министерстве. А Волкова назначат вместо него, а потом он должен будет выиграть выборы. Документ про стратегию – это для него как ориентир на предвыборную программу. И это всё – результат зимнего случая на охоте. Теперь Пуделькин вынужден соглашаться со всем, что ему скажут. Логично?
– Логично, – сказал Сидоров. – Вполне параноидально, шизофренично и в духе пикейных жилетов: кроме Кремля не хватает только ещё Вашингтона. А так – логично, да.
4.
Задание Волкова пришлось Сидорову по вкусу. Про себя он подумал, что уже давно не работал с толком и смыслом, а только и занимался, что решением текущих вопросов. Теперь же он честно пытался понять, почему уже несколько лет область считается депрессивным регионом и получает дотации из Центра, и что же такого нужно изменить, чтобы население жило лучше.
Основная часть горожан, живших в N-ской области, когда-то занималась машиностроением. Теперь большинство заводов лежало на боку, впав в спячку и время от времени переворачиваясь с одного бока на другой, что было связано с приходом очередных новых собственников, начинавших крутить предприятия так и сяк в поисках ещё неободранных активов. Кое-как развивалась переработка сельхозпродукции, но и здесь Сидоров наблюдал странные тенденции: количество частных пекарен росло, а хлеба, по статистике, они выпекали и продавали всё меньше. А две тысячи предприятий платили своим работникам зарплату по пятьсот рублей в месяц – яркое свидетельство того, что все расчёты в них осуществляются мимо кассы. Налогов эти предприятия не платили и платить, очевидно, не собирались. Победные реляции Пуделькина по телевидению об экономическом росте и всеобщем процветании никак не вязались с действительностью; Сидоров об этом знал лучше других. Хотя бы потому, что он сам и готовил губернаторские доклады, манипулируя цифрами в добрых старых традициях "больших успехов на фоне отдельных недостатков".
Но у этой картины была и другая сторона. Количество личного автотранспорта по сравнению с довоенным 1991 годом выросло в десять раз. В областном центре наблюдался строительный бум, причём цена одного нового квадратного метра жилплощади составляла пятьсот долларов. Росло и количество дорогих магазинов, хотя подкопчённая сёмга, палтус и мясные деликатесы расходились в них пока ещё плохо: Сидоров сам нарвался как-то на товар "с душком", правда, узнав, кто он такой, ему сразу же и без препирательств заменили испорченные изделия на свежайшие.
В этой другой стороне картины, начиная от широких народных масс и кончая владельцами заводов и пароходов, все были довольны сложившимся положением. Иногда в каком-нибудь СМИ появлялась критика отдельных недостатков и принимались меры: либо недостатки устранялись, либо в этом СМИ больше не появлялось упоминания этих недостатков. "Воруют, – думал Сидоров, забыв про Карамзина, – все воруют. Простой народ ворует по-маленькому, срезая провода и выламывая распределительные коробки у лифтов, люди побогаче и возможности воровать имеют больше. Все об этом знают, и все об этом молчат. Социальный консенсус. Какая тут ещё может быть, к чёрту, стратегия?".
Главным же в этой картине было место наблюдателя. Когда-то Сидоров думал про себя, что он – плоть от плоти народной, и поэтому считал, что живёт плохо, а обманывать государство приходится по мелочи; и если бы не воровали большие коммунистические жулики, то и жизнь бы его наладилась, и врать ему, тогдашнему простому интеллигенту, больше бы не пришлось. Теперь он смотрел на жизнь объективно и понимал, что с российским менталитетом каши не сваришь, и как бы ни заботились о нём новые демократические власти, окончательно победившие в борьбе с коммунистическими привилегиями, тёмные народные массы будут откручивать гайки, ломать заборы, бить торшерные уличные фонари и тащить всё что плохо лежит. Крупный же бизнес просто вынужден как-то защищаться от властей и многочисленных бригадных Стенек Разиных, норовящих окончательно избавиться от остатков социализма, произведя доламывание электрификации российской страны.
И всё же вороватое, хамоватое, ленивое и глупое население интеллигенту Сидорову было жалко. И, думая над стратегией для Волкова, он ставил по старой привычке в качестве цели старый идеал роста общественного благосостояния. И, несмотря на весь свой жизненный опыт, он так и не додумался до простого вопроса – а кто, собственно, кроме него, Сидорова, конкретно и лично, "чисто конкретно", а не вообще, заинтересован в том, чтобы эта цель достигалась.
Но определённые сомнения у Сидорова всё-таки возникали, но не в цели, а в методах. Уже все средства вроде бы перепробовали, а население никак не хотело размножаться и жить лучше. Что-то в корне оказывалось не так.
Действительно, как-то всё оказывалось совсем непросто с жизнью в области N.
– Надо всем прекратить воровать, – заявил вдруг Сидоров во время очередного преферанса. – Начать платить налоги и зарплату как положено, и всё станет гораздо лучше.
– Ага, нам это только давай, – легкомысленно согласился раздумывавший над мизером с дыркой Петровский.
– То есть как это прекратить воровать? – заволновался Ивановский. – А жить тогда как?
– Да это я всё о стратегии. Если определиться по основным предприятиям и добиться, чтобы они нормально платили налоги, избегая векселей, провести регламентацию деятельности и сделать прозрачной работу госаппарата…
– Успокойся, Ивановский, – сказал Петровский. – Не видишь, у человека разыгралось воображение. Ему скоро очередной текст начальству предъявлять предстоит, вот он и проверяет на нас будущую реакцию. Плохая, как видишь, реакция, Сидоров. Подумай ещё. Я даже тебе подскажу: можно что-нибудь про войну с олигархами. Это как у Ивана Грозного – разборки с боярами. Народ поддержит, мысли конструктивно.
Совещание у Волкова показало Сидорову, что Петровский подсказал ему правильно. Сосредоточивать усилия надо было не на борьбе с воровством и бедностью, порождавшим одно другое, что, впрочем, Сидоров как-то не хотел замечать, а на анализе сложившегося в области N олигархического и антиолигархического баланса сил. Вице-губернатору требовались варианты поведения власти в отношениях с основными хозяйственными региональными структурами – их слабые и сильные места. Особо его интересовало, кто в областной администрации непосредственно связан с теми или иными корпорациями. Сидоров окончательно убедился, что готовится план предвыборной кампании, причём рекогносцировка местности, определение врагов и союзников ведутся Волковым весьма тщательно. Работать Сидорову стало интересно, и он даже заразил своим энтузиазмом часть своих сотрудников.
В тот же месяц ему выплатили премию в размере двух окладов.
5.
Прошло почти три года губернаторства Пуделькина, под руководством которого область N добилась очередных успехов в достижении всеобщего процветания. Надвигался предвыборный год. За это время Сидоров подготовил для Волкова шесть докладов с оценкой различных вариантов действий областной администрации в отношении капитанов регионального бизнеса и оценкой последствий этих действий. К удивлению Сидорова, привыкшего к тому, что доклады и рекомендации департамента экономики используются только для справки, часть из этих рекомендаций была реализована, причём реализация решений шла под эгидой губернатора, а не его заместителя. Авторитет Сидорова среди работников областной администрации существенно вырос, и как-то однажды он с удивлением обнаружил, что цели команды Пуделькина ощущаются им, Сидоровым, как его личные. Как-то постепенно, незаметно формальная благодарность областным структурам за решение его жилищного вопроса превратилась у Сидорова в настоящую собачью верность.
Но в отношениях с самим Евгением Геннадьевичем у Сидорова сохранялась дистанция и, по мнению многих, это препятствовало его карьере: Сидоров никак не мог выбраться из замов. Сам он особо не задумывался над этим, что мешало его карьере гораздо сильнее.
Личная жизнь Сидорова тоже стала налаживаться. С приходом в администрацию Волкова его зарплата существенно выросла. Кроме того, ему удалось решить один вопрос для Ивановского, который был озабочен расширением своего торгового бизнеса. Сидоров помог ему приобрести несколько магазинов в городах области, за что Ивановский выделил Сидорову пай в своём деле. Пай этот приносил приличные доходы, так что Сидоров и Ивановский были вполне довольны друг другом. Наконец, Сидоров одновременно водил знакомство сразу с четырьмя серьёзными женщинами, не говоря уже о появлявшихся на короткий срок в его жизни легкомысленных девушках, так что этот период его жизни заполнился ощущениями до отказа. Для мыслей времени уже не оставалось. Сидоров чувствовал, что он живёт правильно. Действительность – это то, что дано нам в ощущениях, и, если ощущения гармоничны и приятны, не значит ли это, что человек живёт в мире с собой и окружающей средой?
Положение обязывает. Держатель пая бизнеса Ивановского Сидоров был заинтересован в росте этого бизнеса, поэтому он периодически хлопотал за Ивановского в коридорах региональной власти. На этот раз проблема была в получении землеотвода, который вклинивался в городской парк. И вроде бы согласования все были получены, однако землеотвод ушёл к татарину по фамилии Мусин.
Когда Сидоров, узнавший об этом, зашёл к Ивановскому выразить своё сочувствие, тот был выпивши и сильно ругал все тюркские народы. Сидоров, немного посидев и сказав сакраментальное: "Земли в России много, найдёшь в другом месте, не хуже", – собрался было уходить. Но тут злобный Ивановский понёс такое, что Сидоров задержался… а лучше бы ему было не задерживаться.
– Я же ему миллион рублей дал в своё время на предвыборную кампанию. И что теперь? второй раз уже кидают…
– Денег-то дал на кампанию – губернатору? – наугад спросил Сидоров.
– Конечно, кому же ещё. Из-за этого старого дурацкого случая его татары и взяли на крючок. Теперь ещё и доплачивают, чтобы он с него не сошёл. И что ты думаешь, я один такой? Ему же много наших деньги давали. А он чуть что – татарам идёт навстречу, а нас обламывает. Чем дальше, тем больше… с ним невозможно никаких дел иметь.
– Старый случай на охоте ты имеешь в виду?
– Да, с егерем.
– Так что, это всё на самом деле было?
– Было, было… только ты-то какого рожна стал об этом звонить? Насилу мы с Петровским тебя перед ним отстояли: ему же сразу сказали, что в область столичная пресса собирается по твоей наводке.
– Перед Пуделькиным?
– Да, да. Ну вот, вижу, доходит. Какой же ты всё-таки тормоз, Сидоров. Неужели до сих пор не понял, что, если в приход человека к власти столько денег вложено, люди будут свои деньги защищать? Журналисты же тоже есть-пить хотят.
– Но убийство…
– Не было никакого убийства. Был несчастный случай. Машины сбивают пешеходов, с крыш на голову падают сосульки, люди оступаются и падают в открытые канализационные люки. И всё на этом.
Они выпили, посидели ещё. Сидорову было неприятно, но уйти сразу не получилось. В результате он напился, машина доставила его домой уже за полночь, и на следующий день Сидоров ушёл с работы пораньше, отсыпаться. Когда он начинал свою карьеру чиновника, такой ранний уход с работы был для него из области фантастики.
6.
Неприятный разговор с Ивановским заставил Сидорова поразмышлять о прошлом и оценить свои новые ценности. Он задумался… и в результате несколько засомневался в себе. Так ли уж всё хорошо у него устроено? Не получается ли так, что он, такой хороший Сидоров, работает рука об руку с различными ворами и негодяями?
Сам этот вопрос, внезапно возникший в его голове на сорок пятом году жизни, свидетельствовал о глубине душевного расстройства. Но всё обошлось: Сидоров быстро объяснил себе, что он-то никого не сбивал автомобилем и даже окурков не кидал в форточку. Доход свой он имеет благодаря исключительно собственным трудовым усилиям, и окружают его милые и симпатичные люди, пока прокурор не докажет в суде обратное. Потом, они вместе работают на великую цель процветания области, которая облагораживает каждого, причастного к общему делу. Сидоров успокоился и постарался сделать из слов Ивановского правильный вывод: не надо болтать что попало кому попало. На то она и свобода слова, чтобы держать язык за зубами.
Неожиданно его пригласил поужинать в ресторан первый вице-губернатор. От него Сидоров узнал о грядущих переменах: Волков уходил на повышение, в федеральный округ. Он уже начал сдавать дела… Сидоров почувствовал неопределённую грусть и понял, что почва под ним заколебалась. Тут Волков внимательно посмотрел на него и спросил:
– А вы, Сидоров, не хотели бы повысить свой служебный статус?
– Возможно, – словно ощупью по скользким камням в речке, осторожно ответил Сидоров, в душе надеясь на место начальника департамента экономики и благоприятные перемены в мнении губернатора о нём, Сидорове. Но Волков сказал совсем уж не ожидаемую Сидоровым фразу:
– Я бы мог похлопотать о вашем переводе в округ. Для этого вам нужно собрать документы, пройти собеседования… Гарантировать я ничего не могу. Но в области, как мне кажется, перспектив для вашего служебного роста нет.
"Ещё бы, – с грустью подумал про себя Сидоров. – Какие уж тут перспективы…" Но вслух сказал:
– Что же будет теперь со стратегией… Я думал, вы на выборы губернатора пойдёте.
Волков помолчал и после паузы ответил:
– Было такое мнение, что мне нужно идти на выборы. Но Евгений Геннадьевич вполне справляется с областью. Эти годы показали, что он грамотный руководитель. К тому же он хорошо умеет договариваться. Воспринимает аргументы собеседника.
– Простите, – неожиданно для себя сказал Сидоров, – но в начале его губернаторской деятельности у нас был тут один несчастный случай…
– Да, я слышал. Погиб один запойный пьяница, оставил после себя жену и двоих детей. Государство о них позаботилось: получили квартиру в городе. Она сейчас уже вышла замуж. Так что для них это оказался счастливый лотерейный билет, – сказал Волков и опять внимательно посмотрел на Сидорова.
– Вы хотите сказать, что там, наверху, это всё было известно? – отчего-то понизив голос, спросил Сидоров.
– Кому положено, тому и было известно. Мне вот известно, что вы женщинами увлекаетесь.
– Это не я ими увлекаюсь, – пробормотал Сидоров, – а они мной.
– Какая разница. Я не понял, вы хотели бы перейти на работу в округ или нет?
– Хотел бы, – сказал подавленный перспективой своего служебного роста в федеральном государственном пространстве Сидоров. – Я подготовлю документы на конкурс.
Всё было сказано, тема была закрыта, и они расстались.
В конце той же недели, после разговора с Волковым, Сидоров пригласил к себе домой Петровского и рассказал ему о своих сомнениях. Работать в областной администрации ему нравилось, особенно теперь, когда Сидоров в полной мере ощущал себя членом губернаторской команды, переходить никуда не хотелось. Но всплывший опять случай на охоте, его долговременные последствия для бизнеса Ивановского, позиция неизвестных вышестоящих властей, приславших контролировать ситуацию в области N Волкова, – все эти обстоятельства весьма взволновали бывшего интеллигента Сидорова. Он даже напомнил Петровскому случай семилетней давности, когда он, Сидоров, работая ещё в городской администрации, вступился за свою сотрудницу, допустившую формальное нарушение закона. Тогда он отстаивал её интересы, даже написал заявление о своём увольнении.
– Но это же был совсем другой случай, – горячился он, – ведь тогда никто же не пострадал, а её справедливо наказали, временно понизив в должности.
Петровский слушал его сбивчивое изложение с лёгкой снисходительной улыбкой.
– Принципиальной разницы между этими двумя случаями нет, – заявил он. – В конце концов, тебе же объяснили, что семье пострадавшего был компенсирован ущерб. Пуделькин, кстати, и с тобой лично обошёлся вполне великодушно. Не мстил, не пытался уволить. Чего же ты митингуешь? Ты идёшь на повышение, так что радовался бы.
– Да надо бы радоваться, только пока не очень получается, – согласился Сидоров.
– В Византийской империи, веке, если не ошибаюсь, при Иоанне Кантакузине, – сказал склонный к историческим ретроспекциям Петровский, – один прохвост ухаживал за дочерью влиятельного человека и собрался, было, на ней жениться. Этот вельможа, чтобы не принимать в дом голодранца, составил ему протекцию и устроил его на хорошее место в государственной службе. А прохвост, устроившись, получив жалованье и переехав на казённую квартиру, жениться отказался. Тогда вельможа подал на него в суд за нарушение принятых моральных обязательств. Суд рассмотрел дело и заставил прохвоста уплатить вельможе пять талантов. Ты, Сидоров, знаешь, сколько это – пять талантов?
– Не знаю, – сказал мало интересовавшийся древними денежными единицами измерения, давшими имя выдающимся человеческим способностям, Сидоров.
– Это больше ста тридцати килограмм серебра. Очень много, даже по тем древним временам. Я вот думаю, что, если бы у нас ввели открытую плату за услуги чиновников и суд потом наказывал за нарушение данного слова и нанесённый тем самым ущерб, заставляя его возместить потерпевшим деньгами, это бы привело к полному искоренению коррупции. Везде же рынок, а почему у чиновников должно быть иначе? Ты вот, идеалист доморощенный, как думаешь, если бы Пуделькина сняли с поста губернатора из-за того случая, семье егеря от этого стало бы лучше?
– Думаю, да. Посидел бы немного, года три-пять, и они поверили бы в справедливость, – ощетинился Сидоров.
– Что такое справедливость? Я вот уверен – было бы хуже. Егерь-то и зарабатывал мало, и попивал. Городскую квартиру, скажем, они бы вовек не получили. Поэтому готовь свои документы на конкурс и ни о чём не думай. И проводи меня.
И Сидоров пошёл провожать Петровского до его дома, и зашёл к нему в гости, и выпил в гостях две чашки чаю с вареньем. Приятное ощущение того, что он поступает правильно, уходя на новую должность из-под губернатора, оказавшегося благодетелем для семьи егеря, но так и не оценившего сидоровских стараний и компетентности, не покидало его ещё долгое время. С благодарностью, ложась в постель, думал Сидоров о мудрости Петровского, развеявшего его сомнения, и с улыбкой вспоминал Ивановского, доходы которого помогали уверенно смотреть Сидорову в светлое российское будущее. "До чего же всё-таки хорошие мужики, – думал Сидоров, – и ведь перед Пуделькиным за меня заступились. Верные, настоящие друзья". И заснул Сидоров хорошим здоровым сном без сновидений, забыв про своих знакомых женщин и девушек, тем более что время на дворе стояло уже позднее.
ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
Свиридов приехал в наш город откуда-то из Сибири, то ли из Томска, то ли из Омска, а может быть, из Орска или Холмска… кто их там, чалдонов, разберёт. Там всё плохо и вообще холодно, а Свиридов один кормил страну, добывая то ли нефть, то ли газ, то ли никель пополам с медью и платиной. Скажем прямо, в этом Свиридов ничем не отличался от прочих наших сограждан – в России, однако, везде плохо и холодно, а русским все кругом должны. Только Москва находится на юге, собрала у себя все деньги и хорошо живёт, хотя москвичи, наверное, с этим и не согласны. Всегда так было, и ничего с этой географией не сделаешь.
Я думаю, что у каждого есть свои резоны для зарабатывания денег. Мало кто может сказать про себя, как я, что он просто жадный. Мне вот нравится много зарабатывать и мало тратить, потому я и работаю у тех, кто больше платит. А Свиридову больше нравится мысль, что эта страна ему задолжала. Полагаю, что таких, как он, у нас большинство. Мысль о том, что можно быть задолжавшим стране, дебиторам никогда не приходит в голову. Разве что патриотам. Но и те у нас какие-то подозрительные: что патриоты, что диссиденты ищут друг в друге негодяев, которые так и норовят скрыться в различных последних пристанищах. Думается, однако, что в действительности они просто не хотят платить друг другу взаимные долги. Какие серьёзные комплексы, вместо того чтобы честно и бескорыстно любить деньги.
Я попал к Свиридову три года назад из солидной фирмы, которая стала его стратегическим партнёром. Ему был нужен приличный бухгалтер, а я в свои двадцать девять уже был таковым. Свиридов фактически сделал меня своим заместителем, так что кроме денег я ещё и существенно повысил свой статус.
А ещё я почувствовал, что мне пора обзавестись семьёй и детьми. Мне надоело быть жадным для себя, я хочу, чтобы мною или, на худой конец, моими деньгами гордились те, кого я вижу каждый день.
Вообще-то у нас тихий спокойный городок. В советское время в нём обосновалось кое-что из любимого министерства среднего машиностроения, поэтому, как говорят мои родители, в городе был порядок. Кроме порядка было ещё и два крупных завода, которые работали на оборону. Теперь их делят уже десятый год; по большим праздникам там выплачивают зарплату. Ко Дню Победы и на Новый год. А может, к 8 Марта и дню рождения очередного директора. Я точно не знаю.
Когда я учился в экономической академии, в просторечии называемой Плешкой, то, приезжая из Москвы, часто задумывался, чем же занимаются здешние жители? Откуда у горожан деньги? По моим ощущениям, все вели какой-то странный бесконечный торговый бизнес, покупая и продавая друг другу еду и зарубежный сэконд-хенд. Потом правительство нам объяснило, что это и есть постиндустриальная экономика, где почти весь валовой продукт создаётся в сфере услуг. Ну, наверное. Сначала я удивлялся, а теперь мне всё равно.
Свиридов же разбогател на нефти. Часть населения нашего городка имеет хорошие знакомства в так называемых ЗАТО – закрытых административных территориальных образованиях, попросту говоря – ящиках. Им давали налоговые льготы. Свиридов и вправду знает каких-то газовиков-нефтяников, так что оставалось только воспользоваться ситуацией. Он и воспользовался. Как-то Свиридов мне сказал, что эти атомные и оборонные городки экспортировали то ли семьдесят, то ли девяносто процентов российской нефти. Очень даже может быть.
Я попал к Свиридову, когда уже было известно, что льготы в ЗАТО отменяют. Тогда он занимался реструктуризацией своего бизнеса: покупал земельные участки и строил дома с квартирами на продажу, одновременно реконструировал заброшенный цех под производство и розлив спиртных напитков, а в плане у него ещё была фабрика по производству сухих пищевых продуктов: быстро приготавливаемой лапши во всех её видах и отечественных мюслей. Какой-то у него был там знакомый сибирский китаец, который подсказал эту идею.
Я до этого работал в московской риелторской фирме. У неё в нашем городке был филиал. Считая чужие деньги, я не мог не обратить внимания, что при средней зарплате местных жителей в три с половиной тысячи рублей продажная цена квадратного метра жилья была пятнадцать тысяч, и жильё уходило, что называется, влёт. К агентам выстраивалась очередь желающих построиться. Нормальный строительный бум в постиндустриальной экономике.
Интересы фирмы со Свиридовым пересеклись на одном из пятен под застройку, и наши заключили с ним альянс. А потом Свиридов пригласил меня к себе, и мне дали понять, что в фирме будут не против, если я уйду к стратегическому партнёру, который, того и гляди, превратится в конкурента. Наивные. Свиридов сразу же стал платить мне в полтора раза больше, так что мой выбор в возможном конфликте интересов будет однозначен.
Мы близко сошлись со Свиридовым во время одного кассового разрыва. Он не заплатил за поставленный в его цех винный полуфабрикат, потому что в это же время надо было финансировать окончание строительства. Я был в курсе этих обстоятельств и думал, что с представителями молдаван удастся договориться, однако сверху на всё это наложился долг Свиридова перед нефтяниками за продукцию, которую когда-то экспортировали из ЗАТО. Свиридов должен был поделиться с нефтяниками частью экспортной премии, но, как оказалось, почти все эти деньги он вложил в покупку спирта-ректификата. Все его кредиторы разом решили с ним поговорить, однако ликвидировать свои долги он мог только по приходу денег за водку и вино, а на это требовалось от двух недель до месяца. И Свиридов решил исчезнуть на это время вместе со мной из общего поля зрения. Когда я спросил, почему он решил взять меня с собой, ведь я же вроде бы не отвечаю за его долги, он только злобно оскалился.
Признаться, до сих пор не понимаю – то ли Свиридов тогда так заботился о моём здоровье, то ли опасался, что я помогу кредиторам его ограбить.
Место нашего укрытия оказалось для меня неожиданным. Мы две недели жили в задней комнате за огромным кабинетом главы нашей городской администрации. В комнате были диваны, холодильник, микроволновка, которая работала и как духовой шкаф, кофейник… В общем, мы не страдали. Правда, было неудобно умываться – и особенно мыть голову в рукомойнике мужского туалета, но и это было преодолимо.
Периодически я звонил по сотовому телефону своим подчинённым – они отслеживали поступления денег. Они сказали мне, что Свиридова ищут аж три команды киллеров, которым поручено разобраться.
Я думаю, что не было ни одной. Но у страха глаза велики.
Конечно же, мы много болтали. Свиридову были интересны мои матримониальные взгляды: сам он, как оказалось, женился быстро… и это случилось с ним трижды. Поэтому он удивлялся моему одинокому образу жизни. Я попытался тактично разъяснить ему жизненное кредо сегодняшних умных, красивых, молодых женщин, на одной из которых я когда-нибудь собирался жениться. Он уточнил:
– Ты хочешь сказать, что девушка в двадцать-двадцать пять лет, понимающая себя, не может выйти замуж за сверстника?
– Отчего же, может. Если у него родители богатые или сам он, скажем, звезда канадского хоккея.
– Однако… А как же страсть?
– Страсть отдельно, а брак и дети отдельно. Иначе возникают подозрения в первом допущении – о наличии достаточных умственных способностей и хорошего образования.
– Где-то я читал, – раздумчиво заметил Свиридов, – что, если ты понимаешь толк в жизни, то твои женщины становятся старше вместе с тобой.
– Так это же, как поставка с отсрочкой платежа, – заметил я ему в ответ.
– То есть?
– Мужчине надо достичь определённого возраста, когда он сможет оплачивать счета своих женщин. А потом уже они становятся старше вместе с ним. Скажем, двадцатилетние – для тридцатилетних, тридцатилетние для сорокалетних, и так далее.
– Может быть, может быть, – задумчиво сказал Свиридов.
Позднее я узнал, что третья жена Свиридова была моложе его на двенадцать лет. Почти идеальная разница в возрасте, по-моему.
После жизни в задней комнате мэра я постепенно перезнакомился со всей обширной семьёй Свиридова. Он перевёз из Сибири отца и мать, старшую сестру, сына от первого брака… Дети от его второй и третьей жён жили уже у нас в городке вместе со Свиридовым и своими матерями. Все они периодически ходили друг к другу в гости, приводили новых знакомых, ругались и мирились. Мне это напоминало то ли Санта-Барбару, то ли бразильские сериалы. Признаться, ни то ни другое я не смотрел, но думаю, что должно быть похоже.
Свиридов участвовал во всех семейных перипетиях своей дальней и близкой родни. Кого-то он устраивал в вуз, и потом надо было звонить тамошним доцентам, чтобы устроенному оболтусу поставили зачёт/экзамен и чтобы не отчислили за постоянно возникавшие у Свиридовых-студентов хвосты. Кого-то он устраивал на работу и был постоянно в курсе карьеры своего протеже.
Вдобавок у него были сложные отношения с его стариками родителями. Как-то он пожаловался мне:
– Опять с отцом не разговариваем. Он считает, что я своих подчинённых за людей не держу.
– Вроде бы я ему не ябедничал, – я решил проявить иронию.
– Да не о тебе речь… тут я, понимаешь ли, оказывается, со своим шофёром не здороваюсь.
– И что? – не понял я.
– С шофёром надо здороваться, они зовут его по имени-отчеству. Он же с ними за покупками ездит и, если надо что-то поднять-принести, всё помогает. А я, по их мнению, с ним груб.
– Глупости, – решил я поддержать своего начальника.
– Тут не знаешь, когда тебя убьют: сегодня или завтра. И ещё старики с этим шофёром… Старая партийная школа.
Может, я чего-то не понимаю. У Свиридова половина милиции и часть людей, с которыми я бы за один стол не сел, числятся в хороших знакомых. Откуда эти параноидальные опасения? Причём если бы он один был такой. Те из них, кто, выпив, периодически слушает Высоцкого, говорят о какой-то системе, с которой они борются всю жизнь из последних сил. И борются, и борются… несут жертвы. Но вроде бы они же давно победили? Или – кто у нас новая правящая партия?
Из всей свиридовской родни мне нравилась его старшая сестра. Ей было около пятидесяти – то ли сорок девять, то ли пятьдесят один. Выглядела же она скорее лет на сорок, возраст выдавала её дочь, которая была года на три-четыре младше меня. Она окончила какой-то сибирский мединститут и тоже служила предметом свиридовских усилий по её трудоустройству.
Мать её была иронична, молчалива и сравнительно редко участвовала в общих семейных посиделках. Она недавно развелась, причём после своей серебряной свадьбы, и Свиридов перетащил её к себе. Когда-то, когда я её увидел в первый раз, я подумал, что она похожа на преподавателя математики. Оказалось – преподаватель математики.
Меня влекло к этой женщине, годившейся мне в матери. С ней было легко разговаривать о самых разных вещах, о которых я никогда не разговаривал в своей семье. Мой отец, проработавший всю жизнь инженером в различных почтовых ящиках, был человеком с принципами. Это часто делало его невыносимым для окружающих, хотя он и пользовался всеобщим уважением. Старший брат пошёл по его пути и стал семейным любимцем. Мама разделяла принципы отца, хотя была и не инженером, а финансовым работником. Как я понимаю, одно время она трудилась в контрольно-ревизионном управлении, что вполне соответствовало её склонностям.
Деньги в нашей семье никогда не считались ценностью, хотя, как мне кажется, вокруг них многое вертелось. Брат рано женился – понадобилось строить квартиру. Естественно, за счёт родительской помощи. Потом у него появились дети, машина и множество других бытовых инвестиционных проектов. Я же продвигался по жизни как-то всё больше сам, занимаясь бухгалтерией и коммерцией, что не вызывало особого сочувствия. Старшее поколение считало частнокапиталистическую деятельность хорошо замаскированным воровством. Ранее меня это задевало: я принимался доказывать, что процент воровства здесь никак не больше, чем в других замечательных занятиях, включая сюда техническое творчество отца и старшего брата, после чего подвергался остракизму. Постепенно мы совсем разошлись, и хотя официального посвящения меня в блудные сыны не было, но встречались мы раз в полгода. На день рождения матери и ещё на какой-нибудь праздник, когда они вдруг начинали мне настойчиво звонить.
Сестру Свиридова звали Анной, а дочь её – Юлией. Я считался формальным кавалером дочери: когда она приезжала из Москвы, где продолжала своё обучение в ординатуре, мы с ней гуляли по городу и заходили в какой-нибудь ресторан. Юлия походила на свою мать и была очень красивой девушкой, так что с ней было лестно появляться на людях. Кроме того, она была поклонницей боулинга. Именно она научила меня катать шары. К своему удивлению, я узнал, что они бывают разного веса.
Когда я бывал в Москве, мы вместе ходили в театры. В московские рестораны я не люблю ходить: как я уже сказал, я жаден. Кроме того, холостая жизнь позволила мне научиться готовить; склонен полагать, я это делаю лучше, чем в большинстве обычных заведений дорогого индивидуального питания.
Тем не менее, Юлия ни разу не оставалась у меня в квартире или, тем более, в гостиничном номере. Как-то не доходило дело. Кроме того, у меня были другие девушки. А у неё, полагаю, другие мужчины. Согласно моей теории нам мешала небольшая – всего в четыре года – разница в возрасте.
Гораздо чаще мы встречались с Анной. Наверное, это происходило раз в две недели, или даже чаще. Мы гуляли с ней по запущенным паркам нашего городка, вместе ужинали, даже заходили в городской кинотеатр, оснащённый автоматом для попкорна и псевдодолбисистемой. Она объяснила мне, что Орск вообще-то находится в Оренбуржье, а Холмск – на Сахалине, что сами они приехали и вовсе из Восточной Сибири, а Омск и Томск находятся в Сибири Западной, и что разница между этими краями почти столь же большая, как и между Западной и Восточной Европой. Я в ответ рассказывал ей про поповское и беспоповское старообрядчество, российский поход Наполеона и современные глупости экономических реформаторов с точки зрения обыкновенного бухгалтера. Анна всё очень легко схватывала, как, впрочем, и её брат.
Временами мне казалось, что я влюбляюсь в неё. Часто эти мысли возникали при появлении рядом с нами её ровесников, многие из которых сразу же принималась за ней ухаживать. Я с удивлением чувствовал в себе ревность и даже стал задумываться об Эдиповом комплексе. Анна, видимо, хорошо понимала, что со мной творится, и никогда не позволяла себе вольностей. Хотя стоило ей захотеть, и я наверняка оказался бы в её постели, несмотря на всё своё предубеждение к зрелым женщинам.
Свиридов построил свою фабрику сухих продуктов, которая сразу же стала приносить неплохой доход и множество побочных хлопот. Как минимум раз в квартал к нам заявлялось до роты наших защитников из министерства внутренних дел и требовало обеспечить их сухим пайком. Глядя на нас со Свиридовым мутными милицейскими глазами, они объясняли, сколько крови в Чечне и других столь же замечательных местах они уже пролили и сколько обещают пролить ещё. Всё это, естественно, из-за нас, буржуинов.
Сопротивляться было бесполезно. Они получали свои пайки, мы оформляли их как брак, подлежащий списанию со склада готовой продукции. Порча в процессе хранения. Чистые убытки.
Потом они возвращались, встречая нас на улице или дороге, осклабливались, тыкали, хлопали по плечу, предлагали пойти где-нибудь посидеть, можно и с девушками, это у них, видите ли, не проблема. Всё это было порядком противно.
Но фабрика приносила доход. А милиция отпугивала налоговиков, и часть продукции можно было сравнительно безопасно реализовывать за наличный расчёт, не показывая выручку. Вот оно, наше буржуйское счастье и наша олигархическая военная тайна.
Так и прошло три года моей работы у Свиридова. Юлия закончила свою ординатуру и вернулась к матери, не выйдя в Москве замуж. Роман наш с ней не форсировался, но и не угасал. Я приобрёл в кредит новый автомобиль и в основном закончил обустраивать квартиру площадью в сто пятьдесят квадратных метров. Всё двигалось к тихому и вполне устраивавшему меня безоблачному счастью с яркой женой и мудрой тёщей. Но тут произошёл мелкий инцидент, который всему стал мешать; и чем сильнее его старались забыть, тем больше, похоже, он вносил напряжение в наши гармонические отношения.
Анну избили. Она возвращалась с работы домой через один из наших любимых парков, когда на неё напали двое молодых людей. Один зажал ей рот, другой вырвал сумочку, потом они бросили её на землю и нанесли несколько ударов ногами. Били и по рёбрам, и в живот, и по лицу. Анна закричала. Они убежали. Это продолжалось вряд ли больше двух минут.
Дойдя до выхода из парка, она обратилась к милиционеру, тот вызвал наряд, который отвёз её в милицию. От дежурного, который составлял протокол, несло спиртным. Искать нападавших на неё даже не пытались.
Все дружно удивлялись, что Анну так сильно избили из-за сумочки; обычно, как всем казалось, такое происходит при изнасиловании.
По-видимому, в этом было всё дело. Если бы её ещё изнасиловали, а не только ограбили и избили, то милиция по горячим следам непременно отыскала бы преступников.
Анна не выходила из дому и отказывалась со мной разговаривать. Свиридов был в ярости. Юлия, с которой мы встречались в те дни, была сама не своя. Она по-прежнему была очень привлекательна, но прежняя уверенность в себе отсутствовала. Я почувствовал, что она стала бояться приближающихся к нам на улице или даже в боулинге мужчин.
Юлия стала звонить мне, что раньше случалось довольно редко. Пару раз даже оставалась у меня, но ночевала в соседней комнате. Я к ней не приставал: сам даже не знаю – то ли я решил проявить такт, то ли я от природы достаточно тактичен.
В конце концов случилось то, что и должно было случиться довольно давно, и в результате мы проговорили всю ночь. Юлия рассказала мне, что обожала своего отца, но по мере взросления обнаружила, что он регулярно изменяет матери. Что Анна долго терпела это, сначала ради неё, а потом ей стало всё равно.
– А почему же они всё-таки развелись? – поинтересовался я.
– Я заканчивала институт, а у отца в результате его очередного романа появился на свет маленький сын.
Разошлись её родители, как я понял, почти по-доброму: дележа имущества не было. Отец у Юли был госчиновник, поэтому официально был, как и положено, почти бедным человеком. Да и, конечно же, они принадлежали к широкому кругу вымирающей российской интеллигенции, которая в подобных моральных перипетиях ведёт себя с неизменным благородством и чувством собственного достоинства.
Через месяц Анна вернулась к своей обычной жизни. Мы встретились в новой городской кофейне: после открытия всё новых пивных заведений это была чья-то слабая попытка сыграть на альтернативной моде. Анна сама заговорила о том, что с ней случилось:
Не надо бы мне столько двоек ставить на экзаменах.
Что так?
В прошлом году доцента с кафедры сопромата в парке ударили бутылкой с пивом по голове. Очнулся он весь в крови, весь в пиве, бутылку об него разбили. На голове потом пять швов, не голова, а кожаный мяч на ощупь. Сама как-то попробовала погладить, неприятно.
– То есть как погладить? Вы заставляете меня ревновать свою будущую тёщу…
– И напрасно. В смысле – не ревновать, а тёщу.
Я не поверил своим ушам. Она объяснила мне, что лично против меня ничего не имеет, во всём виноват инцидент, который произошёл с ней месяц назад. Хотя случай совершенно банальный, и не стоило бы переживать по этому поводу, но она всё же переживает и всё время думает об этом. И приходит к выводу, что она уже нажилась в России, и поскольку двадцать пять лет была замужем за еврейским человеком, то Юлия, которая является его дочерью, может спокойно уехать отсюда. И я, в случае их эмиграции, им абсолютно ни к чему.
– А Юля знает вашу точку зрения?
– Знает.
– И согласна с ней?
– Этого мы с вами обсуждать не будем.
– Но я собрался жениться на ней!
– Поздно. Я давно хотела вам сказать: вы замечательно молодой старичок. Если бы вы были по-настоящему влюблены в неё – или, как мне кажется, и в меня, то всё могло произойти ещё год-два назад. Какая была бы история: с матерью, с дочерью… потом всю жизнь бы вспоминали. Вы же всё рассчитываете, всё ходите вокруг да около. В вас просто холодная кровь.
– Вы шутите?
– Конечно, – через паузу сказала она. – Но не про отъезд моей дочери.
– Вы не шутите, – сказал я.
Больше мне нечего было сказать, хотя в голове у меня вертелось испорченной пластинкой: "чёрт бы вас побрал, чёрт бы вас побрал, чёрт бы…", но сказать это вслух было бы излишним.
Потом я провожал её до дому, и она говорила мне о том, что боится нашего тихого небольшого городка, что боится уезжать, что всё это ей надоело, что у неё нет денег, но Свиридов даст столько, сколько ей нужно, а вообще ей ничего не нужно. Потом мы поднялись к ней в квартиру – Анна открыла дверь, а я, вместо того чтобы повернуться и уйти, поднялся и вошёл за ней. Я обнял её, и она не отстранилась.
Вероятно, я был немного груб после того, что она мне наговорила. Более того, мне сильно мешала некстати вспомнившаяся фраза поручика Ржевского из анекдота про зрелых женщин: «они же думают, что это в последний раз, и такое вытворяют…»
Анне зачем-то это было нужно. Когда я уходил от неё, это уже была спокойная, уверенная в себе и ироничная женщина, какой я и привык её видеть. Мне показалось, что даже тон её голоса стал более глубоким и тёплым. Я же ощущал себя абсолютно раздавленным: благодарная Анна, целуя меня у двери, сказала на ухо: "Славное вышло прощание…"
Конечно же, они никуда не уехали. Юлия оказалась очень твёрдой в своём намерении выйти за меня замуж. Но произошло это только спустя полгода борьбы всего клана Свиридовых с её решительной матерью. За это время Анна успела съездить и в Израиль к родственникам мужа и своим знакомым, и в США к каким-то другим родственникам мужа и другим своим знакомым. Когда она вернулась, мы уже жили вместе с Юлией, так что осталось только оформить наши отношения.
Свиридов был очень рад нашему браку. Теперь я вошёл в его клан не как наёмный работник, но как родственник, а это, с его сибирской точки зрения, было гораздо надёжнее. Или насчёт родственников это уже московская точка зрения, которую он усвоил? Сейчас уже и не найдёшь эти корни.
Анна тоже завела себе постоянного кавалера. Они встречаются, но не переезжают друг к другу. В общем, всё как-то утряслось, кроме моих вечных сомнений в правильности моих прошлых и настоящих поступков. Тем не менее, я пытаюсь следовать своему жизненному плану. Я как-то рассчитал, что при определённых условиях смогу уйти на покой в сорок пять лет; и денег мне должно хватить, если даже после этого доживу до семидесяти.
Юлия как-то сказала мне, что Анна никогда не говорила обо мне плохо, несмотря на то что почти про каждого её знакомого молодого мужчину всегда могла сказать метко и зло. Но никогда и не одобряла вслух наш брак. Может быть. Я как-то прижился в шумном свиридовском семействе, хотя с большей его частью мне по-прежнему не о чем было разговаривать. После брака с Юлией Свиридов сделал меня партнёром в своём бизнесе, и теперь я, как и он, должен время от времени заботиться об его оболтусах. С тёщей мы нередко встречаемся и продолжаем довольно мило, по-старому, болтать: мою жену это всегда забавляет. Анна незаметно меня разглядывает – во время этого процесса у меня не раз возникало чувство, что она в своё время произвела контрольную проверку, а теперь смотрит, как ведёт себя данное изделие в эксплуатации. Я немного стесняюсь этих испытующих взглядов.
Вот, в общем, и всё. Прошёл только год с того самого случая с Анной, а мы уже ждём ребёнка. И только сейчас я понял, что такое настоящий страх: я боюсь за жену постоянно. Бог с ними, со старыми запущенными парками нашего городка, мы никогда и не заходим в них, но разве что-нибудь подобное не может произойти в другом месте?
Юля продолжает ходить в городскую клинику на работу. У неё хорошее настроение, она самоуверенна и беспечна. Когда мы идём вместе, мне кажется, что только на неё и смотрят все идущие навстречу мужчины. Я ничего не говорю ей о своих страхах.
Наверное, всё это со временем пройдёт, переживу. Так боятся за свою и чужую жизнь старики, но я ведь совсем не старик. И нечего обо всём этом больше разговаривать.
ПОДРОБНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (современные сказки)
Это было давно, в девяностые годы двадцатого века. О том времени не написано классических романов, газеты нескольких лет давности давно использованы по различным бытовым назначениям, а историки новейшего времени ещё не выработали единой линии к столь сложному объекту, ещё не полностью исчезнувшему из памяти забывчивых обывателей. В эту сказочную додефолтовую эпоху в России царили мир и социальная гармония; а излишки танков использовались исключительно для разрушения пришедших в ветхость гражданских зданий с последующим евроремонтом. Доходы российских граждан достигли необычайных высот, так что эти граждане с презрением отказывались от чёрного физического труда, и в строительстве были заняты южные корейцы, турки, украинцы, молдаване и представители других стран третьего мира. Российская армия и флот влились в европейские структуры и участвовали в борьбе против сербской тирании, помогая американцам в исторической цивилизационной миссии на Балканах. Молодая российская демократия, воздвигнутая на созданном путём ваучерной приватизации среднем классе, стремительно развивалась, являясь предметом белой зависти своих азиатских и европейских соседей, так что те даже стали запрещать у себя преподавание русского языка, чтобы их молодое поколение не узнало всей привлекательности новой России и не пошло бы по российскому пути.
1. ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ
В одной из глухих российских провинций, в N-ской области, жили-были два брата Хитровы. Отец их умер, матери никогда не дружили, так что встречались братья редко. Старший из них, Борис, окончил в советское время политехнический институт и работал инженером на заводе, который строил ракеты. Ракеты летали в космос, и за это заводу выделяли квартиры, разные редкие потребительские продукты, которые нельзя было купить в обычном советском предприятии розничной торговли. Кроме того, на заводе была высокая зарплата, и можно было купить – но это уже по очереди – дефицитную автомашину "Жигули".
Младший брат, Сергей, после окончания школы не знал, куда ему поступать, поскольку плохо знал физику. Борис, который к тому времени уже окончил институт, пытался ему помочь, но, убедившись в запущенности случая, оставил свои попытки. "Иди ты, брат, на филологический или исторический, – сказал он. – Жизнь там голодная, зато интересная. Никогда не знаешь наперёд, где будешь работать. То ли учителем в школе, то ли сотрудником КГБ. Правда, наши советские девушки предпочитают ракетчиков или атомщиков, но зато среди учительниц богатый выбор невест".
Сергей тогда ещё мало думал о девушках, но был весьма озабочен распределением. Ему хотелось остаться жить в областном центре. И поступил он на экономический факультет, а после окончания вуза стал работать в городском финансовом отделе. Зарабатывал мало, но на советскую жизнь хватало. Вдобавок мать его, оставшись вдовой в сорок лет, вскоре вышла замуж и переехала жить к новому мужу, так что главный вопрос человека социалистического – вопрос жилплощади – был у Сергея решён.
И жили себе братья не тужили, встречаясь по два-три раза в год. Борис осознавал свою важность и социальный статус, ездил на собственных "Жигулях" и часто ужинал в ресторанах. Сергея он считал неудачником, с чем сам младший брат был совершенно согласен. Настоящие люди должны были летать в космос, расщеплять атомные ядра, спускаться под воду или уж, по меньшей мере, тушить пожары, про что другие настоящие люди писали хорошую крепко сделанную литературу. Ни один нормальный мужчина не мечтал стать финансистом в советской стране. Но – что делать, вот так сложилось. Кому-то ведь всё-таки надо было считать неинтересные общественные социалистические деньги.
Наступили сказочные девяностые, и выяснилось, что космос для России – убыточное предприятие. У Бориса стали всё чаще возникать материальные затруднения: у него к тому же росли двое детей от второй жены, и он перечислял алименты на содержание сына от своего первого брака. На заводе перестали платить зарплату. И вообще как-то отношение к ракетам изменилось.
Сергей же неожиданно для себя сделал карьеру. Его бывшие начальники разбежались: один стал начальником городской налоговой инспекции, заместитель заведующего горфо ушла в управление Центрального банка, ещё одна заместитель стала исполнительным директором банка коммерческого… Из тех же, кто остался, Сергей был чуть ли не самым опытным работником. Да ещё вдобавок – мужчина. И стал он начальником городского департамента финансов – так переименовали его бывшую службу. И правильно, что переименовали: был бы Сергей Хитров начальником отдела, ну и что? И совсем другое, когда он стал начальником департамента.
И мэр областного центра, который придумал новые названия, начал с того, что на сессии городского Совета сказал, что хочет быть мэром. Что это за должность такая – глава городской администрации? Сокращённо получается г-гад. Давайте сделаем, чтобы у нас глава города был мэр. И депутаты проголосовали за это единогласно.
Мэра тогдашнего звали Кидалов; в прошлом он работал вице-губернатором, и глава области поставил у руля местного самоуправления, как он сначала полагал, "своего человека". Сергей про себя постоянно восхищался Кидаловым. Во-первых, он никогда не орал. Во-вторых, он существенно поднял мэрским людям, как за глаза называли служителей местного самоуправления обыватели, заработную плату. В-третьих, он так красиво рисовал городское будущее, что всем хотелось на него работать… тогда все работали, чтобы побыстрее увидеть, наконец, обещанное умными московскими людьми, выступавшими по каналам центрального телевидения, счастливое капиталистическое будущее. Кроме того, по местным телеканалам обещали такое же, если не более счастливое будущее местные люди. Им, правда, верилось меньше, чем московским: то ли потому, что местные были глупее, чем московские, то ли потому, что местных хотя бы чуть-чуть знали, а московских не знали совсем.











