Читать онлайн Советская авиация в военных конфликтах 1920-х годов. От Кронштадта до Туркестана
- Автор: Алексей Лашков
- Жанр: Военное дело, Спецслужбы, Документальная литература
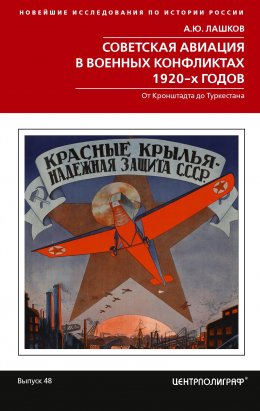
Серия «Новейшие исследования по истории России» основана в 2016 г.
Рецензенты:
д. и.н. М.С. Монаков,
д. и.н., профессор Ю.Ф. Пивоваров
© Лашков А.Ю., 2025
© «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025
Предисловие
В первые десятилетия XX столетия военно-воздушные силы (ВВС) приобрели важное значение в вооруженной борьбе и стали неотъемлемой частью армии и флота. Особая роль им отводилась не только в войнах, но и в ходе силового разрешения внутренних конфликтов, возникавших с завидной периодичностью на просторах некогда единой Российской империи.
После завершения активной фазы Гражданской войны в России военно-политическое руководство страны столкнулось с внутренними протестными настроениями, зачастую перераставшими в открытое противостояние. Повстанческое движение охватило значительную часть европейской территории РСФСР, а также Кавказ и Туркестан (Среднюю Азию). Движущей силой вооруженной оппозиции выступали представители различных социальных групп общества, недовольных своим положением. Большинство выступлений носило явно антисоветский характер и поддерживалось со стороны зарубежных государств.
Масштабы вооруженной борьбы и неспособность республиканских (союзных) и местных органов власти своевременно реагировать на возникавшие проблемы, в первую очередь в экономической и социальной сфере жизни общества, потребовали принятия в том числе и силовых мер воздействия. В боевых действиях против повстанческого движения были задействованы различные рода войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), включая Военный Воздушный флот (с 1924 г. – ВВС), а в приморских районах дополнительно – авиация Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).
Состав и вооружение воздушных группировок, обеспечивавших действия сухопутных войск в зонах конфликтов, напрямую зависели от объема решаемых боевых задач, численности и технической оснащенности противника, его тактики и иных факторов. В ходе боевой работы советские авиаторы преимущественно сосредотачивались на ведении воздушной разведки, нанесении бомбо-штурмовых ударов по скоплениям живой силы неприятеля, его штабам, обозам и местам постоянной или временной дислокации. В условиях горно-пустынной и лесистой местности на авиацию дополнительно возлагались задачи по организации взаимодействия с соединениями и частями РККА, органами военного управления и другими силовыми структурами, участвовавшими в войсковых и чекистско-войсковых операциях. Связь, как правило, организовывалась с использованием системы кодов и сигнальных полотнищ, на основе ранее полученного опыта. В отдельных случаях для корректировки артиллерийского огня привлекались воздухоплавательные подразделения (Кронштадтское и Тамбовское восстания).
В 1920-х гг. борьба с повстанческим движением на территории РСФСР (с 1922 г. – СССР) чередовалась с оказанием интернациональной помощи дружественным государствам и республикам (Туркестану, Монголии, Афганистану, провинции Северной Персии), в большинстве случаев используемых различными антисоветскими силами в качестве плацдарма для периодических нападений на приграничные районы нашей страны. В последующие годы отдельные регионы, в первую очередь Северный Кавказ и Средняя Азия, продолжали оставаться «горячими точками», подогреваемыми из-за рубежа. В ходе силового разрешения внутренних конфликтов личный состав ВВС РККА приобрел необходимый боевой опыт, который остается востребованным и в наши дни.
Глава 1
Авиация против крепости: Кронштадтское восстание (1921 г.)
Нарастающий продовольственный кризис в стране вызвал волну забастовок, охвативших к началу 1921 г. крупные города РСФСР: Петроград и Москву. Экономические требования быстро приобрели политический характер, поставившие под сомнение существовавшую власть в виде партийно-государственной диктатуры. Революционные настроения получили широкую поддержку в отдельных частях Петроградского военного округа (ПВО) и экипажах кораблей Балтийского флота, что нашло свое отражение в принятой 28 февраля «Политической [Кронштадтской] резолюции». На местах стихийно создавались революционные комитеты (ревкомы), шли выборы нового командного состава. Вся полнота власти в Кронштадтском гарнизоне перешла к вновь избранному Военному революционному комитету (ВРК; Ревком; 5 человек) под председательством С.М. Петриченко, созданному 2 марта 1921 г. по итогам общего собрания делегатов всех морских, красноармейских и рабочих организаций (202 человека), проведенному на борту линейного корабля «Петропавловск»1.
Одновременно учреждался штаб обороны в составе чинов прежнего штаба Кронштадтской крепости (Кронкрепости): начальник обороны – бывший подполковник Е.Н. Соловьянов, начальник штаба – бывший подполковник Б.А. Арканников и другие офицеры. Кроме того, был создан военный совет обороны из числа наиболее видных кронштадтских военспецов, включая бывшего контр-адмирала С.Н. Дмитриева (командира бригады линкоров) и бывшего генерал-майора А.Н. Козловского (начальника крепостной артиллерии). В связи с большим недоверием к ним со стороны нижних чинов руководство ВРК сообщило о принятых назначениях (через местную печать) с большим опозданием, чтобы не возбуждать лишних страстей.
К 4 марта 1921 г. Ревком значительно расширил свой состав, доведя общую численность до 15 человек (приложение 1). Проведя организационные перестановки, руководители восстания приступили к разработке плана будущих действий, озвученного уже на первом заседании военного совета обороны. Представленный план по своей сути предусматривал два варианта развития дальнейших событий в зависимости от направления главного удара (Ораниенбаумского или Сестрорецкого). Предполагалось, что восставших поддержит значительная часть Петроградского гарнизона и большинство промышленных районов Северной столицы. Однако для проведения наступательной операции у гарнизона Кронштадта явно не хватало собственных сил. В предстоящем штурме г. Петрограда и близлежащих его районов ВРК мог задействовать лишь до двух тысяч человек из состава 560-го полка и Рабоче-конвойного отряда «при условии ослабления тех фортов, со стороны которых ожидается наступление советских войск». В этой связи 6 марта на расширенном совещании штаба Кронкрепости и Ревкома было принято решение отказаться от наступательного плана и перейти к обороне.
В распоряжении восставших имелись линейные корабли (линкоры; ЛК) «Петропавловск», «Севастополь», «Андрей Первозванный»2, минные заградители «Нарова» и «Ловать», несколько малых кораблей, береговые части военного порта, артиллерийские, стрелковые и инженерные части крепости (всего 134 тяжелых и 62 легких орудия, 126 пулеметов и 17 960 человек)3.
Тем временем юрисдикцию ВРК Кронштадтской крепости признал 1-й гидродивизион (воздушный морской дивизион; около 230 человек), расквартированный в г. Ораниенбауме. По воспоминаниям С.М. Петриченко, в ночь на 2 марта 1921 г. на «мятежный» остров от дивизиона прибыли три делегата, которые привезли официальное согласие его личного состава присоединиться к восстанию. Но вернувшиеся назад делегаты «тут же были схвачены и расстреляны, а вслед за ними еще 44 чел. также были расстреляны»4. Эта информация до настоящего времени остается спорной. Немного ранее в 1-м гидродивизионе происходили следующие события, нашедшие отражение в книге «Кронштадтский мятеж. Хроника событий» (автор В.Я. Крестьянинов; 2016 г.).
«Боцман дивизиона Ф.П. Еременко привез кронштадтскую резолюцию. Это стало известно личному составу, и в 18 ч началось собрание в клубе дивизиона. Коммунисты успели позвонить в политотдел, и оттуда срочно прибыл организатор РКП(б) С.Т. Терехов и несколько коммунистов. Но до их прихода успели выбрать Революционный комитет в составе председателя начальника дивизиона Н.А. Колесова, секретаря Е.С. Балабанова и помощника секретаря Н.П. Романова. Колесов зачитал кронштадтскую резолюцию, и ее поддержали единогласно (по другим данным – два голосовали «против» и 6 или 8 человек воздержались). Затем матросы дивизиона направились в ангар, где продолжили собрание. Секретарь Е.С. Балабанов предложил всем морякам вооружиться, но некоторые выступили против пролития крови. Собрание выбрало трех делегатов в Кронштадт и постановило поставить караул дивизиона в количестве 30 человек. Были направлены делегаты в соседние воинские части с кронштадтской резолюцией, но по дороге они были арестованы чекистами. После собрания большинство моряков дивизиона разошлись по домам. Некоторым делегатам дивизиона удалось избежать ареста, и, вернувшись в часть, они доложили Н.А. Колесову о происходящем в городе. К этому времени коммунисты уже разоружили отряд молодых моряков и конвойную команду. Неблагонадежные элементы этих частей были арестованы и препровождены в Особый отдел»5.
В течение короткого отрезка времени руководству ПВО удалось оперативно изолировать морских летчиков и арестовать их руководство, задействовав для решения этой задачи бронепоезд «Черноморец» и подразделения 187-й бригады (бр) РККА (по другим данным – роту курсантов).
Одновременно Совет Труда и Обороны (СТО) РСФСР занял непримиримую позицию к восставшим и объявил их «вне закона». В Петрограде и Петроградской губернии было введено осадное положение6. Общее руководство предстоящей (Кронштадтской) операцией возлагалось на председателя Реввоенсовета Республики (РВСР) Л.Д. Троцкого и главкома Вооруженными Силами (ВС) Российской Республики С.С. Каменева.
До их прибытия в Петрограде был сформирован Комитет обороны под председательством Г.Е. Зиновьева. Решением СТО РСФСР от 3 марта 1921 г. в военном отношении комитет был подчинен РВС Республики.
Для руководства Балтийским флотом создана специальная тройка (Г.П. Галкин, И.К Кожанов, А. Костин) с сохранением должности командующего флотом (врид В.А. Кукель-Краевский). Уполномоченным РВСР по обороне Петроградского района и форта «Краснофлотский» назначен военмор И.Д. Сладков7. На тот момент в распоряжении командующего войсками Петроградского военного округа (Д.Н. Аврова) имелось свыше 11 тыс. человек, 84 орудия и 110 пулеметов, не считая вооружения фортов, оставшихся верными советской власти. Комитету обороны удалось вовремя взять под контроль внутреннюю обстановку в одном из главных южных фортов – «Краснофлотский», занимавшем господствующее положение над морской крепостью (м/к) Кронштадт. Ранее с той же целью в форт прибыли делегаты Кронштадтского ВРК, но были немедленно арестованы и посажены под арест. В Петрограде не забыли события лета 1919 г., когда в результате антисоветского восстания форт чуть не оказался в руках белых частей. Тем временем в самой Северной столице прошли аресты зачинщиков забастовок на предприятиях. Расстреляно несколько десятков потенциальных союзников «Кронштадтской революции», свыше 2300 моряков-балтийцев в срочном порядке переведены на другие флота и флотилии, подальше от мятежного района.
Перед советским военно-политическим руководством стояла довольно сложная задача – до начала весенней оттепели овладеть морской крепостью (с прилегавшими фортами) и полностью подавить восстание. Для ее решения требовалось привлечение значительного количества тяжелых береговых орудий и военной авиации.
Все имевшиеся в округе воздушные силы по опыту Советско-польской войны (1920 г.) объединялись в две эскадрильи. Первую («сухопутную») составили окружные подразделения Воздушного флота (ВФ; 10 самолетов и 5 (4) аэростатов, начальник – военлет Е.С. Студзинский, комиссар – А. Осипов), а вторую («морскую») эскадрилью – авиация Балтийского моря8 (27 летательных аппаратов (ЛА), начальник – морлет А.В. Королько, комиссар – Пушков). Однако для успешного проведения предстоящей операции этих сил было явно недостаточно. В последующие дни с Западного фронта в Петроград были переброшены 1-й, 17-й и 40-й авиаотряды (ао) (18 самолетов), усиленные летными экипажами (9 самолетов) Московского военного округа. На их основе сформировали 3-ю воздушную эскадрилью (начальник – военлет С.Я. Корф, комиссар – Скукин)9(приложение 2).
1-я «сухопутная» эскадрилья размещалась на Комендантском аэродроме (г. Петроград), в районе Шувалово, на ст. Раздельная и в форте «Краснофлотский», а 2-я «морская» – в Ораниенбауме, Петергофе и Петрограде (Гутуевский остров). Также эскадрилье придавалась гидроавиабаза (Комендантский аэродром).
До 50 % самолетного парка 3-й воздушной эскадрильи составляли летательные аппараты истребительного типа. По оценке военных специалистов, это получилось совершенно случайно, так как в спешке подтягивались именно те подразделения, которые были на тот момент ближе к Петрограду. При этом командование округа не исключало возможность участия на стороне восставших ВВС Финляндии в случае расширения границ боевых действий. При этом реальную воздушную поддержку Кронштадту мог оказать 2-й отряд финской сухопутной авиации (аэродром Койвисто-Бьёрке), расположенный вблизи советско-финской границы. В его самолетном парке имелись ЛА американских конструкций.
Для восполнения возникшего недостатка в разведывательной авиации командование 7-й армии (А) затребовало (по линии Авиадарма) в свое распоряжение еще один авиаотряд (18 рао) и боевое звено особого назначения (БЗОН), вооруженные самолетами-разведчиками. Однако эти подразделения прибыли в Петроград лишь 15 марта 1921 г. и в вооруженном конфликте участия не принимали. Кроме того, в резерве в ближнем тылу имелось девять оболочек аэростатов и четыре лебедки, которые при необходимости могли быть доставлены для обеспечения воздухоплавательных отрядов, задействованных в боевой работе.
5 марта 1921 г. для подавления восстания была воссоздана вышеупомянутая 7-я армия (третье формирование) с непосредственным подчинением Главному командованию Российской Республики10. Временное руководство армией возлагалось на командующего войсками Западного фронта М.Н. Тухачевского (с оставлением в прежней должности).
Назначение комфронта состоялось по прямому указанию Л.Д. Троцкого, ранее отказавшегося от кандидатуры командующего войсками Петрокруга Н.Д. Аврова. Последний произвел на председателя РВСР впечатление переутомленного человека, не вполне разобравшегося в сложившейся обстановке и не имевшего конкретного плана действий. Авров скептически оценивал политическую благонадежность частей округа и опирался лишь на курсантов Петроградских школ и курсов, а также на перебрасываемых в Северную столицу учащихся военных вузов Москвы, Смоленска, Витебска и Торжка. Тем не менее Н.Д. Авров был оставлен в занимаемой должности, включен в состав Петроградского комитета обороны и дополнительно назначен комендантом Петроградского укрепленного района.
В подчинение М.Н. Тухачевского были переданы (во всех отношениях) войска ПВО и Балтийский флот. Для ведения наступательных действий против «мятежников» сформированы Северный (начальник – бывший капитан Е.С. Казанский) и Южный (начальник – бывший штабс-капитан А.И. Седякин) боевые участки (БУ) в районе Сестрорецка и Ораниенбаума11.
В тот же день все авиационные силы и средства, «сосредотачиваемые в 7-й армии, подчинялись непосредственно [в оперативном отношении] Главначвоздухфлоту [Авиадарму] Сергееву, который в этом отношении подчинялся командарму 7»12 (приказ РВСР от 5 марта № 38) с целью «оказать полное содействие» в воздушной части проводимой операции. По ее окончании командование Красного Воздушного Флота (КВФ) должно было «произвести обследование… для получения выводов о работе авиации, как опыта борьбы Воздушного Флота с крепостью»13.
Для решения поставленных задач одновременно задействовались «сухопутные» и морские типы ЛА: самолеты-разведчики («Фарман-XXX», «Сопвич»), самолеты-истребители («Ньюпор-XVII, – XXIII, – XXIV», «Спад-VIII», «Сопвич-Кэмел»), гидропланы (М-9, -15, -20, трофейные «Шорт-184» и «Фэйри» III В). При этом «сухопутные» ЛА с диапазоном скоростей 110–180 км/час не предусматривали группового их использования, что заметно снижало эффективность воздушных налетов на выбранные объекты. Наиболее приемлемыми признавались тихоходные гидропланы (90—140 км/час), находившиеся на вооружении авиации Балтийского моря. Однако изношенная до крайности материальная часть (особенно моторы) не позволяла летчикам брать на борт большое количество боеприпасов. Точность бомбардировок значительно снижало полное отсутствие на летательных аппаратах бомбовых прицелов.
К началу операции в Петроградских арсеналах находилось всего около 2,5 тонны авиабомб (недостаточный объем для проведения предстоящей операции. – Авт.). Уже утром 6 марта из Коломенского и Тверского авиапарков были доставлены 500 бомб калибром 10 фунтов (примерно 4 кг) – 240 шт., 20 ф. – 60 шт. и 25 ф. – 200 шт.
На период проведения операции «сухопутная» авиация должна была действовать с Комендантского аэродрома, а морская – с гидроаэродрома Гутуевского острова14.
Перед летным составом стояли следующие задачи: разбрасывание агитационной литературы и приказов над морской крепостью Кронштадт и восставшими фортами; ведение воздушной разведки северного побережья Финского залива и Кронштадтского района; корректировка артиллерийского огня; бомбардировка крепостных объектов и восставших кораблей15.
Командование Петроградского укрепрайона (входившего в состав военного округа) передало в распоряжение комендантов боевых участков часть своих мобильных зенитных подразделений. В соответствии с указаниями начальника воздушной обороны (ВоздО) г. Петрограда (Н. Н. Линовского) утром 4 марта в состав артиллерии Южного БУ убыли три отдельные противосамолетные железнодорожные батареи (№ 1–3, 6 орудий и 8 пулеметов) под общим руководством и. д. командира 4-го зенитно-артиллерийского дивизиона Б.К. Харитона16.
Группировку ВоздО Южной группы войск дополняли две штатные зенитные батареи (№ 8 и 9) форта «Краснофлотский» Кронштадтского района, ранее отказавшиеся поддержать действия восставших.
Артиллерия Сестрорецкой группы войск (Северный БУ) была усилена отдельной противосамолетной железнодорожной батареей.
Помимо зенитных средств, в Кронштадтской операции задействовались военно-наблюдательные вахты ВоздО Петрограда. Развернутые в районе Сестрорецка и Ораниенбаума, они вели наблюдение за морской крепостью с ее фортами и поддерживали устойчивую связь с органами военного управления Северной столицы17.
Ранее командование войск ПВО своим распоряжением (от 28 февраля 1921 г. № 661/202) потребовало от всех авиаподразделений (дислоцированных на территории округа) заблаговременно сообщать в штабы ПУРа и ВоздО обо всех полетах своих самолетов и дирижаблей (маршруте, времени и высоте) с целью избежать их обстрела со стороны зенитных батарей. Это касалось и руководства воздушной обороны Кронштадтского района. С переходом большинства его представителей на сторону восставших средства ВоздО на «законном основании» приступили к открытию огня по всем летательным аппаратам, появлявшимся над о. Котлин и «мятежными» фортами. К весне 1921 г. основу воздушной обороны морской крепости составляли девять зенитных батарей18 (24 орудия) и пулеметные команды (44 пулемета), находившиеся в процессе своего формирования19. По оценке командования 7 А, восставшие располагали 85 зенитными орудиями (без учета корабельной артиллерии)20. Последняя, сконцентрированная в Кронштадтской гавани, насчитывала 56 разнокалиберных орудий. Их огневую мощь дополняла крепостная артиллерия.
Во главе ВоздО Кронштадтского района стоял ее штатный руководитель – бывший штабс-капитан В.Н. Воскресенский. С первых дней восстания он активно выступал на стороне Временного революционного комитета21. В его подчинении имелись 71 человек командного состава и 635 человек нижних чинов22. 2 марта по личному указанию Воскресенского в подразделениях ВоздО крепости были произведены аресты среди коммунистов и сочувствовавших им, несогласных с позицией восставших.
5 марта 1921 г. председатель РВСР Л.Д. Троцкий подписал соответствующий приказ (№ 153), в котором командующему 7 А предписывалось: «Если в течение 24 часов возмущение [в Кронштадте] не будет прекращено, то [немедленно начать] военные действия». Планировалось текст приказа (в виде листовок) разбросать над «мятежным» островом и его фортами. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (густой туман и снег) вылет самолета-разведчика типа «Сопвич» был перенесен на утро следующих суток. В 11 ч 40 мин 6 марта самолет 50 рао 1-й воздушной эскадрильи (летчик – командир отряда Е.А. Турчанович), несмотря на сильный ветер, поднялся с Комендантского аэродрома. По этому поводу интересным является доклад Е.С. Студзинского в адрес Авиадарма: «Во исполнении Вашего предписания от 5 марта сего года мною было отдано приказание начальнику авиации Балтийского моря и начальнику 50-го авиационного [разведывательного] отряда выслать с рассветом 6 марта самолет для разбрасывания над островом Котлин листовок (приказов т. Троцкого); к 8.00 летчики 50-го авиаотряда, от которого должны были лететь 3 самолета, были на аэродроме, но свирепствовавший ураганный ветер, порывы которого доходили до 25 метров в секунду и от которого дрожали стены деревянных ангаров, а в открытом поле трудно было устоять на ногах, – все это слишком ясно говорило, что выполнить задание абсолютно нет никакой возможности, попытки не только лететь, но вывести самолет из ангара было рискованно, едва самолет вытаскивали, как порывами ветра его бросало в стороны, поднимало вверх, а каждый новый порыв грозил превратить его в груду обломков… В связи с плохой погодой чрезвычайной важности задание должно быть отложено. Начальник 50-го [разведывательного] авиационного отряда военный летчик Турчанович, неоднократно доказавший на красном фронте свою исключительную храбрость, вызвался выполнить поставленную задачу. [С большим трудом самолет поднялся, до этого момента произошла небольшая авария, порывом ветра аппарат отнесло назад и перевернуло на крыло, летчик не пострадал]»23. В полет вместе с командиром добровольно вызвался военный комиссар отряда Н.И. Васильев. Перед выполнением боевого задания Е.А. Турчанович довел до своих подчиненных, что если он с военкомом не вернется, то через два часа в сторону Кронштадта должны были вылететь военлеты Н.Н. Морозов, Д.В. Кузьменко и К. И. Трунов24.
Самолет прошел над «мятежным» Кронштадтом на высоте 700 м, сбросив попутно агитационную литературу (20 тыс. экз. листовок25). Зенитный огонь по самолету не открывался. Одновременно была проведена воздушная разведка. Командование в первую очередь интересовали линкоры и связь осажденного острова с внешним миром. В своем донесении экипаж (Турчанович – Васильев) доложил, что «на всем острове больших скоплений людей и передвижений не замечено. По дороге от Кронштадта до Ораниенбаума движения нет. Дорог или тропинок в сторону Финляндии и Сестрорецка не замечено. В Военной гавани линкоры „Петропавловск4* и „Севастополь44, стоя у стенки, дымят, имея на носу и корме красные флаги»26.
При посадке из-за сильного ветра самолет потерпел аварию (сломана лыжа и оба нижних лонжерона). Экипаж отделался легкими ушибами. За выполнение боевой задачи Е.А. Турчанович и Н.И. Васильев были награждены серебряными портсигарами27.
Предъявленный ультиматум не повлиял на решение «мятежников» продолжать сопротивление. После безуспешных попыток РВСР и командования 7 А убедить восставший гарнизон и население г. Кронштадта немедленно сложить оружие и выдать зачинщиков восстания события в районе Финского залива окончательно перешли в фазу открытого вооруженного противостояния.
6 марта 1921 г. оперативное управление штаба 7-й армии утвердило окончательный план предстоящего штурма Крон-крепости и ее фортов. На следующий день М.Н. Тухачевский подписал секретный приказ за № 013/К о проведении их массированного артиллерийского обстрела. Авиация (силами одной эскадрильи) должна была атаковать с воздуха «мятежные» линкоры и казармы восставшего гарнизона. Во исполнение приказа с утра на Комендантском аэродроме началось сосредоточение самолетов, задействованных в первом воздушном налете.
Их перемещение осуществлялось с уведомлением начальника ВоздО Петроградского укрепленного района на основании отданного ранее приказа (№ 661/202/сек. от 26 февраля 1921 г.) командующего войсками Петроградского военного округа. Из него следовало, что все летательные аппараты, заблаговременно не оповещавшие о своих полетах в районе Финского залива, должны были сбиваться силами воздушной обороны Петрограда и Кронштадта. Накануне восстания никто даже не предполагал военного противостояния в колыбели Октябрьской революции. Тем не менее, получив соответствующие указания, руководство ВоздО морской крепости абсолютно на законных основаниях (ее никто и не собирался оповещать о предстоящих налетах) вскоре приступило к боевым действиям против объединенного ВФ 7 А и Балтийского флота.
Утром 7 марта в штаб воздухообороны ПУРа поступили сведения о вылете с аэродрома истребительного воздушного дивизиона (г. Петергоф) пяти морских истребителей. Днем три ЛА типа «Ньюпор-XVII» (летчики Н.М. Романов, С.Ф. Паенков, У. Бергстрём) успешно достигли Комендантского аэродрома. Неудачей завершилась посадка самолета «Сопвич-Кэмел». Вследствие поломки мотора летательный аппарат потерпел аварию, морлет Я. Лехтимяки отделался лишь легкими ушибами. Пятый истребитель типа «Ньюпор-XVII» (морлет Л. Вернер), вылетевший позднее других, вскоре был вынужден совершить посадку. Это нашло отражение в информационной сводке оперативного отдела Северного БУ за 7 марта (№ 202): «В 11 час. 50 мин. в районе участка летал наш аэроплан, который по неизвестным причинам спустился на лед в расстоянии одну версту от форта № 7 (что юго-западнее форта „Тотлебена“), с аэроплана никто не выходил, [по]стояв на льду 20 мин., поднялся и улетел по направлению Петрограда». Позднее он благополучно приземлился на Комендантском аэродроме.
Более удачно прошла передислокация в Петроград летчиков 1-го воздушного морского дивизиона (г. Ораниенбаум), которым, несмотря на нездоровую моральную атмосферу в коллективе, командование Балтийского флота и КВФ доверило участие в предстоящей операции. Из состава дивизиона было выделено 6 гидросамолетов (2 типа «Ферри», 2 – М-20, 1 – М-15 и 1 – М-9). Вскоре четыре ЛА достигли Гутуевского острова (г. Петроград), по пути сбросив над Кронштадтом около 10 тыс. листовок с текстом «ультиматума». Пятый гидросамолет (М-15, морлет Адамсон) в районе морской крепости подвергся ружейному и пулеметному обстрелу и был вынужден повернуть назад. По сути, он стал первым летчиком, вынужденным действовать в период подавления Кронштадтского восстания в зоне зенитного огня. Еще один гидроплан (М-9, краснолет Иванов) из-за технических неполадок потерпел аварию почти сразу после взлета с гидробазы.
К вечеру того же дня в боевую готовность были приведены летчики 2-го воздушного морского дивизиона, дислоцированного на Гутуевском острове. В состав объединенной авиагруппы от него было выделено 4 гидросамолета (1 М-9 и 3 М-20). Всего 7 марта 1921 г. летчиками было совершено семь полетов, в ходе которых на «мятежную» крепость и ее форты сброшено 10 бомб и 280 фунтов (127 кг) листовок28.
В целом к началу операции в Северной столице в распоряжении начальника ВФ действующей армии Республики А.В. Сергеева имелось 10 боеспособных ЛА (3 истребителя и 7 разведчиков). Об этом он незамедлительно проинформировал оперативный отдел ПУРа, обратив особое внимание на недопущение несанкционированных обстрелов самолетов («где бы они ни находились») с земли и кораблей. Одновременно начальникам артиллерии боевых участков было приказано подавить огонь зенитных батарей восставших в ходе боевой работы советской авиации в акватории Финского залива. Но в дело вмешалась непогода. Из-за сильного снегопада вылет всех самолетов был перенесен на следующее утро. Противостояние ограничилось лишь артиллерийской дуэлью из тяжелых орудий.
Действия правительственных войск против Кронштадта вызвали неподдельное возмущение среди войск его гарнизона и положили начало массовому выходу рядовых членов партии (в том числе воинов подразделений воздушной обороны) из ее рядов. В газете «Известия Военного революционного комитета» (№ 8) было опубликовано 168 фамилий коммунистов, принявших такое решение29.
Утром 8 марта командарм-7 отдал приказ о начале штурма морской крепости и ее фортов. Воспользовавшись непогодой (метелью), задействованные в операции наземные части предприняли попытку по льду залива приблизиться к укрепленным позициям Кронштадта. В наступлении приняли участие части Северной (9,8 тыс. человек) и Южной (3,7 тыс. человек) групп войск, выдвигаясь из района Сестрорецка и Ораниенбаума.
Но восставшие, своевременно обнаружившие наступавшие цепи красноармейцев, открыли по ним шквальный огонь из береговых и корабельных орудий. Разрывы снарядов повлекли за собой настоящую панику во многих частях и подразделениях РККА, их массовое отступление на прежние позиции и… даже переход отдельных из них на сторону противника. В их числе был личный состав батальона 561-го стрелкового полка (сп; 500 человек) 187 бр, действовавший на Ораниенбаумском направлении. В результате правительственные войска, понеся большие потери в живой силе, сумели овладеть лишь фортом «Павел № 7» (северо-восточнее о. Котлин), не имевшим артиллерийских средств. Вечером 8 марта форт был оставлен, так как в течение всего дня он подвергался сильному артиллерийскому огню. Занявшие его ранее подразделения под покровом ночи вернулись на материк30.
К 12 часам того же дня атаки на Кронштадт и островные форты прекратились. По данным восставших, общие потери наступавших составили около 800 человек убитыми, утонувшими, ранеными и пленными31.
Первые неудачи привели к определенному брожению среди личного состава РККА, задействованного в операции. Масло в огонь подлила местная печать. Так, в опубликованном 9 марта очередном номере газеты «Петроградская правда» попытались в угоду существующей идеологии приукрасить действия наступавших и, в свою очередь, умалить таковые со стороны оборонявшихся. Это вызвало неподдельное возмущение у председателя РВСР Л.Д. Троцкого, потребовавшего от руководства Петросовета и командования 7 А впредь сообщать лишь правдивую информацию. Одновременно для восстановления «революционного порядка» в наиболее «проблемных» подразделениях боевых участков была усилена политико-воспитательная работа. Один из полков даже пришлось отвести в тыл с последующей «зачисткой» в нем ненадежных элементов. После тщательного разбора итогов первого штурма Кронштадта руководство 7-й армии пришло к выводу, что для действенного обстрела выбранных целей необходимо значительное количество боеприпасов (до 50 тыс. снарядов различных калибров), а также усиление армейских частей тяжелой артиллерией особого назначения, бронепоездами и авиацией. Об этом М.Н. Тухачевский немедленно доложил главкому С.С. Каменеву. В частности, он указал на необходимость присылки в распоряжение командования армии 4-го авиаотряда с Западного фронта, а также авиационного отряда (с Тамбовской губернии, где уже полным ходом шла войсковая операция по подавлению антисоветского восстания), имевшего в своем составе «авиалетную радиостанцию». Это способствовало бы улучшению воздушной корректировки ведения артиллерийского огня по объектам морской крепости и ее фортов. Главнокомандующий пообещал в скором времени решить этот вопрос положительно. В свою очередь, командарм-7 потребовал от начальников Южного и Северного БУ для повышения эффективности артиллерийского обстрела сосредоточить огонь по конкретно выбранным целям (форты № 4 и 6, ЛК «Петропавловск» и «Севастополь», форт «Константин») до полного их разрушения (уничтожения). В тот же день Тухачевский лично прибыл на Южный участок, где «сорганизовал огонь по [своему] пехотному пониманию». В помощь артиллерии в качестве корректировщиков были привлечены воздушные силы 7-й армии и Балтфлота.
Тем временем г. Кронштадт подвергся первому за время операции групповому воздушному налету. В нем участвовали самолеты сухопутного типа «Ньюпор» и «Сопвич» (50 рао), способные нести на борту значительный бомбовый запас. Основной удар пришелся по морским судам (преимущественно линкорам), стоявшим в Военной гавани морской крепости. Всего на выбранные объекты было сброшено 14 (по другим данным – 19) авиабомб32. Одна из бомб попала в карниз жилого дома (Кронштадт), в результате ранение получил 13-летний подросток33.
В ответ восставшие открыли по самолетам плотный зенитный огонь. Осколки от разрывов шрапнели достигали высот 2–4 км.
В воздушных налетах на морскую крепость также участвовала морская авиация (3 гидросамолета типа М-20), действовавшая с Гутуевского аэродрома. В течения дня морлетами (О.А. Кальвицей, Антоновым и Валтоненом) на линкоры «Петропавловск» и «Севастополь» было сброшено пять бомб (66 кг). Однако вследствие густого дыма, застилавшего корабли, вопрос о результативности воздушных бомбардировок остался открытым. В то же время летчики обратили внимание на многочисленные воронки, которыми была устлана ледовая поверхность залива в южной и юго-западной части о. Котлищ а также вокруг «мятежных» судов. Это наглядно подтверждало тот факт, что большинство снарядов, выпущенных со стороны батарей Северного БУ, просто не достигало выбранных целей34. По возвращении с очередного задания морлет Кальвица немедленно известил об этом командование участка, предложив увеличить угол места цели для стрельбы орудий, расположенных на мысе Лисий Нос. Это позволяло накрыть огнем линкор «Петропавловск», зажатый во льдах. Сам летчик, приблизившись к мысу со стороны моря, был ошибочно обстрелян одной из батарей боевого участка. Под зенитный огонь (уже восставших), который велся крепостной артиллерией Кронштадта и морских судов, попал и его коллега – морлет Валтонен. В последний момент он успел набрать спасительную высоту и выйти из-под обстрела. Проведя воздушную разведку в районе Военной гавани, летчик благополучно вернулся на свой аэродром. Меньше повезло военлету В. Зернову (50 рао), «Ньюпор-XXIV» которого был подбит зенитным огнем корабельной артиллерии. Несмотря на полученные повреждения ЛА, летчик сумел дотянуть до аэродрома и совершить посадку35.
Всего за день «сухопутными» и морскими авиаторами было совершено десять вылетов, в ходе которых на объекты восставшего гарнизона сброшено до 210 кг бомб. Преимущественно бомбометание осуществлялось по линкорам. Опасаясь при этом губительного зенитного огня со стороны «мятежников», пилоты старались не опускаться ниже 2 км, что, в свою очередь, снижало точность попадания в цели. По информации начальника ВФ Республики А.В. Сергеева, к вечеру все самолеты, оказавшиеся в районе Кронштадта, «ожесточенно обстреливал[ись] зенитками».
Изношенность техники, непогода и ответные действия со стороны противника сказывались на росте авиационных аварий. Только за текущий день объединенная воздушная группировка 7 А и Балтийского флота временно сократилась на три самолета типа «Ньюпор-XVII» (№ 291, 338, 343): один – полностью разбит, два других получили незначительные повреждения. Так, по докладу начальника милиции 1-го участка Петроградского уезда, в местный Совет прибыл военлет С.Ф. Поенков, совершивший аварийную посадку на территории Урицкого района. Он сообщил, что при возвращении с боевого задания вследствие остановки мотора был вынужден спланировать на берег Финского залива. Возле ЛА немедленно выставили вооруженную охрану.
9 марта 1921 г. вследствие плохих метеоусловий (шел снег) вылеты авиации в сторону Кронштадта были ограничены. Первоначально Авиадарм А.В. Сергеев поставил начальнику авиации Балтийского моря А.В. Королько конкретную задачу: «При первой возможности вылететь по вчерашнему маршруту с той же целью. Произвести бомбометание, главным образом казарм, а не броненосцев. Необходимо сфотографировать зону между Финским заливом и Котлином. По вылету немедленно доложить»36. Однако из-за технических неполадок и других причин вылетевшие на боевое задание два летательных аппарата были вынуждены вернуться назад.
В свою очередь, с целью исключения обстрела своих самолетов штаб воздушной обороны Петроградского укрепрайона потребовал от авиационных начальников заранее информировать его обо всех предстоящих полетах в восточной части Финского залива за три часа до вылета37. Но в условиях плохой погоды экипажи зачастую узнавали о своем вылете лишь за 5—10 минут до его совершения. В конце концов был введен полный запрет на открытие зенитного огня в надежде, что у «мятежной» стороны отсутствует собственная авиация.
Однако уже 10 марта поступила разведсводка о том, что в «Кронштадте происходит ремонт самолетов». О фактах стремления восставших использовать в боевых действиях авиацию говорит и стенографический отчет о заседании Исполнительного комитета Петроградского губсовета от 15 марта 1921 г. В своем выступлении секретарь ПК РКП(б) Н.А. Угланов привел тот факт, что у кронштадтцев имелось в наличии два боеспособных самолета38. В ходе одного из налетов им даже удалось сбросить на позиции Северного боевого участка три бомбы, не причинившие при этом никакого вреда39. Двумя днями ранее, по разведданным Южной группы войск, в г. Кронштадте находилось три неисправных самолета. Следовательно, восставшим все же удалось привести два из них в боевое состояние. Согласно архивным документам, еще весной 1920 г. Наркомат по морским делам (по согласованию со штабом 7 А) принял решение о создании на о. Котлин летной площадки в качестве запасного аэродрома для «сухопутной» и морской авиации. Именно он в период Кронштадтского восстания являлся аэродромом для малочисленной «мятежной» авиации.
Между тем воздушные силы 7-й армии несли боевые потери. От артиллерийского огня восставших пострадал аэростат 11-го воздухоплавательного отряда, размещенного на биваке (ст. Раздельная). В результате обстрела из тяжелых орудий с форта № 6 обшивка воздушного шара (находившегося в то время на земле) была пробита осколками в шести местах. Несмотря на все попытки заклеить пробоины, большая часть газа вытекла из баллона, что привело к полной негодности воздухоплавательного аппарата.
В ожидании прибытия под Петроград обещанных главкомом тяжелой артиллерии и бронепоездов было принято решение использовать для обстрела объектов противника зенитные подразделения. Так, для усиления артиллерийской группировки форта «Краснофлотский» туда перебросили три железнодорожные противосамолетные батареи под командованием командира 4-го зенитного дивизиона ВоздО ПУРа Харитона (о чем говорилось ранее). Предполагалось огнем из зенитных орудий вести обстрел прямой наводкой близлежащих фортов восставших. Насколько действенным оказался их огонь, к сожалению, история умалчивает. По данным С.М. Петриченко, в результате артиллерийских обстрелов правительственных войск 9 и 10 марта восставшие потеряли 14 человек убитыми и 46 ранеными40.
Низкая результативность воздушных налетов на морскую крепость и форты вызвала явное раздражение у руководства операцией, указавшее командованию авиаотрядов «на несогласованность [единичных] полетов… на чрезмерно большую высоту, излишнюю при беспорядочной стрельбе с земли, на наблюдающийся большой недогруз бомбами самолетов (в особенности Сопвичей), а также на беспорядочность донесений»41.
Воспользовавшись временной передышкой (9—10 марта) вследствие плохих метеоусловий, Авиадарм потребовал от своих подчиненных устранить отмеченные недостатки. Учел уроки первых дней боев и штаб Кронкрепости. Он изменил порядок ведения артиллерийского огня. 10 марта начальникам крепостной и зенитной артиллерии было предписано (№ 340/опер.) исключить обстрел из противосамолетных орудий дальних [на]земных целей: «Стрельба по земным целям допустима лишь при появлении противника в непосредственной близости к форту»42. Использование не по прямому назначению зенитных орудий (стрельба по наземным и морским объектам) быстро приводила их в негодность. Наладить же ремонт в условиях Кронштадта при отсутствии соответствующих мастерских и материально-технических средств практически было невозможно.
Боевые вылеты в сторону Кронштадта и фортов возобновились лишь во второй половине И марта 1921 г. Одновременно в воздух, по докладу М.Н. Тухачевского главкому, поднялись 29 самолетов43. Бомбардировке подверглись стоявшие на рейде линкоры и судостроительный завод, в самом городе возникли пожары.
Результативность налетов можно проследить по донесениям самих летчиков, участвовавших в налете (табл. 1).
Таблица 1
В целом в течение дня авиаторы совершили 21 вылет общей продолжительностью 25 ч 10 мин, на объекты восставших было сброшено 40 бомб (430,3 кг; по другим данным – 380 кг44). По информации газеты «Известия Временного революционного комитета» от 12 марта 1921 г., «Кронштадт подвергся вчера многократным налетам аэропланов, бросавших бомбы над городом»45.
Одновременно советские летчики атаковали скопление людей (40–60 человек), замеченных возле финской границы. По оценке авиационного командования, ледовая дорога между населенным пунктом Косное и фортом «Ино» (Финляндия) могла напрямую связывать «мятежный» остров с соседней страной, с которой лишь год назад завершилась вялотекущая война.
По полученным разведывательным данным, финская сторона серьезно готовилась к оказанию военной помощи восставшему Кронштадтскому гарнизону. Так, по сведению финской печати, в стране активно шло формирование добровольческих отрядов, которые затем убывали <…> в неизвестном направлении. На ближайшей к о. Котлин воздушной базе (Койвисто-Бьёрке) размещались самолеты с большим радиусом действия.
Хотя об открытом вмешательстве северного соседа в кронштадтские события речи пока не велось, но военную и гуманитарную помощь по тайным каналам «мятежники» получали. Также ходили упорные слухи о начале воссоздания частей бывшей белой Северо-Западной армии на территории Эстонии. Однако 11 марта 1921 г. министр иностранных дел этой страны А. Пийп заверил советское руководство, что это «противоречит политике Республики Эстонии по отношению к России». Тревожили советское военно-политическое руководство и события на юго-западе страны. По линии Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) поступала информация о возможности антисоветских восстаний в ряде причерноморских городов (Одесса, Мариуполь) с участием в них моряков Балтийского флота. Рассматривалось в срочном порядке созвать военно-морское совещание с целью «принятия мер для их обезврежения».
В свою очередь, посетивший ранее Кронштадт по линии Русского Красного Креста (РКК) в составе делегации бывший командир линкора «Севастополь» капитан 1-го ранга барон П.В. Вилькен (в Финляндии возглавлял организацию «Морские офицеры-эмигранты») выдвинул определенные политические цели. В частности, он инициировал созыв Учредительного собрания и предложил Ревкому военную помощь в виде отправки добровольцев (800 человек). Они могли прибыть на о. Котлин из Финляндии по льду или перейти государственную границу на Карельском перешейке. Большинством голосов ВРК это предложение отклонил46.
Тем временем накал боевых действий в районе Финского залива заметно возрос. Летчикам настоятельно рекомендовалось снижаться над выбранными для атаки целями ниже 1 км, что неизменно повышало риск быть сбитым зенитным огнем восставших. По оценке Кронштадтского Военного революционного комитета, большинство воздушных налетов не причиняли особого вреда военным и административным объектам города, фортам крепости и кораблям.
И марта 1921 г. был подписан боевой приказ по обороне крепости Кронштадт (№ 3/боев.) о запрещении ружейно-пулеметной стрельбы по самолетам противника. Большая высота полетов авиации делала такую стрельбу практически бесцельной и являлась «бесполезной тратой патронов»47.
В свою очередь, объединенную авиагруппировку продолжала преследовать высокая аварийность. Только в течение дня последняя сократилась на три ЛА: (М-20 (морлет Валтонен) – поломка мотора; «Ньюпор-XVII» (военлет Лехтимяки) – скапотировал при посадке; М-20 (морлет Кальвица) – остановка мотора). Несмотря на временные потери, летчикам удалось полностью выполнить аэрофотосъемку о. Котлин и его фортов. Это позволило в дальнейшем командованию 7 А скорректировать огонь своей артиллерии, выделив наиболее жизненно важные объекты противника.
Вследствие высокой интенсивности воздушных налетов на морскую крепость возникли определенные трудности по отслеживанию маршрутов движения самолетов. Ситуацию осложняло то обстоятельство, что доклады о полетах приходили в штаб воздушной обороны Петроградского укрепрайона несвоевременно и не всегда оказывались достоверными. Так, в районе 16 ч 25 мин наблюдателями Южного БУ был замечен неизвестный самолет, летевший со стороны Кронштадта к форту «Краснофлотский». Однако, не долетев до него, ЛА повернул назад. Не удалось установить и его опознавательные знаки.
Основной целью авиационных ударов 12 марта стали склады артиллерийских снарядов в Кронштадте и взрывчатых веществ, размещенных на минных заградителях «Нарова» и «Волга» и в блокшивах, стоявших в гавани недалеко от линкоров. Летчикам было приказано осуществить их бомбардировку, для чего во все авиаотряды поступили воздушные снимки гавани, сделанные накануне.
Полеты начались в 11 ч 05 мин. В первую половину дня преимущественно работала морская авиация. Согласно ранее полученным сведениям по линии воздушной обороны, на Кронштадт были нацелены 10 ЛА, расположенных на Гутуевском острове, и три – на Комендантском аэродроме. Бомбометания производились по минным заградителям и линкорам. В результате было зафиксировано одно попадание между кораблями и одно – в Петроградскую пристань. С кораблей (линкоров) по самолетам вели сильный артиллерийский и пулеметный огонь.
По данным штаба обороны Кронкрепости, воздушной бомбардировке подверглись жилые кварталы города. В те дни «Известия Временного революционного комитета» писали: «Большевики с аэропланов продолжают бросать бомбы. Они думают запугать население. Их единственным средством является свинец. Больше ничего у них не осталось. Они выдохлись. Кровь мирных граждан, женщин и детей они, лицемеры, ни во что не ценят»48.
В 13 ч 30 мин вторично была произведена воздушная съемка Кронштадта. Она также зафиксировала в северо-восточной части о. Котлин наличие одного ЛА, стоявшего на льду. При повторном наблюдении его там уже не оказалось. Это дало повод вновь заговорить о наличии у «мятежников» собственной авиации.
Ближе к полудню в штаб ВоздО ПУРа поступило сообщение, что на 15 ч 30 мин с Комендантского аэродрома по приказу начальника ВФ ПВО планируется вылет 18 самолетов. Позднее дежурный по аэродрому получил более точную информацию – 20 самолетов, и время вылета сдвигалось на 13 часов. Групповые налеты вновь не принесли нападавшей стороне желаемого результата. Бомбовым ударам с воздуха подверглись форты № 4, 5 и форт «Тотлебен», который первоначально обстреливался артиллерией Северного боевого участка. В ответ батареи форта открыли огонь по району Сестрорецка, где были сосредоточены основные силы группы войск.
Днем ранее начальник обороны Кронштадта (бывший капитан Е.Н. Соловьянов) своим приказом (№ 2/боев.) разделил оборону о. Котлин на четыре боевых участка, где каждому из них были определены задачи воздушной обороны.
Тем временем летчики объединенной воздушной группировки частично перешли к ночным налетам. Это позволило, пользуясь темнотой, опускаться над объектом ниже одного километра. В частности, морлет А.Г. Таскинен с механиком Касьяновым на гидроплане типа «Ферри» (№ 9249), несмотря на ураганный зенитный огонь, сумели снизиться до высоты 800 м и сбросить одну зажигательную бомбу в районе хлебопекарни, а остальные – в Средней гавани49. После завершения бомбометания ЛА попал в облако шрапнельных разрывов. В результате на летающей лодке были перебиты тросы поплавков, что позднее привело к их полному разрыву. Вследствие чего экипаж вынужден был приводниться в одном километре от своего гидроаэродрома.
В течение дня летчики совершили 27 боевых вылетов, сбросив в расположении противника 49 бомб (491 кг) и свыше 45 кг агитационной литературы50. При этом один самолет потерпел аварию (речь о котором шла выше). И все же командование 7 А осталось недовольным результатами боевой работы своих воздушных сил. Летчикам было приказано «самыми решительными мерами устранить [имевшиеся недоработки] и нагружать самолеты за счет бензина до максимума»51.
В свою очередь, последовала ответная реакция со стороны авиации «мятежников». Так, в районе д. Бобыльской (Северная группа войск) с неизвестного аэроплана была сброшена бомба, которая при падении не разорвалась.
В последующие дни действия авиации 7-й армии и Балтийского флота заметно активизировались. До решающего штурма морской крепости оставались считаные дни.
13 марта воздушные налеты на Кронкрепость и ее форты возобновились с новой силой. Перед их началом до всех авиационных отрядов было доведено распоряжение командующего 7 А М.Н. Тухачевского о необходимости перехода к групповым полетам. Одновременно командарм, несмотря на острую критику в адрес руководства ВФ Республики, с удовлетворением отметил добросовестное выполнение большинством экипажей своих летных заданий. Особенно много лестных слов было сказано о работе морской авиации.
Существенно были скорректированы задачи по дальнейшему применению объединенной воздушной группировки в зоне боевых действий. В приказе по армии за № 128/сек. авиации Балтийского моря, в частности, предписывалось: «Сосредоточить бомбометание на [минном] заградителе „Нарова“, блокшивах с минами и линейных кораблях „Петропавловск44 и „Севастополь44, вылетая с максимальной нагрузкой»52.
Первым в боевую работу включился летный состав 1 – й «сухопутной» эскадрильи, совершив групповой вылет (8 самолетов) с Комендантского аэродрома. Итоги их работы представлены в таблице 2, составленной на основе донесений летчиков.
Таблица 2
Вслед за первой волной последовал следующий групповой воздушный налет на Кронштадт (табл. 3).
Таблица 3
Помимо «сухопутной» авиации в бомбардировке объектов была задействована и морская авиация. Так, летчики 2-го морского воздушного дивизиона совершили пять боевых вылетов, сбросив на выбранные цели шесть бомб (общим весом 68 кг). Помимо них в боевой работе участвовали и другие авиаотряды Балтийского флота.
К вечеру на объекты противника была сброшена 71 бомба (722,5 кг)54. О результативности налетов говорит тот факт, что прямым попаданием одной из них удалось зажечь баржу, стоявшую возле дока. Несмотря на строгие указания, многие летчики стремились работать в зоне зенитного огня восставших. Помимо шрапнели последние зачастую использовали бризантные снаряды, обладавшие большим поражающим эффектом. При этом не было отмечено ни одного случая открытого отказа пилотов от выполнения полетных заданий, скорее наоборот – отвага и мужество большинства из них. В частности, в одном из своих донесений главкому Авиадарм отметил настойчивость и личную храбрость летчика Д. Антипова, выполнившего до конца поставленную боевую задачу, несмотря на техническую неисправность своего самолета (поломка лонжерона крыла)55.
В свою очередь, в целях экономии снарядов руководство артиллерии Кронкрепости потребовало от командиров дивизионов, фортов, батарей исключить бесцельную их трату при обстреле самолетов, находившихся на больших высотах. При их снижении над объектом настоятельно рекомендовалось вести обстрел ЛА шрапнелью или сегментными снарядами (преимущественно теми, что имелись в арсенале Кронштадта).
Из оперативной сводки восставших за 13 марта следовало: «В течение всего дня аэропланы противника летали над Котлином, сбрасывая бомбы на город. Благодаря энергичной работе наших зенитных батарей по аэропланам, существенного вреда городу не нанесено»56.
14 марта и до вечера следующего дня вследствие сильного тумана полеты в районе Кронштадта не производились. Это позволило восставшим значительно улучшить снабжение острова и фортов продовольствием и боеприпасами, в том числе поступавшими (в ограниченном количестве) из соседней Финляндии.
Временное затишье в боевых действиях заполняла возобновившаяся артиллерийская дуэль. По информации секретаря ПК РКП(б) Н.А. Угланова, от обстрела тяжелой артиллерии восставших значительно пострадал Сестрорецкий завод, на территорию которого залетело до 30 снарядов (50 % не разорвалось). Также имелись большие разрушения на железнодорожных станциях Горская и Раздельная. Для исключения жертв среди мирных жителей еще 9 марта начальник Петроградского укрепрайона подписал приказ (№ 137/а) об ограничении железнодорожного движения на участках Петроград— Петергоф и Петроград – Белоостров «до одной пары поездов в сутки». Одновременно прекращалось любое движение на участках Петергоф – Ораниенбаум и Петроград – Сестрорецк.











