Читать онлайн Так было. Воспоминания. Деревенские истории
- Автор: Александр Иванович Фефилов
- Жанр: Современная русская литература
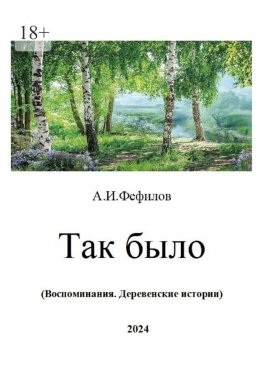
© Александр Иванович Фефилов, 2025
ISBN 978-5-0064-8301-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВОСПОМИНАНИЯ
Начало
С высоты своего возраста и положения пришел к выводу, что пора повернуться лицом к прошлому – написать небольшие семейные воспоминания, конечно, прежде всего, из перспективы личных переживаний и представлений. Желательно, на понятном языке и в первую очередь для своих близких, здравствующих и, возможно, для будущих кровных родственников. Хотелось бы быть максимально откровенным, чтобы писать без оглядки на осуждение и, может быть даже, на возмущение. Взгляд из настоящего в прошлое всегда несет в себе критическую оценку событий, иногда не очень лицеприятную как для себя, так и для других. Поэтому данные воспоминания придётся «ограничивать», чтобы не вызвать возмущение ныне здравствующих знакомых и родственников.
Я не склонен заострять свое внимание только на сухих биографических фактах, на своем родословном древе. Я происхожу из такого русского рода, который мало интересовался своим происхождением и, вероятно, считал это за блажь. Во всяком случае, мне неизвестно, что кто-то из круга моих родственников занимался описанием родства. Можно предположить, что кто-то из далеких предков и пытался это делать, но до моей родственной ветки такие факты не дошли.
Я – Фéфилов. По данным знаменитого советского филолога В.М.Жирмунского, фамилия принадлежит разорившимся Ярославским помещикам. Возможно, кто-то из них мигрировал на средний Урал в поисках лучшей жизни. Лично я полагаю, что скорее всего Фефиловы пришли на Урал из Архангельской области. Ныне покойные дедушки и бабушки рассказывали мне, что наши предки прибыли в Вятскую губернию, когда в ней росли непроходимые леса, и основали там поселения – Полом, Заимки, Курью. Леса жгли, чтобы отвоевать землю для построек и полей. На происхождении названий деревень следовало бы остановиться подробно. Здесь скажу только, что название деревни Заимки, в которой я родился, имеет явно украинское происхождение.
Этимологически фамилия ФЕФИЛОВ восходит к имени ТЕОФИЛ. Звук Т со временем в соответствии с фонетическим законом «перебоя согласных» превратился в звук Ф. Получилось ФЕОФИЛ. Это греческое имя означало буквально «БОГОЛЮБ», или любимый богами. В истории фигурировало три личности с этим именем. Двое из них были епископами, третий продал душу дьяволу.
Мои предки «ударяли» фамилию в соответствии с вятским произношением на первой букве Е. Когда я уехал из среднего Урала в центральную Россию, а потом в прилегающие к ней районы, меня всюду называли ФЕФИЛОВ (произносили фамилию с ударением на И). Чтобы не вызывать интеллигентных раздражений, особенно на защите кандидатской диссертации в г. Калинине (Твери) в 1979 году и докторской диссертации в г. Санкт Петербурге (Ленинграде) в 1989 году, я не поправлял знатоков ономастики (учения о собственных именах) и скромно откликался на ФЕФИЛОВА. Не бить же себя все время в грудь и доказывать, что мои предки были слегка неграмотными в лингвистическом плане. Их языковедческую некомпетентность я старался не афишировать, но приучал свое окружение, прежде всего, начальствующее, «ударять» мою фамилию не как нравится или как положено, а как сложилось исторически.
Дальнейшее изложение биографических фактов я постараюсь скрасить элементами художественного повествования, для того чтобы интересно читалось, не приукрашивая и не умаляя по мере возможности события и факты. В конце концов, я излагаю свое собственное видение прошлого, к которому я имею отношение или которое я сам «переживал» и, вроде бы, мне не было скучно. В любом случае – интересно вспоминать, хотя иногда и тяжело. Не исключено, что в мое повествование будут незаметно вкрапливаться некоторые диалектизмы – слова и обороты, присущие для людей той местности, в которой я жил чеьырнадцать лет. Эти слова сидят в моей памяти и иногда прорываются наружу в разговоре с родственниками или знакомыми земляками. Конечно, я постараюсь не использовать без надобности слова, которые слышал от своих бабушек, например: ланись, осеть, ноне, калды, баять, хотя некоторые из них вполне понятны. Очень «смачные» слова использовал мой отец, например: заводопеть (ср. дрова заводопели = наполнились водой), обистружиться (сильно удивиться и вытаращить глаза).
Слова диалектные и искусственные я буду заключать в кавычки и постараюсь разъяснять их по ходу изложения.
Родился я в 1950 году 10 апреля в деревне Заимки, Курьинского (Красногорского) района, Удмуртской АССР. Кто кроил карту этого забытого богом участка России, трудно сказать. Но, говорят, что эта местность была «оттяпана» волевым решением от Вятской губернии (ныне Кировской области). Однажды, когда я работал в Удмуртском госуниверситете, я ездил в Киров на экскурсию. Экскурсовод сообщил, что в Кировской области проживает очень много удмуртов. Это меня немного удивило. Возможно, вятские удмурты давно обрусели или ассимилировались, не имея корней к своему основному этносу – угрофинам, проживающим в центральной части Вотской губернии (Удмуртской республики). В Заимках удмуртов не было, это была чисто русская деревня, в которой проживало несколько семей «староверов» (= старообрядцев).
Название деревни Заимки происходит от слов заимка, заиметь. Так в старину называли земельные участки, занятые (= захваченные) кем-либо по праву первого владения. Обычно в таком поселении было несколько дворов, отдаленных от пахотных земель. Что заимели мои древние предки, об этом нет сведений. Возможно, что-то зафиксировано в архивах. Живые родственники ничего «путного» сказать не смогли. Создается впечатление, что родовое беспамятство просто культивировалось в русском народе, особенно в годы Советской власти, когда о богатых предках старались умалчивать по известным причинам. Знаю только, что мой дед Федор Поликарпович был достаточно зажиточным, имел усадьбу, большой двор, в котором мне еще довелось поиграть, несколько коров, лошадей и большую семью. Об этом я, возможно, ещё напишу в другой, специальной главе, посвященной воспоминаниям об этом человеке – воспоминаниям детским и со слов других. Однако дед мой по официальным меркам не дотягивал до кулака, поэтому его никуда не сослали. А куда ссылать? Заимки – это уже почти край земли. Туда нельзя было просто так добраться. Это всегда было сопряжено с невероятными географическими и погодными трудностями. Но это не пугало моих родителей, которые, проживая в деревне Осипинцы, регулярно выезжали на лошадях на санях и телегах, ходили пешком на свою родину.
Незадолго до моего рождения, в первых числах апреля на родину потянуло мою маму. Не помешал тот факт, что реки уже вскрылись, вода поднялась. Мама шла, вернее, прыгала к себе в Заимки, чтобы родить меня. Путь был довольно рискованным во многих отношениях. Но самое опасное – она была «на сносях». Понятно, что молодая учительница Осипинской начальной школы, Екатерина Дмитриевна, не думала о плохих последствиях и дорожные преграды преодолела успешно.
Как мне известно, рождался я тяжело, на кровати в доме деда Федора. Отец где-то был на переподготовке. Роды принимали две бабушки. Деда Федора послали в Курью за медсестрой. Он слетал на лошади в Курьинскую больницу и на санях, чуть ли не по вытаявшей земле, привез молодую медсестру, у которой как я понял позднее не было большого опыта, если не сказать хуже – никакого опыта приема родов.
Родился я, якобы, молча, без крика и «в рубашке». Говорят это хороший знак для последующей жизни. Я по всем признакам должен был быть счастливым человеком. Возможно, что это и так. Вопрос заключается лишь в том, что понимать под счастьем – жизнь в достатке, отсутствие болезней, хорошую карьеру, обеспеченную старость, которая уже постучалась. Об этом следует пофилософствовать отдельно. Однако ни один человек не скажет, что он слишком счастлив, потому что умеет сравнивать. Мы забываем, что единственное счастье на земле – это жизнь, какая бы она не была. Жизнь, как говорят, это божий дар и с этим надо считаться.
Как только я появился на свет, юная медсестра поспешила исполнить свой долг и обрезала пуповину. Все как полагается по их медицинской инструкции. Но! Обрезала коротковато. От пупа у меня осталась глубокая ямочка, которая долгое время не заживала. По вине неопытной медсестрички я остался без полноценного пупа и до сих пор живу с пупочной дырочкой. Насколько помню, из пупочной ямочки в детстве у меня постоянно выходили нитки. По-видимому, их было так много, что, если сейчас поковыряться в собственном пупе, можно еще обнаружить их остатки. Это не шутка. А если и кто воспринимает это как шутку, то не следует забывать, что в каждой шутке есть доля правды.
После процедур медицинских и гигиенических меня передали в руки бабушке Лепестинии. По рассказам, она унесла меня на печь и положила на лапоть. Не знаю, что это за ритуал. Может быть, на печи было тепло и мне просто необходимо было обсохнуть. Кто-то говорил мне, что бабки делают это с одной единственной целью – чтобы ребенок спокойно и крепко спал. Кстати, есть такой вятский фразеологизм – «спать на отопках». Второе, что было совершено со мной – это правка черепа, придание ему соответствующих форм. Вероятно, это делалось в бане. Если бы я мог посоветовать бабке сделать мне эпическую, яйцевидную конфигурацию черепа, т.е. с большим бугром на затылке! Возможно, я был бы сейчас большим писателем. Но, мне конфигурировали череп в соответствии с природой, по образу и подобию черепов «Фефиловщины».
Там же в бане мне поправили одну ножку, которая показалась моим предкам чуть короче другой. Моя мама объясняет данный факт не отклонением от природы, а прыжком с крыши в беременном состоянии. Дело в том, что здание Осипинской школы, бывшего поповского дома, очень высокого, с большой террасой, под тополями, было так расположено, что его всегда заносило снегом. На крыше скапливались огромные, обледеневшие массы снега, которые грозили подмять под себя крышу и свалить террасу (что в прочем и произошло, когда мне уже было 13 лет). Когда я был в утробе, моя мама возглавляла расчистку крыши от снега и непосредственно разгребала сама, и в один «прекрасный» момент скатилась по скользкой кровле сверху вниз. Я не уточнял, произошло это случайно или ей просто захотелось прокатиться. Ученики школы разных поколений делали это с удовольствием. Когда я подрос, я также неоднократно катался на фанере с крыши в снег, сначала рыхлый и мягкий, потом в утрамбованный и твердый (до скрежета в затылке). Короче, моя пятка была слегка сдвинута в сторону из нормативного положения, что и производило впечатление, будто одна нога чуть короче другой.
Все были, конечно же, рады моему рождению. Говорят, особенно радовался дед Федор. Я не был его первым внуком, но, по-видимому, приглянулся. Позднее он позволял мне «вытворять» в его присутствии то, что не дозволялось никому из старших или младших внуков, например, есть его деревянной ложкой из его деревянной чашки, черпать немытой пятерней свежевыкачанный мед из медогонки, и другое.
Через какое-то время меня нарекли именем. В семейном кругу были разногласия по этому поводу. Говорят, что сначала меня назвали Владимиром. Потом приехал отец, посмотрел и сказал: «Это никакой не Владимир, а Александр». Так и постановили, новое имя всем понравилось, ношу его до сих пор. У русских не было принято разделять день рождения и именины. Эта традиция характерна больше для Запада. К сожалению, конечно. Акт наречения именем превратился у нас в формальную процедуру. Обычно отцы бежали через неделю в ЗАГС и регистрировали рождение ребенка, потом получали свидетельство о рождении. В принципе, этот день и можно считать именинами, потому что имя узаконивается официально. Александр по-гречески – это храбрый воин, защитник. Откровенно говоря, я никогда не ощущал себя очень храбрым, тем более воином. Однако имя обязывает. Бог, давая имена земным тварям, вкладывал в них душу. Какое имя – такой и человек. Мои родные вложили больше души в мое дублетное имя САША. Меня всегда так звали в детстве, зовут и по сей день в кругу родственников. Хотя я вырос в деревне, за мной не закрепилось имя САНЯ. В школе я сидел за одной партой со своим именным и фамильным двойником – Фефиловым Александром. Его всегда звали Саней, а меня Сашей. Один из моих некровных родственников неоднократно пытался кликать меня Саней. Я яростно сопротивлялся. Правильно говорят, что собственное имя для его носителя самый великолепный и приятный звук в мире. Вот почему мы так ревностно следим за тем, правильно ли произносят наше имя и фамилию. Однако редко обращаем внимание на правильное произношение чужих имен, вызывая тем самым негативное отношение к самим себе.
Итак, начало моей жизни в этом мире связано с деревней Заимки, местом великолепным в природном плане и интересным в людском отношении. Описание места рождения заслуживает отдельной строки. Здесь же я с горечью констатирую, что такой деревни на карте страны больше нет. На месте усадьбы деда Федора, где-то незадолго до перестройки, по инициативе и на деньги земляков был построен простенький памятник всем ветеранам войны, живым и погибшим в годы Великой Отечественной войны – фронтовикам деревни Заимки. Среди них мои родственники: Фефилов Петр Федорович, Фефилов Климентий Федорович (это мои дяди по линии отца). На этом же памятнике написано имя моего папы – Фефилов Иван Федорович. Отец ездил на открытие памятника, встречался со своим другом детства, благодаря усилиям которого этот памятник был поставлен. Прошло совсем немного лет после этого, как умер мой отец. Говорят, что во время открытия памятника отец отошел в сторону, задумчиво смотрел туда, где когда-то был пруд, долго молчал.
Сегодня на месте бывшей, многолюдной и веселой деревни Заимки нет никаких признаков того, что там жили люди. Летом все зарастает густым бурьяном, зимой – заметает снегом. Изменился даже рельеф, все помельчало и выровнялось. Может быть, еще стоит могучая сосна между нижней и верхней деревней. На ней когда-то висела тяжелая стальная болванка, по которой стучали, чтобы оповещать жителей о сборе, или о пожаре.











