Читать онлайн Висячие сады Семирамиды
- Автор: Александр Сирин
- Жанр: Современная русская литература
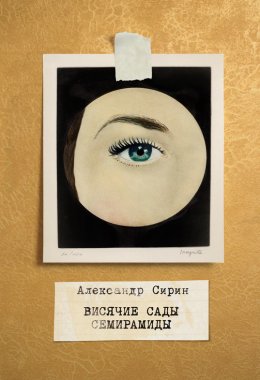
Все упоминаемые в сборнике учреждения, организации, персонажи носят вымышленный характер. Любые совпадения с реальными учреждениями, организациями и фамилиями людей являются исклю-чительно случайным совпадением.
Для создания макета лицевой стороны обложки книги использована картина Рене Магритта L’Oeil vert, ou L’objet («Зеленый глаз, или Предмет»).
© Сирин А., текст, 2024
© Геликон Плюс, оформление, 2024
Предисловие
Сборник Александра Сирина «Висячие сады Семириды» включает шестнадцать произведений различных жанров, которые мы бы определили как рассказ, большой рассказ, повесть («Турандот», «Висячие сады Семириды»), а также текст большого формата, который обозначен автором как post-punk роман. Действительно ли это роман или post-punk роман, а может, повесть или большой рассказ, как однажды по отношению к одному из романов Маканина сыронизировал язвительный Виктор Топоров, судить более маститым критикам, мы же ограничимся рядом небольших суждений и замечаний, сложившихся по прочтении сборника.
Структура произведений сборника в целом архаична: так писали в шестидесятые, семидесятые, но новаторство Сирина видится в другом: через переплетение сюжетных линий рассказов и кочующих персонажей (подобный прием в своем творчестве, к слову, использовали также Уильям Фолкнер и Ингеборг Бахман), которые из одного произведения перетекают в другое (в одних произведениях они являются главными действующими лицами, в других второстепенными, а в некоторых лишь упоминаются) создается единое мозаичное полотно, а не просто набор новелл, оказавшихся по случаю под одной обложкой. Посредством этого переплетения сюжетных линий перед нами предстают представители различных социальных групп и создается панорамная картина общества.
Это мозаичное полотно взаимосвязанных литературных персонажей напоминает известный альбом группы The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Со знаменитым альбомом The Beatles у сборника Александра Сирина имеется композиционное сходство: в альбоме Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band одна музыкальная композиция перетекает в другую. Нечто подобное происходит и в сборнике Сирина: сюжеты новелл перекликаются, в них порой приводятся одни и те же истории, но переданные глазами разных рассказчиков, как в новелле Акутагавы «В чаще».
Кроме того, в post-punk романе «Осквернитель праха» присутствует сцена, в которой огромный хор, включающий российских политических деятелей и медийных персон последних трех десятилетий (в одной из сцен инсталляции в театре Боровлева), поют знаменитую песню Джона Леннона Imagine. Эта сцена с известными персонажами напоминает обложку альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, но у любителей российской рок-музыки возникнет еще одна ассоциация – ассоциация с известной песней Майка Науменко «Уездный город N». Как и в песне Науменко, на каждого персонажа этого шоу приводится личностная характеристика, запечатленная в надписи на футболке, в которой обыгрывается какая-либо известная реплика того или иного персонажа (как в случае с Пугачевой мадам Брошкина) или же дается отсылка на какое-то деяние, связанное с этим персонажем (пенсионная реформа, как в случае с А. Кудриным). Можно предполагать, что если бы не некоторые цензурные ограничения, то круг персонажей этого театрализованного шоу был бы более значительным, но что делать – всегда чем-то приходится жертвовать во имя каких-то более глобальных задач.
Отчасти с панк-культурой произведения Сирина сближает отношение к медийным фигурам массовой культуры. В театре в кругах ада мы видим культовых политиков прошлого и настоящего (английскую королевскую династию и т. д.), российских политиков двадцатого века, бизнесменов, известных российских литераторов современности и деятелей поп-культуры – Абрамовича, Улицкую, Акунина, Пугачеву, Макаревича. Не случайно самое post-punk-ское произведение сборника названо «Осквернитель праха»: здесь Сирин, подобно известной серии Эдуарда Лимонова, не пожалел ни живых, ни мертвых. Возможно, в будущем подобные концептуально цельно выстроенные литературные сборники критики будут характеризовать как post-punk направление.
С Ингеборг Бахман прозу Сирина, помимо некоторых общих особенностей художественного метода (переплетение сюжетных линий новелл посредством кочующих персонажей) сближает еще одна важная деталь: это некая мировоззренческая общность персонажей их произведений. Известный литературный критик Д. Затонский, характеризуя героев произведений Ингеборг Бахман, отмечал, что они, гонимые внутренним беспокойством, бродят по свету в смутной надежде обрести где-нибудь свой дом. И эти жильцы безликих гостиничных комнат (в рассказах Сирина – жильцы коммуналок) лихорадочной деятельностью, точно наркотиками, глушат свое одиночество, свою неприкаянность, зарабатывают деньги, приспосабливаются и пылают гневом, оставаясь пришельцами, чувствуя себя чужими[1]. Все они, пишет Д. Затонский, «напоминают членов некоего ордена, узнающих друг друга не по тайному знаку, а благодаря сходству мыслей, чувств, отвращений и приверженностей; они еще более чужды, чем все прочие жители Запада, этому гремящему, неоновому, рекламному бытию и оттого еще острее ощущают свою противоестественность; и они связаны пусть и невидимыми, но прочными, нерасторжимыми нитями. Это «что-то» – уклад провинции, утраченный, однако не забытый дом, ставший их «духовными» миром»[2]. В определенной мере это можно отнести и к героям произведений Александра Сирина.
Географические координаты населенных пунктов, в которых проживают герои произведений Сирина (за исключением двух рассказов), включают различные точки европейской части России – Петербург, Республику Коми, черноморское побережье, но сюжетная линия большинства произведений связана с городом, в отношении которого в российских СМИ в последние десятилетия употребляют термин «культурная столица». Именно сюда в поисках счастья, в стремлении к карьерному росту из далеких рабочих поселков направляются действующие лица произведений Сирина.
Жизнь в большом мегаполисе ставит перед вчерашними провинциалами нелегкие вопросы: может ли успех в достижении цели оправдывать средства, которые были употреблены для ее реализации, и можно ли достичь финансового благополучия честным трудом или, как писал один экономист, в основе любого богатства лежит преступление; совместимы ли гений и злодейство – всегда ли успешная научная карьера соотносятся с вопросами морали и этики. Каждый из героев Сирина по-своему решает эти вопросы и делает свой нелегкий выбор.
Хронологические рамки событий, описываемых в рассказах сборника, охватывают период со второй половины XIX века (первые годы после окончания Кавказской войны) и до первых двух десятилетий XXI века – от времени правления Александра II до постъельцинского времени современной России. В произведениях Сирина нашли отражение многие сложные исторические перипетии этих полутора веков истории нашей страны: Кавказская война девятнадцатого века, Октябрьский переворот и последующая за ним Гражданская война, ГУЛаг, Великая Отечественная война, хрущевская «оттепель», распад СССР, две чеченские войны и шоковая терапия реформ 1990-х годов. В произведениях Сирина очень много знаковых вещей и деталей, характеризующих ту или иную эпоху: частушки, анекдоты, эстрадные песни и переделки этих песен в городской низовой культуре. Этот фольклорный антураж дает возможность прочувствовать атмосферу посиделок советской интеллигенции в хрущевско-брежневское время – фрондёрские беседы на «скользкие» политические темы, разговоры про искусство – кино, музыку, литературу, сдобренные анекдотами на «на злобу дня» и популярными советскими песнями, переделанными на свой фрондерский лад. Все то, что по словам одного советского писателя называлось «подкусыванием советской власти под одеялом».
Сюжеты некоторых рассказов своими сюрреалистическими поворотами заставляют нас вспомнить произведения Н. В. Гоголя, еще одного писателя, чье творчество также связано с городом на Неве, – Германа Шефа[3] и, конечно, Франца Кафку, в произведениях которого, по замечанию Ю. Трифонова, на первый взгляд, «все достоверно, кроме какого-нибудь одного обстоятельства; того, например, что Замза превратился в насекомое». В post-punk романе «Осквернитель праха» есть также аллюзия на роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», в частности на монолог великого инквизитора, только в произведении Сирина в роли великого инквизитора выступает баптистский проповедник.
Александр Чечулин,литературный критик.
Осквернитель праха
post-punk роман
Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод…
Максимилиан Волошин. «Петроград»(Из цикла «Пути России». Сергею Эфрону)
Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь?
Ф. Ницше. «Веселая наука»
«Сколько я помню, этот портрет – портрет председателя уездного реввоенсовета Левина – всегда висел в кабинете моего отца.
С этим портретом связано одно мое детское воспоминание. Как-то утром я спустился со второго этажа, из спальной комнаты, в рабочий кабинет отца. Дверь в кабинет отца была приоткрыта. Я видел спину отца. Он стоял перед портретом Левина, и тут произошло нечто такое, что весьма сильно поразило меня и что никак не связывалось со сложившимся у меня образом моего отца – аскетичного, сдержанного человека. Отец сделал шаг к портрету и вдруг неожиданно произнес: «Будь ты проклят, старик!» и плюнул на портрет. Уже позже, спустя годы, я узнал, что у Левина в большевистском подполье было прозвище «Старик». Возможно, я сделал какое-то движение и отец услышал шум у себя за спиной, а может, он сам почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, но, резко обернувшись, он сурово посмотрел на меня:
– Подойди ко мне! – сказал он.
Я подошел.
– Ты уже не мальчик, достаточно взрослый и понимаешь, что об этом никто не должен знать. Ты меня понимаешь?! – он окинул меня своим суровым взглядом.
– Понимаю, – кивнул я в ответ. Я был смущен и растерян. Открылась какая-то неведомая мне, скрытая сторона души моего отца.
Но тогда я не решился и побоялся о чем-либо расспрашивать его. Лишь спустя годы, когда я уже учился в Горном институте, в разговоре с отцом я вспомнил этот случай. Собственно, тогда я впервые услышал историю этого портрета, фамилию художника и то, как этот портрет оказался в нашем доме, у моего отца. Потом, приезжая в отпуск на родину, в разговорах с родственниками и знакомыми отца я узнал еще много разных подробностей, связанных с этим портретом и человеком, изображенным на этой картине.
Один местный художник, желая польстить Левину, который в то время возглавлял уездный реввоенсовет, решил написать его портрет. Композиция портрета в чем-то напоминала известную картину Петрова-Водкина, на которой был изображен цареубийца Ленин: Левин сидел за огромным столом, на котором была растянута карта нашей Кубанской области, сверху которой лежал циркуль. По материнской линии Левин происходил из калмыцкого рода, и на этой картине его азиатские черты были как-то отчетливо подчеркнуты, что еще более усиливало сходство картины Петрова-Водкина и портрета Левина кисти нашего местного художника. Возможно, столь резко очерчивая азиатские черты во внешности Левина, художник хотел подчеркнуть дальнюю генеалогическую связь калмыков с великими завоевателями из рода чингизидов. Подобно многим большевистским руководителям разных рангов тех времен, Левин в повседневной жизни предпочитал ходить в военном френче, но художник почему-то решил изобразить его в черкеске. Возможно, художник полагал, что черкеска придает некую мужественность портрету Левина. Но несмотря на различные художественные ухищрения, портрет председателю уездного реввоенсовета решительно не понравился. Рассказывают, что картина столь сильно возмутила нашего диктатора, что он приказал всенародно высечь нашего местного Петрова-Водкина.
На центральной площади выстроили помост и размещенном на нем нем скамейке растянули этого незадачливого портретиста. Молодцеватый парень в красной кумачовой косоворотке, в штанах из пестрядины, заправленных в до блеска начищенные хромовые сапоги, под улюлюканье собравшейся на площади толпы праздных зевак начал старательно разминать розгами спину нашего местного художника-самородка. Рассказывают, что молодцеватый парень, подгоняемый улюлюканьем и свистом толпы, так увлекся, что спина незадачливого портретиста превратилась в сплошное кровавое месиво. Толпе подобные публичные акты весьма нравились.
Вообще надо заметить, что наш уездный председатель реввоенсовета был большой специалист по части различных истязаний. Он, например, возродил древнюю казнь – усаживание на кол. Возрождены были и другие старинные методы истязаний: отсекание конечностей, вырывание ноздрей, а кроме того закоренелым преступникам, подобно тому как коннозаводчики отмечали владельческим тавром своих лошадей, фигурными штемпелями с длинными иглами, по которым ударяли киянкой, наносили слова, указывающее на род преступной деятельности или же только аббревиатуры юридических терминов правонарушений. В рану, образовавшуюся на теле от длинных игл штемпеля, затем втирали черную тушь и в результате на теле человека, уличенного в совершении того или иного преступления, появлялась татуировка, указывающая на вид правонарушения. Мелким карманникам и прочим, совершившим гражданские правонарушения, на лопатке или предплечье ставили татуировку в виде отметок: вор, хулиган и так далее. К наиболее тяжким видам преступлений относилась контрреволюционная деятельность: таким осужденным на лбу ставили клеймо из трех букв КРД.
Ходили слухи, что в тюремных изоляторах существовала еще одна форма казни, когда преступника помещали в емкость с цементным раствором или же просто заживо замуровывали в стену.
Карманников, уличных хулиганов и прочих мелких правонарушителей, не замешанных в контрреволюционной деятельности и попавшихся первый раз, подвергали публичной порке, иногда розгами, а тех, кто уже неоднократно был уличен в подобном противоправном проступке, наказывали нагайкой и ставили клейма.
Народ любил эти публичные казни и многое готов был простить нашему сумасбродному правителю. Для жителей нашего провинциального города эти публичные казни стали тем же, чем для жителей крупных губернских центров являются театры. Конечно, как и в любом приличном уездном городишке, у нас в те самые, заклейменные большевиками царские времена существовал театр, однако он и в лучшие годы не собирал более нескольких десятков энтузиастов. А с приходом большевиков театр и вовсе прекратил свое существование. Местная театральная труппа разбежалась, а здание театра передали большевистскому литературному обществу «Красный молот», где с утра до глубокой ночи доморощенные поэты из далеких станиц читали свои революционные вирши. Но народные массы в большинстве своем оставались безучастными к бодрым революционным рифмам большевистских сказителей. Красочные афиши, развешанные по городу, привлекали не более двух десятков любителей большевистских агиток, как будто над зданием театра висело какое-то проклятие. Иное дело казни: народ валил на них целыми толпами, шли семьями, с малыми детьми, как на какое-то народное гулянье. Специально для оповещения горожан наш председатель реввоенсовета выделил автомобиль, на котором ездил глашатай, через громкоговоритель оповещавший граждан о грядущем событии. Кроме того, по городу накануне этих публичных форм наказания вывешивались яркие плакаты, на которых крупными буквами была написана фамилия осужденного и указывалось какой вид наказания будет применен в отношении того или иного преступника. Если мелких правонарушителей подвергали публичной порке, то наказанием для арестантов, осужденных за контрреволюционную деятельность, была смерть. При этом рядовых контрреволюционеров предпочитали умерщвлять через повешение, в то время как руководителей контрреволюционного подполья или тех, кого к таковым относили, предавали изощренным методам казни: четвертовали или же усаживали на кол. Правда, все эти изощренные методы казней Левин предпочитал проводить не на центральной городской площади, а в окрестных станицах. Рассказывали, что в одном из боев большевики взяли в плен около трех десятков белогвардейцев и все они были посажены на кол на главной станичной площади. Правда, позднее, когда большевики упрочили свою власть и на далеких окраинах, изуверские казни были прекращены и методы физических расправ над преступниками были приведены в соответствие с директивными нормами советских судебных органов. Тем не менее ходили упорные слухи, что в тюремных изоляторах для своих близких соратников наш уездный председатель реввоенсовета продолжал практиковать эти средневековые формы изощренных истязаний.
А что касается той самой злополучной картины нашего местного Петрова-Водкина, то ее судьба оказалась не столь печальной, как судьба ее автора. Поначалу, как мне рассказывал отец, наш диктатор хотел картину уничтожить, но потом передумал – как-никак на картине был изображен его лик – и подарил ее моему отцу.
Мой отец был одним из немногих, кто знал нашего будущего диктатора в те времена, когда тот, будучи еще мальчиком, вместе со своей семьей переехал в наш город.
Его прадед был из мелкопоместных дворян – имел небольшое поместье в Курской губернии. Однако вскоре после известного манифеста царя Александра Второго об освобождении крестьян семья Левина, не сумев приспособиться к новым условиям, разорилась. Так что отец Левина ничего, кроме дворянского титула, не унаследовал от своего прародителя. Правда, он не особенно горевал от потери поместья в Курской губернии – при дележе имущества с его многочисленными родственниками ему едва ли досталось бы приличное состояние. Он к тому времени работал инспектором в землеустроительной комиссии и был женат на дочери зажиточного калмыка, так что жил вполне благополучно.
Семья моего отца, в отличие от Левиных, ни дворянского титула, ни имения не имела. Мои предки относились к мещанскому сословию. Правда, один из наших родственников, двоюродный брат моего деда, Рукавишников, кстати говоря, дальний родственник петербургских купцов Рукавишниковых, сумел выбиться в купеческое сословие – из мещан был переведен в купцы третьей гильдии. Но мой дед, как и все наши далекие пращуры Сирины, не имел каких-либо задатков для занятий торговлей, поэтому вынужден был искать какое-то иное предназначение в гражданской жизни. Он сумел закончить медицинский факультет Киевского университета и работал врачом. И вот в качестве врача он и оказался на черноморском побережье. Это было в ту пору, когда только-только закончилась война с горцами.
На месте нашего города в то время были селение шапсугов и небольшой укрепленный форт русской армии, строительство которого было начато сразу после окончания войны с горцами. Позднее форт Веньяминовка, названный так в честь русского офицера, руководившего строительством укреплений, был преобразован в станицу Веньяминовскую, которая в начале двадцатого века получила статус уездного города. Но все это было позже, а в те времена это было одним из мест, откуда происходило переселение черкесов в Турцию.
Огромные толпы черкесов, узнав, что русский царь собирается переселить их с предгорья на равнины, устремились на берег, к форту Веньяминовка, в поисках рыболовецких баркасов, чтобы переправиться к своим единоверцам в Турцию. По всему побережью были раскиданы шалаши и палатки черкесов, ожидавших лодок и баркасов с турецкой стороны.
Мой дед в качестве врача осматривал эти временные лагеря переселенцев, а также покинутые аулы, чтобы исключить какие-либо инфекционные эпидемии. Я помню, он рассказывал, как приехал в одно такое покинутое черкесское селение. Аул был пуст, с петель сорваны двери, вокруг домов были разбросаны сломанные ставни, битая глиняная посуда горцев. Стоявшая в середине аула мечеть была захламлена, во дворе мечети лежали разбитые дощечки-шамаиль с выписками из Корана. По огромному аулу слонялись толпы расквартированных солдат. Дымились костры, солдаты готовили пищу. Вокруг костров лежала разломанная мебель горцев. Еще недавно здесь кипела жизнь, раздавались шум и визг детворы, крики петухов, блеяние стад овец. Все смолкло. Везде царили разруха и запустение.
А три дня спустя дед поехал на побережье с полковым лекарем. На берегу под ветхими навесами сидели черкесы, ждали, когда какой-нибудь баркас заберет их. Чуть поодаль возле костров сидели солдаты – сторожили, чтобы черкесы не вернулись обратно в горы. Дымились костры, готовилась еда, черкесы – мужчины, женщины, дети с унылыми, отрешенными лицами – сидели и смотрели в синеву моря, где белели паруса рыбацких баркасов. Веселье покинуло их, даже дети с изможденными лицами слились со своими пожилыми родственниками.
Начальствовал над воинской командой молоденький офицер-армянин по фамилии Лорис-Меликов, родственник начальника Дагестанской области Левана Меликова.
Под одним из навесов сидел пожилой седой горец. Он раскачивался, как маятник, и что-то бормотал себе под нос.
– Что он бормочет, молится? – спросил офицер своего толмача.
– Нет, проклинает русского царя. Приказать ему, чтобы он замолчал? – спросил толмач.
– Пусть бормочет свои проклятия. Никому нет дела до слов этого дикаря, пусть бормочет, – ответил офицер.
Тем временем небо затянуло черными тучами, стал накрапывать дождь, который вскоре превратился в ливень. Несколько уже отчаливших рыбацких шхун вновь пристали к берегу.
Офицер подошел к лодкам:
– Почему вернулись?
– Гроза, – ответил один из рыбаков, – на море большие волны, буря. Опасно!
– Отправляйтесь назад! Вам уже все оплачено. Мне приказано в течение двух недель очистить берег.
Рыбаки какое-то время пререкались, а потом под непрерывным ливнем баркасы вновь отчалили от берега.
Спустя десять дней мой дед проходил по этому участку берега, где еще недавно стояли навесы горцев, и увидел на берегу прибитые волной трупы: чьи-то баркасы перевернулись в море, не дойдя до желанного турецкого берега. Ходили слухи, что турецкие перевозчики выбрасывают в море переселенцев.
А через две недели после всех этих событий мой дед оказался в Кбаадэ, где великий князь Михаил Николаевич принимал парад русских войск по случаю окончания Кавказской войны. После парада присутствующих пригласили на торжественный ужин. Деда усадили за стол с каким-то полковым священником и двумя молодыми офицерами. Священник был пьян и раз за разом обращался к сидящим с ним за одним столом офицерам, призывая сказать тост за православную церковь.
– Господа, только не забывайте церковь! В этой победе немалую роль сыграли молитвы нашей матушки-церкви, – лепетал пьяный батюшка, обращаясь к офицерам, – приглашаю всех на молебен по случаю годовщины победы…
А перед глазами моего деда стояли навесы беженцев-черкесов, трупы выброшенных морем на берег горцев… С того времени, как мне говорил дед, он перестал ходить в церковь. Он стал христианином без церкви…
С тем молодым офицером-армянином судьба вновь свела моего деда через пятьдесят лет, в Новороссийске, во время Гражданской войны. Здесь, в Новороссийске, мой дед оказался вместе с отступающими частями белой армии. Здесь же был мой отец, который, как и дед, был медиком. Только в отличие от деда он заканчивал медицинский факультет не в Киеве, а в Москве. В девятнадцатом году он был мобилизован в белую армию и прошел с ней путь от Ростова до Воронежа, а потом вместе с отступающими частями дошел до Екатеринодара, где в одном из полевых госпиталей встретил своего отца, моего деда. И они уже вместе проделали путь до Новороссийска. Уже спустя годы отец рассказал мне про весь ужас отступления добровольческой армии Деникина до Новороссийска: вся дорога была запружена отступающими частями и беженцами. Ходили разные слухи про злодеяния, которые вытворяют большевики в захваченных ими городах и селах, поговаривали, что следом за кавалерией Буденного идут латышские стрелки, которые устраивают массовую резню членам семей участников белого движения, насилуют женщин. И вот, спасаясь от надвигающейся катастрофы, простые обыватели, оставив дома и имущество, захватив с собой лишь необходимые вещи, устремились к морю в надежде, что союзники вывезут их в Турцию или в Крым, где, по слухам, генералу Слащеву удалось на Перекопе остановить красных. В непролазной грязи медленно продвигалась многокилометровая вереница телег и повозок. Стоял нескончаемый гул из разнообразных криков, плача, артиллерийской канонады, которая была слышна от быстро приближающегося фронта. Все было против этих несчастных людей, застрявших в непролазной грязи; сама природа тоже, кажется, за что-то осерчала на них, и с неба, как при потопе во дни Ноя, нескончаемым потоком лился дождь с мокрым снегом. С большим трудом моим деду и отцу удалось найти пристанище в Новороссийске, снять комнату у одного из местных жителей.
Они прожили там около недели, пытаясь пристроиться на какой-нибудь транспорт, но все безрезультатно – толпы людей с остервенением штурмовали корабли, пытаясь протиснуться внутрь транспортов.
В городе царила паника. В отдалении слышалась артиллерийская канонада – корабли английской эскадры обстреливали окрестные горы, где, по слухам, уже находились красные. В порту слышались взрывы. Говорили, что это взрывают боеприпасы, чтобы они не достались красным. Черные клубы дыма поднимались над заливом – в порту жгли цистерны с нефтью. Ходили разные слухи: одни утверждали, что красные уже вышли к станции Гайдук, другие говорили, что шотландские стрелки, которые помогали добровольческой армии оборонять город, отбросили красных.
И вот в один из этих смутных дней во двор дома, в котором размещались мой отец с дедом, зашел молодой поручик добровольческой армии. С ним были высокая, статная, красивая молодая женщина и пожилая супружеская чета – пожилой армянин, одетый в черкеску, и пожилая женщина в черном пальто, укутанная сверху шалью. Офицер обратился к хозяину дома, чтобы тот нашел для них место для ночлега на несколько дней. Хозяин дома поначалу отказывался разместить их, затем, вняв просьбам и угрозам молодого поручика, все-таки согласился. Поскольку свободных мест в доме не было, то пришлось моему отцу с дедом потесниться: в комнате, где они жили, сделали временную перегородку, по одну сторону которой разместились вновь прибывшие постояльцы, по другую – отец с дедом. Офицер все время пропадал в порту, пытаясь найти транспорт, а его родители и жена оставались в доме.
Отец рассказывал, что старый армянин днем сидел на кухне, монотонно раскачивался корпусом и бессмысленно повторял одну и ту же фразу:
– За что?! За что Бог наказал нас?
Раз за разом он повторял эту фразу.
С самого начала встречи с семьей пожилого армянина как вспоминал мой дед, его не покидало чувство, что когда-то он уже встречался с главой этого семейства, но вспомнить, где и при каких обстоятельствах они встречались, он не мог. В конце концов, за плечами деда была длинная жизнь, в которой было много разных встреч и расставаний, и удержать все эти события в голове уже немолодому человеку было не просто. И вот однажды, когда старик армянин все так же сидел на кухне и что-то бессвязно бормотал про себя, в голове у деда как будто что-то щелкнуло: как сквозь затянутое тучами небо выглядывает солнце, перед глазами деда всплыла картина далекого шестьдесят шестого года – в этом бормотавшем бессмысленные фразы старике мой дед узнал того молодого офицера, который занимался депортацией черкесов.
Дед обратился к нему:
– Вы, наверное, меня не помните? Пятьдесят лет назад вы здесь, на побережье, занимались депортацией черкесов. Я тогда был прикомандирован сюда в качестве врача. Помните?
Нет, покачал головой старый армянин, он не мог вспомнить моего деда. Тогда мой дед стал вспоминать разные события того далекого шестьдесят шестого года – вечер в доме генерал-губернатора, рыболовецкие баркасы, которые перевозили черкесов в Турцию, и тут из закоулков памяти этого пожилого армянина вспыли картины событий тех далеких лет: он вспомнил побережье возле форта Веньяминова, сидящих под навесами черкесов, ожидающих рыбацкие баркасы, которые бы переправили их в Турцию.
– А помните старика-черкеса, который одинокий, покинутый всеми сидел под одним из навесов и, так же как вы сейчас, что-то бормотал про себя? Старый черкес в черной грязной бурке, в черной папахе. Помните?
– Да-да, что-то смутное вспоминается. А что говорил этот старый черкес?
– Он проклинал русского царя, – ответил мой дед.
– Проклинал царя, – вслед за дедом задумчиво повторил старый армянин. – Наверное, он имел на это право. Да, имел право.
Помолчав, он вопросительно посмотрел на моего деда и спросил:
– И что же, вы сейчас действительно думаете, что нас постигло проклятие этого старого черкеса?
– Скорее, нас постигло собственное проклятие. Каждая империя несет в самой себе проклятие. Рано или поздно каждой империи, выстроенной на крови и насилии, приходит конец.
Молодой поручик оказался более удачливым, чем мои отец с дедом: через три дня он со своими престарелыми родителями и женой уплыл на английском транспорте в Константинополь. Корабли уплывали по тому же самому маршруту, что и пятьдесят лет назад рыболовные шхуны, перевозившие согнанных со своих земель черкесов…
Огромная толпа народа – несколько сотен, а может, и больше тысячи человек – осталась стоять на пирсе. Они с глубокой тоской и печалью смотрели вслед уходящим кораблям, которые увозили счастливцев от этого страшного берега, где вскоре должны были разыграться кровавые сцены братоубийственной войны. Им оставалось только ждать и надеяться, что судьба в этот раз к ним будет более милостива, что все эти рассказы про зверства красноармейцев и латышских стрелков – всего лишь досужие вымыслы. Но многие предпочитали смерть этой туманной неопределенности своего будущего. Прямо здесь, на пирсе, разворачивались кровавые драмы страшной братоубийственной войны. Несколько раненых офицеров, не сумевшие попасть ни на один транспорт, предпочли прямо здесь, на пирсе, добровольно свести счеты с жизнью, нежели попасть в руки красных. Очевидцы всех событий рассказывали жуткую историю про капитана Дроздовского полка, который пытался пробиться на один из последних транспортов с женой и двумя малолетними детьми – девочками трех и пяти лет. Видя, что нет возможности попасть на транспорт, и слыша приближающуюся к пристани стрельбу, офицер, перекрестившись, поцеловал своих дочек, а затем каждой из них выстрелил в ухо, затем перекрестил жену, поцеловал ее на прощание и так же в ухо выстрелил ей, а последнюю пулю пустил себе в лоб.
Мои дед и отец решили возвращаться в Веньяминовку, где у них было хоть какое-то пристанище – дедовский дом уездного лекаря в прибрежной части города, на берегу реки Паук. Так они остались в России – теперь уже советской.
Отец не любил вспоминать о Гражданской войне, хотя порой мне и удавалось склонить его к воспоминаниям о тех страшных событиях. Он был хорошим рассказчиком, но словоохотливостью не отличался, в моей памяти он остался сосредоточенно-хмурым. Моя тетя Серафима рассказывала, что раньше он был другим, но после смерти своей жены, моей мамы, изменился и стал таким, каким мы его и помнили… Мне в год смерти мамы было три года и её я почти не помню. Она умерла при родах вместе с неродившейся моей сестрой. Потом, когда я подрос и стал интересоваться, почему у других есть мамы, а у меня – нет, отец отвечал, что мама уехала в гости к родственникам, в Италию, в Геную. Я в эту историю в детстве всецело верил, но потом узнал, что она ушла в иной мир, но это была не Италия и не Генуя. Почему отец назвал Геную, не знаю, но в этом названии было что-то поэтическое, и мне хотелось верить, что именно так и обстояло дело…
Сложно сказать, как бы сложилась судьба моего отца, не случись встречи в гимназические годы с нашим будущим диктатором. Они учились в одной гимназии, в одном классе и даже сидели за одной партой. Положение семьи Левиных в ту пору было уже не столь благополучным, как в момент их переезда на кубанскую землю: отец Левина уже не работал в землеустроительной комиссии, а его дед, зажиточный калмык-торговец, разорился. И Левины ничем теперь не выделялись среди простых городских обывателей.
Как рассказывала моя тетя Серафима, отец в гимназические годы был высокий, худой, тощий, а наш будущий диктатор – маленький, нескладный, толстый и над ним, постоянно посмеивались, подшучивали девушки из расположенной по соседству женской гимназии.
По рассказам тети, уже тогда, в детские годы, будущий диктатор отличался изуверскими склонностями. Он ловил лягушек, заталкивал им в задний проход соломинку и начинал надувать их: лягушки превращались в большой пузырь и лопались, как резиновые шарики. Он ловил кошек, привязывал к их хвостам просмоленную паклю, зажигал ее: кошки с визгом уносились прочь… Он собрал вокруг себя ватагу таких же изуверов, они ходили к мучным складам, где было много крыс. Из железных прутьев они сделали себе дротики и ими отстреливали крыс. Маленький, толстый, нескладный, он ненавидел окружающих. Он разыгрывал из себя законченного психа, бесшабашного, чуть что хватался за нож или отточенный напильник.
К тринадцати годам он уже был законченным головорезом. Он сошелся с самыми отпетыми абреками из горских аулов. Его дикие выходки стали притчей во языцех. И его внешний вид соответствовал разудалому образу горского разбойника: подобно самому последнему оборванцу, он ходил в каком-то рваном бешмете.
С ним остерегались связываться не только его одноклассники, но и ребята из старших классов и даже взрослые. Но девушки по-прежнему относились к нему с презрением. Его дикие выходки совершенно не прибавляли к нему симпатии, а скорее наоборот. Как рассказывала тетя, в свои гимназические годы он встречался с какой-то угрюмой, мужеподобной, угловатой девушкой, дочерью одного из деповских рабочих. В четырнадцать лет он исчез, о нем ходили разные слухи – одни рассказывали, что он как будто бы сколотил вокруг себя шайку головорезов, с которыми они орудуют возле Военно-Грузинской дороги, грабят проходящих там путников, другие же утверждали, что он уже давно схвачен за какую-то провинность и теперь сидит где-то далеко в Сибири на каторге… О нем стали забывать, но в лихолетье Гражданской войны он вновь появился – появился в составе одного из красноармейских отрядов. Со времен гимназиии прошло около пятнадцати лет, но оказалось, что он не перестал помнить о своих детских обидах. Уже в первые дни пребывания большевиков в городе прошел слух, что его поставили председателем реввоенсовета, вскоре это слух подтвердился, и по городу были развешаны первые приказы председателя реввоенсовета за подписью Левина. И вот здесь он решил напомнить о себе своим сверстницам – девушкам из женской гимназии. Он дал особое поручение местным чекистам, чтобы те разыскали и доставили к нему девушек из женской гимназии. Жизнь разбросала их по разным городам и станицам, но многих из них все-таки нашли.
Их привели в дом купца Добровольского, в котором обитал наш новый диктатор. Его сверстницы, девушки из женской гимназии, слышали, какую головокружительную карьеру сделал он у большевиков. В городе ходили различные слухи о его зверствах. Рассказывали, что отряд красных, которым он командовал, долго не мог выбить белых, окопавшихся в одной кубанской станице. Тогда он пригнал к позициям белых жителей из соседней станицы – женщин, детей – и погнал их впереди красноармейских цепей. Белые, увидев цепи из мирных жителей, снялись с позиции и отступили. Рассказывали, что всех жителей той станицы, возле которой проходили бои, он приказал казнить. Мужчин посадили на кол, а женщины были изнасилованы и порублены шашками. Возможно, это были лишь слухи, но большинством горожан их реальность не подвергалась сомнениям.
И вот этих молодых женщин, величавых дам из респектабельных семей, его сверстниц из женской гимназии привели в дом купца Добровольского, в котором теперь располагался реввоенсовет. Они были в страхе, не зная, для чего их привели.
И тут появился он: с годами еще более располневший, в военном френче, в высоких хромовых сапогах.
– Вы помните меня? – обратился он к ним. – Мы ведь с вами почти что одноклассники: вы учились в женской гимназии, а я по соседству – в мужской. Помните?
Женщины подобострастно закивали головами, у многих из них мелькнула мысль, что, возможно, все, что рассказывали про диктатора, неправда и эта встреча всего-навсего сентиментальная вспышка человека, чья юность прошла в этом городе вместе с ними. Но вскоре они были разочарованы.
– Я каждый день, утром и вечером, проходил мимо вашей гимназии. Многих из вас я помню по тем годам. Я проходил мимо вас, а вы презрительным взглядом окидывали меня. Для вас я был человек из обедневшей семьи, не имеющий ни гроша за душой, к тому же внешне неприглядный, а вокруг ходило столько красивых хлыщей с утонченными бабьими физиономиями, физиономиями педерастов. И им вы с легкостью отдавались, с ними вы проводили свои вечера, и вот вы теперь здесь, передо мною, гордые гимназические красавицы, – прохаживаясь вдоль стоявших в ряд сверстниц из женской гимназии, говорил он, – и сейчас любая из вас готова отдаться мне, исполнить любую мою сексуальную прихоть, лишь бы сохранили жизнь вам и вашим близким. А может, я ошибаюсь, – диктатор посмотрел на них, – может быть, вы такие же гордые и неприступные, как в те гимназические годы? Что ж, проведем эксперимент.
Он прошелся вдоль женщин вначале в одну сторону, потом в другую.
– Видите моих солдат, – после паузы сказал он, кивая на стоящих в конце зала красноармейцев.
Взоры женщин последовали вслед за рукой диктатора, и на миг перед ними промелькнули физиономии бородатых, угрюмых красноармейцев.
– Они, в отличие от вас, – продолжил диктатор, – не учились в гимназиях. Ими движут простые животные инстинкты. Им нужны еда, выпивка и женщины. Много красивых женщин, таких как вы. Не будь меня здесь, они бы с удовольствием распластали вас, полакомились, порезвились над вами, особенно сейчас, когда в течение нескольких недель изнурительных боев с белыми они не имели рядом женского тела. Так вот, – после паузы сказал диктатор, – сейчас мы проведем следующий эксперимент. По моему приказу вы будете скидывать с себя одежду, так чтобы ничего на вас не осталось. Та, которая воспротивится моему приказу будет отдана моим красноармейцам, равно как и той, которая медленней всех будет скидывать одежду, придется ублажать моих солдат. Итак, – он окинул взглядом женщин, – начали!
И эти дамы из респектабельных семей, гордые и величественные светские львицы, суетливо, нервно начали сдергивать с себя одежду: на пол полетели чулки, блузки, нижние юбки… Никто не хотел быть последней, каждая норовила обогнать соседку. А диктатор между тем прогуливался вдоль строя, презрительно оглядывая раздевающихся женщин – тех, кто когда-то презирал и ненавидел его.
Он ходил взад-вперед; на пол летели блузки, трусы… Одна за другой женщины освобождались от одежды и стояли перед похотливыми и алчными взорами солдат. Те аппетитно разглядывали их белоснежные тела. Наконец последняя из них скинула с себя остатки одежды.
И они стояли в ряд, как солдаты в строю, обнаженные, их ухоженные тела белели в этой большой комнате перед похотливыми взорами солдат. Их руки были вытянуты вдоль туловища, они даже не пытались прикрыть руками срамные места. В их глазах были страх и ужас.
– Так, – прервал длительную паузу диктатор, – теперь надо определить, кто у нас был менее расторопным, кто будет ублажать моих солдат. Ты? – диктатор остановился перед одной из них.
– Нет, я была второй, – запинаясь, проговорила она.
– А может, ты? – остановился он перед другой.
– Нет, нет…
Так он проходил мимо строя, останавливаясь перед каждой, пока кто-то не указал на одну из стоящих.
– Берите! – кивнул он солдатам.
Солдаты потащили женщину. Ее разложили так, как опытные мясники раскладывают тушу перед разделкой.
Та кричала, верещала:
– Помилуйте!!! Умоляю!!!
– Прямо здесь! – сказал диктатор.
Солдаты растянули ее на полу, и в присутствии здесь стоящих женщин один из солдат стал скидывать порты.
Женщина, которую двое держали за руки, всхлипывала и бормотала:
– Умоляю, отпустите…
В тот самый момент, когда солдат готов был уже удовлетворить свое похотливое вожделение, диктатор его остановил:
– Стоп-стоп! Так и быть, мы ее отпустим. А тебе, – обратился он к солдату, – мы найдем другую женщину, из нашей рабоче-крестьянской среды.
Наступила зловещая тишина.
– Знаете, – сказал диктатор, – я вас раньше ненавидел – гордых, спесивых, а теперь презираю. Вот вы стоите передо мной голые, обнаженные, даже не пытаясь прикрыть свои срамные места. Как самые последние продажные шлюхи. Нет, вы даже хуже этих самых продажных шлюх. Я бы хоть немного зауважал вас, если бы среди вас нашлась хотя бы одна, которая бы отказалась раздеваться, и еще больше бы зауважал, если бы нашлась такая, кто с ножом или с чем-то таким кинулась на меня, но, увы, среди вас таких не оказалось… Я мог бы сейчас всех вас отдать своим солдатам, и они бы с наслаждением потешались бы над вами, но это было бы слишком легким наказанием. Я отпущу вас, и вы голые, обнаженные пойдете через весь город к своим домам мимо тех, кого вы называли чернью, кого вы презирали за их безграмотность, мимо тех, кто убирал ваши дома, стирал ваши буржуазные тряпки. А потом вы сами будете ненавидеть себя за свою трусость, будете проклинать день, когда появились на свет. Ночами будете плакать и клясть свою судьбу, завидовать выкидышам.
Диктатор отошел к окну и какое-то время смотрел в сторону базарной площади. Для стоящих здесь голых женщин эти несколько минут показались целой вечностью. Но вот он повернулся, обвел взглядом толпу женщин и сказал:
– А теперь все вы марш на улицу, вот в таком виде, голые, без одежды! Голые, без одежды, пройдете через весь город, до своих домов! Можете взять с собою свои буржуазные тряпки, но если кто-нибудь из вас решится что-нибудь накинуть на себя и хоть как-то прикрыть свои срамные места, того я отдам красноармейцам!
Женщины, поспешно схватив лежавшие одежды и поспешно стянув их в узлы, всей толпой вывалились на улицу. А там, на площади, их ждала толпа зевак, которых специально привели с городского базара. Женщины лузгали семечки, мужчины курили самокрутки. Им сказали, что они смогут увидеть голых буржуйских жен. И они с улюлюканьем и свистом провожали их до самых домов.
Слушая рассказ тети, я испытывал омерзение и отвращение к диктатору и жалел, что среди этих женщин не нашлось нашей местной Фани Каплан, которая подошла бы и плюнула в лицо диктатору или, еще лучше, ткнула бы заколкой ему в глаза.
А спустя два дня к диктатору пригласили моего отца. Отец рассказывал, что на пороге дома появились двое в кожанках.
– Одевайся! – сказали они отцу.
В те времена не принято было задавать вопросы «куда», «зачем». Отец думал, что ведут его в ЧК, а привели в дом купца Добровольского, в котором теперь располагался уездный реввоенсовет.
Там в это время разбиралось дело провинившихся железнодорожников: из-за поломок паровозов произошла задержка с отправкой красноармейцев на фронт против десанта Улугая[4] и железнодорожников обвинили в саботаже.
Их выстроили в коридоре и перед ними прохаживался высокий худощавый чекист. Он остановился перед старым машинистом:
– Так почему не были отправлены составы с красноармейцами?
– Не было паровозов.
– И что, положение было непоправимое, а?
– Мы работали всю ночь, но не успели починить паровозы, – ответил старый машинист.
– А почему вы не обратились к военному коменданту? – спросил чекист. – Он бы дал вам пару бригад из солдат и рабочих.
– Мы люди маленькие, эти вопросы решает начальник депо, мы не в свои дела не суемся. – ответил старый машинист.
– Значит, мы люди маленькие, не в свои дела не суемся? – проговорил высокий чекист. – А сейчас такое время, что нет своих и чужих дел, нет маленьких людей. Кто начальник депо? – спросил чекист.
– Я, – ответил плотный, грузный, седой мужчина.
– А почему не обратились к военному коменданту? – спросил чекист.
– Я полагал, что сами справимся, а потом я думал, что у военного коменданта и без нас забот хватает. – ответил начальник депо.
– Я ему предлагал обратиться, но он отказался, – сказал стоящий рядом молодой человек.
Начальник депо лишь метнул на него презрительный взгляд.
– А ты кто? – спросил чекист.
– Я помощник начальника депо, – ответил тот.
– С этой минуты ты начальник депо, а вот этих, – чекист кивнул на старого машиниста и начальника депо, – расстрелять!
Один из стоящих рядом красноармейцев вытащил револьвер, подошел к начальнику депо и в упор выстрелил тому в голову. Тело последнего качнулось, и он упал. Затем то же самое солдат проделал со старым машинистом. Красноармейцы поволокли к выходу трупы расстрелянных железнодорожников. Кровавый след тянулся по паркету.
Мой отец с двумя сопровождающими прошел мимо трупов по длинному коридору в кабинет диктатора.
Они не виделись давно, но отец узнал его.
Диктатор встал, подошел к отцу.
– Здравствуй Иннокентий, – он протянул отцу руку, – давно не виделись. Наверное, и не догадываешься, зачем тебя привели. Ты ведь, кажется, служил у Деникина? За это я имею полное право расстрелять тебя как контру. Такое сейчас время. Как там нас учили на уроках богословия: кто не с нами, тот против нас. Может, я так бы поступил, если бы не сидел когда-то с тобой за одной партой. Ты, поди-ка, и не вспоминал меня, а вот я тебя не забывал. Твой аккуратненький бисерный почерк, твою прилежность и пунктуальность. Вот решил сделать тебя своим секретарем, а то с прежним все время какие-то огрехи случались. Пришлось его расстрелять. Если и ты допустишь какую-то оплошность, то и тебя придется расстрелять, но я очень надеюсь, что ты будешь аккуратен и прилежен. Ведь мы с тобой как-никак одноклассники, – диктатор похлопал моего отца по плечу.
Так мой отец стал секретарем у Левина, своего бывшего одноклассника, в ту пору председателя уездного реввоенсовета. И пошли канцелярские будни: ночные заседания, приказы, отчеты.
Благодаря своей новой должности отец смог переселиться в дом купца Рукавишникова, нашего далекого родственника. Рукавишниковы в ту пору уже не жили в нашем городе: их многочисленное семейство вместе с отступающими частями белой армии перебралось в Крым, оттуда в Константинополь, а потом уже во Францию. Какое-то время дом пустовал, а потом его занял начальник комендантской роты.
Историю про заселение в дом купца Рукавишникова отец мне рассказал, когда я учился в Горном институте. Спустя месяц работы секретарем в реввоенсовете его вызвал Левин. Отец вначале подумал, что сейчас он даст какое-то новое поручение, но тот неожиданно спросил, в каких условиях живет мой отец.
– Ты по-прежнему живешь в своей старой хибарке на берегу реки Паук? – спросил Левин.
– Да, по-прежнему там, – ответил отец.
– Не подобает секретарю председателя реввоенсовета ютиться в старой хибаре, – сказал Левин. – Надо будет для тебя подобрать подходящее жилье, да и охрану к тебе нужно приставить, какого-нибудь солдатика. Ты все-таки имеешь дело с документами государственной важности.
Мой отец не относился к числу хитроумных прагматиков, но здесь он себя повел именно так – как ловкий прагматик.
– Если можно, я бы устроился жить в доме купца Рукавишникова. Дом очень уютный для работы, к тому же Рукавишниковы приходятся нам дальними родственниками.
Левин внимательно посмотрел на моего отца. Первая мысль, которая промелькнула в голове отца в этот момент, что он зря сболтнул про родственную связь с Рукавишниковыми, что сейчас разговор может принять совершенно иной оборот. Но Левин довольно миролюбиво отреагировал на слова отца.
– А ты не так уж и прост, Иннокентий! А кто сейчас занимает дом твоего бывшего родственника? – спросил Левин.
– Начальник комендантской роты, – ответил отец.
– Ну, для начальника комендантской роты, я думаю, мы подыщем другое жилье.
Спустя неделю отец и мой дед со своим нехитрым скарбом переселились в дом Рукавишникова.
Этот дом имел определенное сходство с усадьбой Рукавишниковых в селе Рождествено в Петербургской губернии, но это сходство больше было связано с ландшафтом. Дом, как и усадьба в Рождествено, стоял на пригорке на берегу реки Паук, и когда весной река широко разливалась, в месте разлива, у излучины реки, на какое-то время появлялось что-то вроде запруды. А по своей архитектуре дом, скорее всего, напоминал севернорусские двухэтажные дома зажиточных крестьян.
Переселение моего отца и деда в дом Рукавишниковых случилось незадолго до знаменитого процесса об изъятии из православных церквей культовых предметов, изготовленных из драгметаллов. Вся многочисленная переписка с Москвой и местными советскими органами лежала на моем отце. Отец несколько раз рассказывал об этом, начиная с того самого первого заседания, когда Левин перед собравшимися из различных станиц уезда партийными руководителями прочитал директиву ЦК. Именно мой отец стенографировал все эти заседания, связанные с директивой об изъятии церковных ценностей.
– Из Москвы пришла директива, согласно которой мы должны изъять все находящиеся в церквях ценности, – открывая заседание, сказал Левин.
– Правильная директива! Давно пора этих попов искоренить! – загалдели присутствующие партработники.
– Дело на самом деле не очень простое. Гражданская война закончилась, и вот так открыто уничтожать попов как класс, как социальную прослойку в нынешних условиях может вызвать бурную реакцию у мирового сообщества, – заметил Левин.
– Товарищ Левин, а что нам до этого мирового сообщества, до этих капиталистов и буржуев?! Скоро и там, в этих буржуйских странах, рабочий класс возьмет власть в свои руки! – крикнул один из присутствующих.
– Видите ли, товарищи, – ответил Левин, – мировая революция, о которой в своих выступлениях говорит товарищ Троцкий, дело не одного дня. Для начала нам самим нужно встать на ноги, чтобы иметь возможность оказать помощь своим братьям по оружию в других странах. И в нынешней ситуации руководство нашей страны решило пока что воздержаться от открытой конфронтации с буржуазными странами. Нам нужно поднять экономику страны, преодолеть страшную разруху Гражданской войны и в максимально быстрые сроки организовать помощь голодающим Поволжья. Вот для этого и нужны церковные ценности, но все нужно провести тихо, без лишнего шума. В этой директиве ЦК, подготовленной товарищем Лениным, все и описано, весь процесс этого дела и как мы должны поступать. В течение месяца газеты на местах должны ругать местные советские органы за бездействие, за то, что, в то время как люди умирают от голода, церковники проводят сытую жизнь, что церкви ломятся от золота. При этом важно, подчеркивает Владимир Ильич, чтобы антирелигиозная пропаганда ограничилась личностями отдельных гнусных попиков и пока бы не затрагивала каких-то основ религиозного мировоззрения. Сейчас народ, подчеркивает Владимир Ильич, еще не готов к подобной фронтальной атеистической пропаганде, а лет через пятнадцать они сами будут срывать кресты с куполов храмов. Мы их потихоньку подведем к этому, а сейчас важно сосредоточиться пока что на частных религиозных деталях. Чернить в прессе пока следует исключительно церковников, а попутно нужно из их среды подбирать коллаборационистов, готовых сотрудничать с советской властью, тех, кто изнутри будет подрывать эту церковную организацию.
Кроме того, следует устроить пару провокаций. Проконвоируем в одну из наших местных церквей арестантов, которых мы заблаговременно переоденем в чекистов, и там, в здании церкви, устроим перестрелку: пристрелим этих переодетых в форму чекистов арестантов. Начальник местного Губчека должен дать невнятное интервью: дескать, дело сложное, будем разбираться и так далее. А местные газеты должны яростно критиковать местные советские органы, в том числе и за якобы проявленную нерешительность местных чекистов. Тем временем мы должны составить списки вещей, подлежащих экспроприации по каждой церкви, и список священников, всех этих фанатично настроенных, которых мы должны в день Х уничтожить.
В день Х я выступлю с обращением в газете, что в ответ на многочисленные письма трудящихся реввоенсовет Веньяминовского уезда решил применить самые радикальные меры в отношении церковников и прочих контрреволюционеров. И вот в этот день Х мы им устроим Варфоломеевскую ночь… У них еще долго будет стоять звон в ушах от наших репрессий. И все должно быть проведено быстро и самым решительным образом. Как говорил один политический писатель, «репрессии должны проводиться жесточайшим образом и в кратчайшие сроки, ибо длительных репрессий народ, как правило, не выдерживает». Руководство всей этой операцией товарищ Ленин возложил лично на товарища Льва Троцкого. Остальные, знаете, слишком мягкотелые. Я думаю, что мы не подведем товарища Троцкого.
Отец мне рассказывал о тех страшных днях коммунистической Варфоломеевской ночи. Впрочем, сейчас об этом уже написано очень много…
Спустя некоторое время после тех ужасных и страшных событий Левин заболел: у него случился левосторонний паралич, а ему в ту пору было всего тридцать пять лет. К тому времени уездный реввоенсовет был преобразован в уездный Центральный исполнительный комитет, и председателем ЦИК стал бывший телохранитель Левина – Воронок. Он был из курских крестьян, дворовых крестьян семьи Левина, а потом, когда семья Левиных переехала к нам в город, они взяли Воронка, тогда еще мальчонку, к себе в дом в качестве прислуги.
Мой отец рассказывал, что назначение Воронка председателем уездного ЦИК вызвало страшную ярость у больного Левина.
– Это православный Бог меня наказал! – сидя на кровати в одной ночной сорочке в неистовстве кричал Левин. – Я разрушил его храмы, а он меня поверг в унижение: теперь мой бывший слуга, неграмотный мужик, руководит мною! Мы взяли власть, а теперь она достается этому тупому, безмозглому мужику!
В один из дней Левин отправил моего отца с письмом в секретариат уездного ЦИК, чтобы собрать экстренное заседание Совета.
Машину, в которой ехал мой отец, остановили на Круглой площади, недалеко от дома купца Добровольского, бывшего здания реввоенсовета, в котором теперь располагался уездный ЦИК. Два чекиста пересадили моего отца в другую машину и увезли в дом купца Суханова, в котором располагалось местное ЧК.
Его повели к Воронку. До этого моему отцу уже не раз приходилось встречаться с Воронком, но раньше, как мне рассказывал отец, этот угловатый, угрюмый мужик не произвел на него какого-то впечатления. А теперь перед ним сидел совсем другой человек. Во всем его облике выступало что-то звериное: высокий, сутулый, с длинными, могучими волосатыми руками, мощными надбровными дугами он был похож на гориллу. Скуластое лицо, глубоко посаженные маленькие глаза пепельно-серого цвета, волосатая грудь, видневшаяся из-под распахнутой рубашки, еще более усиливали это сравнение. От него исходила какая-то зловещая звериная мощь и энергия.
Какую-то минуту Воронок своими звериными глазами ощупывал моего отца, а потом, слегка наклонившись над столом, спросил его:
– Ты работаешь у хозяина секретарем?
Левина Воронок по-прежнему называл хозяином.
– Да, – ответил мой отец.
– Ты все записываешь, что он говорит? – спросил Воронок.
– Нет, только то, что он просит.
– Итак, все, что ты записываешь у него, в первую очередь должен видеть я. Если какая-нибудь бумажка пройдет мимо меня, я тебя зарежу.
Лицо Воронка при этом оставалось все таким же эмоционально выхолощенным: никакой мимики, никаких жестов. Его глаза пепельно-серого цвета, напоминающие затянутое серой хмарью осеннее небо, немигающе, как будто просвечивая рентгеном внутренние органы, смотрели на отца. Отец рассказывал, что тогда, в кабинете Воронка, его охватил леденящий ужас: он вдруг вспомнил расстрелянных железнодорожников и того высокого худого чекиста, в котором он узнал Воронка. Именно тогда, говорил отец, он почувствовал, что тот, кто сидит перед ним, не человек, а существо иного рода, некий примат, стоящий на ступеньке эволюции между человеком и животным миром. В Левине при всей его злобности и жестокости иногда просыпалось нечто человеческое, и его жестокость и злоба также имели человеческую природу: озлобленность на людей и на жизнь, вследствие тяжелых детских переживаний.
Воронок начисто был лишен человеческого: это была какая-то смесь патологической эволюции человекообразного существа – смесь всего худшего, что есть в человеке и в животном… Физически он был очень сильным, и это была дикая, природная сила.
Здесь, в кабинете, отец передал Воронку письмо больного диктатора Левина.
Ночью Воронок приказал собрать всех членов уездного Центрального исполнительного комитета. Их привезли глубоко за полночь, заспанных, испуганных этим неожиданным вызовом.
– Хозяин прислал письмо, – оглядев усевшихся вдоль длинного стола членов ЦИК, сказал Воронок. – Прочитай! – кивнул он моему отцу.
Отец, оглядев публику, начал читать письмо Левина:
– «Тревога и опасение за будущее нашего края заставили меня обратиться в Совет с просьбой о созыве внеочередного, чрезвычайного заседания Центрального комитета. По состоянию здоровья я вынужден был отойти от дел. В мое отсутствие членами Центрального исполнительного комитета временно исполняющим обязанности председателя был назначен товарищ Воронок. Для многих членов Совета такое решение казалось закономерным, ведь многие годы товарищ Воронок был рядом со мной. Узнав об этом решении Совета, я был просто потрясен. Воронок совершенно не способен к руководящей работе, тем более на такой ответственной работе, как руководство большим уездом. Партийная принадлежность Воронка не соответствует его убеждениям. Воронок не марксист и за свою жизнь не прочитал ни одной книги, так как в силу своей неграмотности не в силах был это сделать. В силу своего низкого культурного развития он представляется опасным на руководящей должности, поскольку совершенно не способен анализировать свои поступки и дать им объективную оценку. Товарищ Воронок хорош только для выполнения мелких поручений, именно в таковом качестве его и следует использовать и ни в коей мере не допускать до руководящей должности.
Подпись: товарищ Левин».
– Что скажете, уважаемые? – оглядев присутствующих, спросил Воронок. Он спрашивал так, как будто речь в письме шла не о нем, а о ком-то другом.
– У нас других кандидатур нет.
– Мы полагаем, вы справитесь.
– Так и напишите хозяину, что Совет единогласно принял решение утвердить меня первым секретарем. – продиктовал он секретарю.
Спустя десятилетия журналисты и историки, рассказывающие про это заседание, в один голос будут утверждать, что члены уездного ЦИК, оставив Воронка председателем, несмотря на суровое письмо Левина, преследовали свои цели: каждый клан, пользуясь малограмотностью Воронка, собирался сделать его игрушкой в своих руках.
В действительности ни о какой далеко идущей стратегии членов Совета говорить не приходилось. По словам моего отца, всех членов Совета, этих непримиримых борцов с «контрой», в этот момент охватил смертельный, животный страх. В последующем историки много писали о культе личности Воронка, но и здесь они ошибались.
Он был лишен обычных человеческих чувств: в нем отсутствовали чувства жалости и страха. Он не понимал, что такое слава, тщеславие. Все эти висящие на центральных улицах огромные портреты Воронка, хвалебные речи в его адрес, которые произносились на разных заседаниях, оставляли его равнодушным.
Мой отец рассказывал, что его поразила одна картина – сцена, как Воронок ел. Он просто заталкивал в рот пищу, безвкусно ее жевал и механически проглатывал. Он был похож на какую-то машину, которая перемалывает уголь и заталкивает его дальше по транспортеру. Пища жевалась без эмоций, без чувств, сгорая в его нутре, как уголь в топке паровоза.
Так же он относился к женщинам, которых приводили к нему, чтобы он удовлетворял свои звериные инстинкты – сбрасывал время от времени возникающий в его организме физиологический дискомфорт. Это была самая разношерстная публика – студентки училища искусств, балерины из местного театра. Подробные воспоминания об этих событиях оставила актриса Лилия Костина, которая в далекие тридцатые годы также была жертвой сексуальных развлечений Воронка. Отбором женщин занимался начальник охраны. Он же посылал за этими женщинами машину и потом, когда их привозили к Воронку, проводил с ними краткий инструктаж.
– Раздевайтесь! Постарайтесь, чтобы ему понравилось.
Они раздевались. Потом появлялся Воронок. С женщинами он обращался так, как обращаются с собаками – никаких ласковых слов, никаких комплиментов, лишь следовали короткие приказы:
– Ложись на спину, раздвинь ноги… Встань на четвереньки!
И больше никаких звуков. Совершал механические движения; освободившись от физического томления, молча, без всяких благодарностей уходил.
Затем приходил охранник и выпроваживал гостью. Он никогда не интересовался о той или иной побывавшей у него женщине. Для него они были как тарелки, с которых поглощалась пища. В определенные дни к нему приводили женщин, он справлял свою физиологическую нужду и забывал о них.
Его охрана состояла из близких родственников и односельчан из той далекой курской деревни, которой когда-то владели Левины. Они почитали Воронка, преклонялись перед ним, называли его дядей. Они относились к нему так, как в стае волков относятся к вожаку. По любому его приказу они готовы были кинуться на противника и вцепиться ему в горло.
По рассказам отца, уровень Воронка так и остался на уровне ученика начальных классов церковно-приходской школы: он с трудом читал, угловато, коряво писал. В его кабинете не было книг. Он был чужд искусства, литературы, живописи, кино…
Его единственным увлечением было оружие. Во дворе дома, когда-то принадлежавшего полковнику Пиленко, где после войны проживал Воронок, стояли мишени, и он часами стрелял по ним, упражнялся в меткости. Но его главной страстью было холодное оружие. Он высматривал в музеях собрания холодного оружия, а потом отбирал из этих коллекций полюбившиеся клинки, мечи, сабли. По рассказам отца, он, голый по пояс, выходил во двор и, издавая какие-то звериные вопли, саблей рубил ветки стоявших в парке деревьев. Это было его любимое занятие.
Он был зверь, и его отношения с людьми тоже были звериными; такими же звериными были его отношения с бывшим хозяином – Левиным: как между хозяином и собакой. Именно так, как ведет себя собака по отношению к умершему хозяину, он вел себя на похоронах Левина. Бывшие партийцы говорили речи.
Мой отец рассказывал, что это был первый и единственный раз, когда он видел Воронка таким: он был похож на брошенного пса, отвергнутого хозяином.
Гражданскую панихиду устроили в здании нашего уездного ЦИК, в бывшем особняке купца Добровольского. Возле гроба с покойным были установлены длинные ряды стульев, на которых сидели соратники Левина. В центре, низко наклонившись, опустив голову, сидел Воронок. Его могучие руки, подобно собачьим лапам, лежали на коленях и безжизненно свисали вниз. С правой стороны от гроба была поставлена небольшая трибуна, на которую поочередно взбирались бывшие соратники Левина, говорившие, каким тот был человеком и как много потеряла большевистская партия. Молчал лишь Воронок. Иногда его партийные товарищи бросали на него нетерпеливые взгляды, но Воронок никого и ничего не замечал: молча сидел, свесив руки.
А потом, на кладбище, как рассказывал отец, он повел себя вообще очень странно. В присутствии огромного количества народа он вдруг присел на близлежащую могилу и сидел там, пока гроб с телом его хозяина под траурные звуки оркестра опускали в землю. Мой отец говорил, что в этот момент он был похож на брошенного хозяином пса. Отец рассказывал, что в тот момент, когда он смотрел на этого жалкого, совсем на себя не похожего Воронка, у него мелькнула мысль, что тот сейчас завоет, как собака.
Мой отец больше двадцати лет проработал у Воронка (вначале секретарем, а потом директором партархива) и как никто другой изучил все его повадки. «Я двадцать пять лет работал рядом с ним, – как-то сказал отец, – но его сущность, мотивы его поступков так и остались мне непонятны. Он не был человеком. Это была какая-то страшная мутация человека».
Читая различные мемуары, связанные с Воронком, я все более и более прихожу к выводу, что отец был прав, говоря о нем как о какой-то звероподобной мутации.
Собственно, от человека в нем оставались только внешний облик и некоторые навыки человеческого существования; внутри он был зверь, но зверь особого рода, особый вид чудовища. Он каким-то животным инстинктом чувствовал в людях страх, и этот страх приводил его в еще большее неистовство. В отличие от животных он убивал людей не потому, что в этом была потребность утолить голод или необходимость защиты, а потому что это было его сутью звериного нутра, его призванием – нападать и лишать жизни тех, кто слабее его. И в своих зверствах он не знал меры. Немыслимые жертвы репрессий в нашем крае именно этим и объясняются – звериной страстью чудовища убивать.
Это было звероподобное существо особого рода. Отец рассказывал об одном эпизоде, который произошел во время войны. Мой отец сопровождал Воронка, когда тот с группой партийцев посетил передовую.
С холма, где находился наблюдательный пункт, Воронок смотрел в сторону немецких окопов. Один из военачальников пересказывал ему последние данные разведки: количество танков у противника, номера немецких подразделений, задействованных на этом участке фронта. В это время в немецких окопах началось какое-то движение.
Воронок вдруг странно согнулся и в таком полусогнутом состоянии, в каком-то выжидательном оцепенении стал наблюдать за этим движением. Сопровождающие подумали, что он опасается обстрела, но это было совершенно другое. Из него в очередной раз выглянул зверь: он со звериным любопытством смотрел на непонятных для него существ. В этот момент он напоминал какого-то хищника, который неожиданно встречает на своем пути диковинное существо и пытается понять, кто его соперник: такой же, как он, хищник или же неспособное защитить себя слабое животное.
А после войны в его зверином механизме что-то сломалось: он стал пить. Историки по-разному объясняли его послевоенную страсть к выпивке: одни писали, что у темного, невежественного человека это было единственное развлечение, другие говорили, что так он пытался подавить свои страхи. Наконец, третьи находили в этом нечто мистическое. Один писатель даже посвятил целый роман последним годам тирана, которому постоянно мерещатся лица казненных им людей. Но ничего ему не мерещилось. Мой отец объяснял это тем, что в его зверином нутре просто не было иммунитета к алкоголю. Если в молодые годы он неимоверным усилием своей звериной воли с этим еще справлялся, то с возрастом страсть к алкоголю стала пересиливать его способность к сопротивлению, а женщины к тому времени перестали его интересовать. Он тогда уже практически отошел от дел и большую часть времени проводил на одной из правительственных дач на черноморском побережье, которую ему предоставили за особые заслуги. В тридцатые годы этот особняк, когда-то принадлежавший одному из родственников начальника Черноморского округа полковника Пиленко, использовался в качестве пансионата для партийных работников и был нашпигован всякого рода портретами и бюстами различных большевистских руководителей и основоположников научного коммунизма. И в этом особняке прошли последние годы Воронка.
Сохранилось несколько воспоминаний о его кутежах, в частности воспоминания солдата по фамилии Цыбуля, служившего в караульной роте, которая охраняла правительственные дачи и госучреждения.
По его рассказам, Воронок пил всегда один, а потом полуголый с шашкой в руках ходил по особняку. Потом он заходил в зал заседаний, в разных концах которого были установлены бюсты пролетарских вождей. Он по-звериному подкрадывался к ним, заглядывал в их гипсовые глаза, заливался зычным, диким хохотом, потом резко умолкал и напряженно, злобно смотрел на них. Затем начинал кружить вокруг них в каком-то особом зверином танце – раскачиваясь из стороны в сторону, приседая то на одну, то на другую ногу, все быстрее и быстрее, сужая круги своего кружения и с неистовством бросался рубить шашкой эти гипсовые бюсты: удар за ударом, отсекая им различные части их гипсового тела – руки, голову. Иногда он подходил к часовым, заглядывал своим звериными глазами в их лица. Какие-то странные искорки любопытства пробегали в его глазах. Затем точно так же, как раньше возле бюстов, Воронка охватывал звериный хохот. В своих воспоминаниях Цыбуля пишет, что всякий раз, когда Воронок подходил к нему, его охватывал леденящий ужас: ему казалось, что сабля сейчас опустится на него и Воронок, как несколько минут назад с неистовством крушил гипсовые фигуры, точно так же будет рубить его.
В те времена за малейшие провинности люди лишались жизни, но Воронок был вне людского племени. Он был как небожитель, которому позволялись различные проступки, за что простого обывателя ожидало бы суровое наказание.
Под утро, когда уставший тиран заваливался спать, солдаты караульной службы приводили в порядок зал заседаний, убирали изуродованные гипсовые фигуры.
Неизвестно, как далеко завело бы тирана его собственное безумие, если бы не роковой случай. С ним случилось то, что в одном из исторических преданий называется причиной смерти Аттилы: Воронок, как и Аттила, захлебнулся в собственной блевотине. В некрологе написали, что причиной скоропостижной смерти Воронка стал сердечный приступ.
Это случилось буквально за месяц до пятого марта пятьдесят третьего года, когда в Москве умер человек, тридцать лет правивший страной.
Мой отец в то время был уже на пенсии, но продолжал работать в нашем районном партархиве. Собственно, отец и был организатором этого архива. В конце двадцатых, после нескольких лет работы секретарем у Воронка, отцу, занимавшему в прошлом аналогичную должность при нашем первом председателе реввоенсовета Левине, было дано поручение заняться сбором документов по истории местной партийной организации и революционной истории нашего, Веньяминовского уезда. И вот в этом архиве, основателем которого и являлся мой отец, он проработал до семидесяти пяти лет, вначале в должности директора архива, затем, после выхода на пенсию, в должности главного хранителя, а последние десять лет – научным консультантом.
В том самом пятьдесят третьем, в год смерти Сталина, я первый год после окончания Горного института работал на Приполярном Урале, на кварцевом руднике на реке Балбан-ю.
Среди работающих на руднике было немало тех, кто прошел через интинские и воркутинские лагеря. Там, на Большой земле, звучали бодрые коммунистические песни (Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля, / Просыпается с рассветом вся советская страна), а здесь пели о тяжкой доле узников: Этап на Север, срока огромные, / Кого ни спросишь – у всех Указ…
Связь с Большой землей у нас осуществлялась через рацию. Раз в неделю на вездеходах нам оттуда забрасывали почту, продукты и необходимое для работ оборудование и снаряжение.
И вот, я помню, к нам приехал вездеход, привез почту. Взбудораженный водитель разгружал груз и почту и все время повторял: «Сталин умер». Вместе с почтой он привез нам мартовские номера газеты «Правда» с репортажем о похоронах Сталина.
Для многих работающих на руднике, тех, кто прошел через интинские и воркутинские лагеря, усатый тиран был предметом анекдотов и каких-то злобных политических шуточек, но в первые минуты, когда водитель вездехода огорошил нас новостью о смерти Сталина, у многих из них на лицах читалась растерянность: вдруг вот так неожиданно рушился мир, казавшийся доселе незыблемым, – умер тиран, над которым, казалось, смерть не властна, который, так тогда это виделось, будет править вечно – уйдем мы, наши дети, дети наших детей, а всё так же с плакатов на улицах будет взирать усатый тиран, и его речи с характерным сталинским кавказским акцентом всё так же будут звучать по радио. И вдруг оказалось, что тот, преклонение перед которым было сродни обожествлению и почитанию фараона в древнем Египте, оказался простым смертным, беззащитным перед лицом смерти.
Теперь нам было чем занять себя после работы: вместо всяких забавных историй, анекдотов и частушек мы теперь раскладывали пасьянсы про политическое будущее нашей страны – спорили, судачили, кто же будет теперь руководить страной вместо диктатора, тридцать лет правившего страной. При всем нашем разномыслии большинство из нас склонялось к мысли, что место главного правителя займет теперь Берия. В пользу этого говорило и то, что он от лица членов Политбюро выступал с речью с трибуны Мавзолея на траурном митинге.
Вскоре последовала большая амнистия, которую в народе называли «бериевская», – отсюда, с Севера, потянулись составы с бывшими зэками. С собой они везли лагерный, гулаговский фольклор – песни, частушки, и это лагерное наследие долгих зимних посиделок за колючей проволокой рассеивалось, проникало в квартиры, дома, множилось в рукописных блокнотах подростков, которые по вечерам во дворах под гитару напевали эти тюремные песни. И в этих песнях всплывали различные географические координаты архипелага ГУЛаг – от Соловков до Колымы.
Воркута:
- Этап на Север, срока огромные,
- Кого ни спросишь – у всех Указ…
- Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
- Взгляни, быть может, в последний раз.
- А завтра утром по пересылке я
- Уйду этапом на Воркуту,
- И под конвоем, своей работой тяжкою,
- Быть может, смерть свою найду;
Печора:
- Я знаю, меня ты не ждешь
- И писем моих не читаешь.
- Но чувства свои сбережешь
- И их никому не раздаришь.
- А я далеко, далеко,
- И нас разделяют просторы.
- Прошло уж три года с тех пор,
- Как плаваю я по Печоре.
- А в тундре мороз и пурга,
- Болота и дикие звери.
- Машины не ходят сюда,
- Бредут, спотыкаясь, олени…
И конечно же, прекрасная планета с названием Колыма:
- Я помню тот Ванинский порт
- И вид парохода угрюмый,
- Как шли мы по трапу на борт
- В холодные, мрачные трюмы.
- На море спускался туман,
- Ревела стихия морская.
- Лежал впереди Магадан —
- Столица Колымского края.
- Не песня, а жалобный крик
- Из каждой груди вырывался.
- «Прощай навсегда, материк!» —
- Хрипел пароход, надрывался.
- От качки стонали зэка,
- Обнявшись, как родные братья.
- И только порой с языка
- Срывались глухие проклятья.
- – Будь проклята ты, Колыма,
- Что названа чудной планетой!
- Сойдешь поневоле с ума —
- Оттуда возврата уж нету.
Ну и конечно, были и песни про побеги заключенных из гулаговских спецучреждений:
- Это было весною, в зеленеющем мае,
- Когда тундра проснулась, развернувшись ковром.
- Мы бежали, два друга, замочив вертухая,
- Мы бежали из зоны, покати нас шаром.
- Лебединые стаи нам навстречу летели,
- Нам на юг, им на север – каждый хочет в свой дом.
- Эта тундра без края, эти редкие ели,
- Этот день бесконечный – ног не чуя бредем.
- По тундре, по железной дороге,
- Где мчится поезд «Воркута – Ленинград»…
И этот лагерный, уголовный фольклор – песни, частушки, всякого рода прибаутки постепенно расползались по стране, проникая в различные социальные слои. Не чурались этих песен и дети высшей партийной знати. Для них, для этих диссидентствующих детей и внуков гулаговских надзирателей, вохровцев и различных энкавэдэшных чинуш, было особым шиком на своих вечеринках пропеть что-нибудь из уголовного фольклора или продекламировать какую-нибудь частушку про партийную номенклатуру и про смерть Сталина.
- Коммунисты отдыхают
- На Кавказе и в Крыму,
- А рабочих отправляют
- На леченье в Колыму.
- Колыма, Колыма,
- Новая планета:
- Двенадцать месяцев зима,
- А остальное – лето!
Или:
- Вся природа оживает,
- На земле проталины.
- В марте лагерь отмечает
- Похороны Сталина.
На уголовный манер коверкая слова, они пели про молодого жигана: Молодой жульман, молодой жульман начальничка молит: / «Ты, начальничек, ключик-в-чайничек, отпусти до дому – / Дома ссучилась, дома скурвилась молода зазноба…»
Меня всегда удивляла схожесть музыкально-поэтических вкусов уголовников и различных тюремных надзирателей.
Это было время надежд и ожиданий. Многим тогда представлялось, что многолетняя эпоха Сталина сменится эпохой Лаврентия Берии, поэтому известие про арест Берии, суд над ним и последующий приговор с высшей мерой наказания для многих был подобен грому среди ясного неба. Тогда никто всерьез не воспринимал главного кукловода тех событий Никиту Хрущева. Для многих он был чем-то вроде опереточного шута. Многие полагали, что руководителем страны станет Маленков. Помню частушки тех времен:
- Предатель Берия
- Потерял доверие.
- А товарищ Маленков
- Надавал ему пинков.
И такая еще:
- Цветет в Сухуми алыча
- Не для Лаврентия Палыча,
- А для Климент Ефремыча
- И Вячеслав Михалыча.
У многих вызывали симпатии слова Маленкова, в которых он критически высказывался о партийной номенклатуру: мол, для многих партийных функционеров характерно «полное пренебрежение нуждами народа» и «взяточничество и разложение морального облика коммуниста глубоко проникло в ряды партии». Для многих он тогда был «последним ленинцем». Сейчас, спустя годы, я думаю, что судьба нашей страны могла бы сложиться иначе, останься тогда Маленков у власти и сумей он реализовать свои реформы в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности. Конечно, многого из сталинского прошлого Маленкова (о его участии в «ленинградском деле» и прочем) мы не знали. В памяти народной он остался человеком, который ратовал за улучшение жизни простого народа – снижение сельхозналога, списание недоимков за прошлые годы и изменение принципа налогообложения жителей сельской местности, а также за отмену привилегий для партийной номенклатуры. Но время руководства Маленковым Советом министров СССР было недолгим – в 1955 году его сместили с этой должности. А затем грянул XX съезд партии, разоблачение культа личности, публичное признание массовых сталинских репрессий. Для многих эти публикации о репрессиях стали настоящим шоком.
Слухи о том, что Хрущев замышляет что-то серьезное, что по его предписанию в архивах собираются документы про сталинские репрессии и среди прочего – компрометирующие материалы на Маленкова, Кагановича и Молотова, среди работников различных архивов поползли еще за полгода до XX съезда. Я помню, к отцу приехал из Москвы его товарищ, руководитель одного из московских архивов, он рассказывал, что скоро грядут большие изменения. Там, наверху, будет очень жарко, говорил он, им, руководителям архивов, прислали предписание составить свод документов про репрессии и те документы, в которых упоминалась фамилия Хрущева в составе троек, предписывалось уничтожить. «Мы девять мешков таких документов, связанных с Хрущевым, уничтожили», – сказал товарищ отца, этот старый архивист.
Уже позднее в воспоминаниях Судоплатова я встретил подтверждение рассказам товарища моего отца об уничтожении архивных документов, связанных с участием Хрущева в репрессиях тридцатых годов.
Уже тогда многие понимали, что Хрущевым движет вовсе не желание восстановить историческую справедливость (в этом случае он должен был начать с себя, говорить о собственных преступлениях), а желание расквитаться с ближайшим окружением Сталина. Это была обычная грызня внутри большевистской верхушки.
Современный обыватель, читая всякие брошюрки о тех страшных временах, задается вопросом, как в этих условиях могли жить люди – какими радостями они жили, любили ли они, как мы, ревновали и чем вообще они тогда жили. Но дело в том, что во всех этих исторических и псевдоисторических книжках сконцентрировано все жуткое и негативное, происходившее в те времена (количество репрессированных и так далее), а в реальной жизни оно было размыто на фоне других, более радостных и будничных событий. Большинство людей даже и не догадывалось о репрессиях и их масштабах. К тому же идеологическая машина этих репрессивных акций была так устроена, что у обывателя складывалось впечатление, что они направлены против той или иной враждебной строю социальной группы и сословия (зажиточное кулачество, священники и прочие). Немалую роль в неосведомленности обывателей в происходящих событиях играла индифферентность рядовых граждан к политической жизни: большинство людей, и не только у нас, в России, в реальной жизни живет маленькими радостями, не особенно интересуясь теми или иными политическими событиями: для кого-то удачей является затащить в постель смазливую девушку, другого интересует лишь продвижение по карьерной лестнице. Даже в изуродованных политических системах люди находили и находят стимулы для жизни, стремятся к карьерному росту. Основным стимулом обычно является то, что один австрийский писатель назвал «этажным самолюбием»: я достиг большего, чем мой сосед. В стремлении занять определенную социальную нишу, желании в своем карьерном росте обогнать определенных лиц (выше, чем у бывшего одноклассника, соседа по лестничной площадке и так далее) заключается истинная цель жизни. Большинство людей, за исключением крайних неудачников и счастливчиков, живут одинаково плохо, но живут они плохо на разных этажах. Это этажное самолюбие представляет для человека, которому в общем не очень-то виден смысл его жизни, чрезвычайно заманчивый заменитель.
Но тогда народ разделился на тех, кто верил этим публикациях, и тех, кто считал, что это все политические игры Хрущева и его компании.
Мой отец не был сталинистом, но он, как и многие очевидцы сталинской эпохи, ко всей этой разоблачительной кампании Хрущева отнесся резко отрицательно: «Сталин, конечно, был палач, – помнится, говорил он мне тогда, – но среди большевистского отребья, окружавшего в те годы Ленина, он был не худшим мерзавцем. Если бы к власти в двадцатые годы пришел Троцкий, то о газовых камерах мир бы узнал на пятнадцать лет раньше. Сталин осуществлял основное направление борьбы с инакомыслием, а конкретные репрессивные действия на местах проводили малообразованные карьеристы вроде Хрущева, которые таким образом избавлялись от конкурентов».
В 1930-е годы отец присутствовал на одной краеведческой конференции, где перед собравшимися архивистами выступал палач-цареубийца Юровский. Отец рассказывал, что, слушая сладострастное смакование Юровским подробностей убийства царя и членов его семьи, он испытывал физическое омерзение.
По мнению отца, среди большевистской верхушки только трое – Сталин, Маленков и Молотов – верили в коммунистическую утопию. Для значительной части этих стойких большевиков-ленинцев партия была всего лишь местом личного обогащения.
– Посмотри, – говорил мне отец, – на мемориальные квартиры всех этих большевистских вождей, всех этих Кировых и прочих, и ты увидишь, что жили они похлеще любых буржуев.
О том, что и сам Никита Хрущев был отнюдь не безупречен и принимал активное участие во многих репрессивных акциях сталинской эпохи, говорили многие. Среди знакомых моего отца было много сотрудников различных архивов из Украины. Они помнили и рассказывали о тех страшных временах конца тридцатых годов, когда Хрущев занимал пост первого секретаря ЦК КП(б) Украины. Сотни тысяч людей были репрессированы в годы его руководства Украиной. Людей без суда и следствия арестовывали и увозили, и во многих случаях это происходило с личного ведома сталинского палача Хрущева. О чистке партийных рядов, которые в тридцатые годы в Москве устроили Ежов, Каганович и Хрущев, рассказывали пожилые партийцы-москвичи. К тридцать седьмому году Хрущев с помощью Ежова практически убрал всех секретарей райкомов партии в Москве и области, всех наиболее способных руководителей, которых он рассматривал как своих конкурентов.
Уже позже, во времена так называемой горбачевской перестройки, стали появляться публикации, авторы которых (Борис Сыромятников, Павел Судоплатов) в своих воспоминаниях рассказывали о происходящих в тридцатые годы событиях, в частности о репрессиях в Москве и на Украине, проводимых по инициативе Хрущева.
Так, один из очевидцев этих событий писал, что Хрущев непосредственно контролировал ход арестов высшего партийного руководства в Москве, регулярно названивал руководству Московского управления НКВД, чтобы еще более ужесточить репрессии. «Москва – столица, – обращался Хрущев руководству Московского управления НКВД, – ей негоже отставать от Калуги или Рязани». Хрущев был одним из главных инициаторов закрытия церквей и репрессий против их служителей. Рассказывали, что Хрущев предлагал Сталину сделать Красную площадь местом публичных казней – расстреливать на площади священников и тех, кого тогда называли ревизионистами и троцкистами; поэтому некоторые из партийцев называли за глаза Хрущева Малютой Скуратовым.
В памяти народной Хрущев оставил о себе плохую память: кукурузная кампания; экспроприация домашнего скота в личных подсобных хозяйствах и последующий за этим массовый забой скота в деревнях; подавление восстания в Венгрии; строительство Берлинской стены; расстрелы мирных демонстрантов в Новочеркасске и Темиртау; передача Украине Крыма, чтобы перетянуть на свою сторону украинскую партийную номенклатуру. А была еще хрущевская денежная реформа, когда «хрущевские фантики» сменили «сталинские портянки», в результате миллионы людей «погорели» на облигациях.
Никакого уважения как руководитель страны Хрущев не вызывал: для многих он был просто героем анекдотов и частушек:
- Все случилось шито-крыто.
- Стал вождем Хрущев Никита.
- Сталин гнал нас на войну,
- А Хрущев – на целину.
- Кукуруза, мандавоха,
- Вышла замуж за гороха.
- Обосрала все поля
- И не родит ни х<…>я.
- Вышла б замуж за Хрущева,
- Да боялась одного:
- Говорят, что вместо х<…>я
- Кукуруза у него.
Чтобы убедиться, что Хрущев абсолютно не верил в пропагандируемые им коммунистические идеи, достаточно посмотреть на его детей и их потомков: когда я вижу их политические трансформации, я еще раз убеждаюсь в справедливости народной поговорки: «У мерзавцев и дети вырастают мерзавцами».
Я помню, в середине шестидесятых среди интеллигенции ходили по рукам машинописные тексты секретного доклада Че Гевары, который он, как пояснялось в преамбуле этого текста, сделал на закрытом совещании руководства Кубы сразу после возвращения из СССР. По мнению Че Гевары, которое приводилось в докладе, среди высшего руководства Советского Союза нет ни одного марксиста, все заражены ревизионизмом. Интересы высшего руководства, утверждал автор доклада, лежат исключительно в меркантильной плоскости: они живут в роскоши, подобно высшей знати дореволюционной России, окружены многочисленной прислугой. И в заключение отмечалось, что через двадцать лет в СССР будет реставрация капитализма.
Возможно, это была фальшивка, а может, действительно это был подлинный текст доклада Че Гевары, но удивительным образом пророчество этого текста сбылось буквально с точностью до одного года.
В девяностые годы вину за развал Советского Союза возлагали исключительно на две фигуры – Горбачева и Ельцина. В действительности высшее руководство компартии Советского Союза насквозь прогнило еще в хрущевские времена. Спустя годы, читая биографии высших партийных чиновников, я удивлялся, как людей с сомнительным происхождением, людей из семей репрессированных допускали до высших эшелонов власти, не было ли это сознательной диверсией советских спецслужб, руководители которой тоже мечтали о реставрации капитализма.
И в этом отношении Хрущев был ярким олицетворением внутреннего разложения компартии.
Пожалуй, единственное доброе деяние, связанное с именем Никиты Хрущева, – это амнистия политзаключенных, но вместе с ними на свободу были выпущены десятки тысяч коллаборационистов всех мастей – бывшие полицаи, власовцы, бендеровцы, каратели из латышских добровольческих бригад СС, эстонские и литовские националисты, сотрудничавшие с гитлеровскими оккупационными властями.
На Севере, где я тогда работал геологом, хрущевское время было временем жутких гонений на религиозных диссидентов, сосланных сюда еще в тридцатые годы. В начале пятидесятых годов они исправно трудились в лесопунктах и сельхозпредприятиях при различных спецучреждениях и, не привлекая к себе особенного внимания, проводили свои религиозные богослужения. Но в хрущевское время за них опять крепко взялись, начали понуждать ходить на выборы, лишали родительских прав, наиболее активных заключали в психоневрологические изоляторы, разрушали храмы, которые пережили гражданскую войну и суровые тридцатые годы. А потом на Север докатилась кукурузная кампания – снимали с должности агрономов, которые противились хрущевским директивам выращивать кукурузу в зоне рискованного земледелия.
Хрущев был мил лишь горстке интеллигентов из больших городов, которые эту жуткую эпоху назвали «оттепель». Для них это действительно было оттепелью, но для сотен и тысяч религиозных диссидентов это время даже по сравнению со сталинским периодом казалось суровыми сибирскими морозами.
Триумфальные успехи СССР в космонавтике во многом были заслугой предшественников Хрущева – кровавого диктатора Сталина и его правой руки Лаврентия Берии.
Когда в шестьдесят четвертом году днепропетровская партийная группировка убрала с политической сцены Хрущева, никто в народе особо не горевал из-за ухода этого сталинского палача. Народ на это отреагировал новыми частушками и анекдотами.
- Товарищ, верь: взойдет она,
- на водку прежняя цена,
- и на закуску выйдет скидка —
- ушел на пенсию Никитка!
Поэтому, наверное, и неудивительно, что сразу после похорон Хрущева стали распространяться слухи об осквернении его могилы на Новодевичьем кладбище. Рассказывали, что уже на следующий день после похорон Хрущева на его могиле кто-то устроил отхожее место. Бродили различные истории, будто кто-то несколько раз выкапывал из могилы тело Хрущева, а позднее был арестован рабочий Новодевичьего кладбища, который, как оказалось, и выкапывал труп Хрущева. Из-за регулярного осквернения могилы Хрущева, как судачили рядовые обыватели, московскими властями было принято решение о закрытии Новодевичьего кладбища.
Эпоха правления Брежнева в восьмидесятые годы с легкой руки одного малообразованного ставропольского комбайнера было названо застоем, в действительности же она была золотым временем советского государства: в магазинах появилась бытовая техника – холодильники, телевизоры, стиральные машины, радиоприемники; открывались дома мод; на прилавках магазинов стала появляться одежда из соцстран и из Финляндии.
Но идеологические основы общества были уже в значительной мере подорваны предшествующей эпохой. Начавшееся еще во времена так называемой «хрущевской оттепели» размывание основ советской идеологии, обесценивание коммунистических идеалов прошлого, приняло фатальный характер. Диссидентские настроения подобно едкой плесени расползались по разным уголкам страны, находя приверженцев подобных умонастроений не только среди жителей крупных городов, но и в далеких рабочих поселках, затерянных на необъятных просторах Сибири и Русского Севера.
В умах значительной части советских граждан витали уже не мысли о далеком светлом будущем, как у их отцов и дедов, а меркантильные интересы дня сегодняшнего. В портовых городах и крупных городах-миллионниках пышным цветом процветала фарцовка: молодежь гонялась за дисками популярных западных поп-групп, за западным ширпотребом – кроссовками, джинсами. Подростки из состоятельных семей покупала у фарцовщиков джинсы Montana, Levi’s, Lee, Wrangler по цене месячной зарплаты инженера (150–200 рублей), а те, чьи семейные бюджеты были поскромнее покупали польские Odra, болгарские «Рила», индийские Miltons, Avis. А уже в 80-х появились более дешевые немецко-итальянские джинсы – Jordans, Super Perrys, Rifle, Riorda, Genesis, Ledex, Colorado.
У определенной части молодежи джинсы были признаком социального статуса. На вершине этого социального престижа были те, кто носил джинсы Levi’s, Lee, Wrangler, а внизу были обладатели скромных индийских и болгарских изделий. Модники, щеголявшие в джинсах Levi’s или Wrangler в адрес тех, кто носил скромные болгарские джинсы, пускали различные остроты: «У кого на жопе “Рила”, тот похож на крокодила». И в этот джинсовый фольклор причудливым образом вплетались имена и фамилии популярных рок-музыкантов и политических деятелей: «Наш любимый Элис Купер носит джинсы RIFLE Super»; «овладеть Анджелой Дэвис вам поможет фирма “Леви’с”»; «ты пришла ко мне на хаус в модных джинсах “Леви Страус”».
Вкусы молодежи из крупных городов были ориентированы на западное общество потребления. Среди молодежи была популярна фраза: «Империализм загнивает, но загнивает с запахом французских духов».
Значительная часть советского общества жила в состоянии когнитивного диссонанса: одни слова звучали с телеэкранов и из официальных средств массовой информации – и совершенно другие в разговорах на кухне, на вечеринках в кругу близких знакомых и единомышленников. Происходящие там разговоры один известный писатель охарактеризовал меткой фразой: «Заниматься подкусыванием советской власти под одеялом». Уже не было прежнего страха сталинских времен пострадать за вольнодумство и инакомыслие – ни за что получить двадцать пять лет лагерей.
Среди молодежи в моде теперь было фрондерство. Политические новости, передаваемые официальной прессой, частенько становились предметом анекдотов и шуток.
- А в Америке расизм,
- а в ЮАРе геноцид,
- а у нас в стране советской
- стал евреем прежний жид.
- От Москвы до самых до окраин,
- с южных гор до северных морей
- человек проходит как хозяин,
- если он, конечно, не еврей.
- США достали мы по стали
- и надою молока,
- а по мясу поотстали —
- х<…> сломался у быка!
- Вражий голос ругает отчизну,
- что я мясом стал хуже питаться:
- мы так быстро идем к коммунизму,
- что скотине за мной не угнаться.
- Мой миленок – диссидент,
- Он читает «Континент».
- Завтра встану спозаранку,
- Свезу дролю на Лубянку!
Популярны были различные переделки известных песен на актуальные политические события.
Внуки большевистских комиссаров, выходцев из еврейских местечек, обсуждая на своих вечеринках очередные успехи израильской армии в войне с арабами, с задором пели переделки популярных советских песен. На мотив песни «Три танкиста» звучала песня о трех еврейских танкистах, воющих с арабами:
- Над Синаем тучи ходят криво,
- Край суровый тишиной объят.
- В тридцати верстах от Тель-Авива
- Часовые родины стоят.
- Там врагу заслон поставлен прочный.
- Там стоит, отважен и силен,
- На родной земле ближневосточной
- Броневой ударный батальон.
- Служат там – и песня в том порукой —
- Нерушимой дружною семьей
- Три дантиста, три веселых друга —
- Авраам, Исаак и Соломон.
- Но не спит, читая на ночь святцы,
- Шейх арабов – старшина Иван.
- В эту ночь решили арафатцы
- Перейти священный Иордан.
- Шли в атаку Фишманы и Кацы,
- Наступала грозная броня,
- И летели наземь арафатцы,
- Иудеев яростно кляня…
А была еще переделка песни «Там вдали за рекой»:
- За Синаем-рекой загорались огни,
- В небе ясном заря догорала.
- Сотня юных бойцов из израильских войск
- на разведку в Каир поскакала…
Помнится, был еще вариант с переделкой известной еврейской песни «Эвейну шалом алейхем»: Веди нас в бой, Голда Меир! Веди нас в бой, Голда Меир! / Веди нас в бой, Голда Меир и одноглазый бог войны Моше Даян! / Москва, ты нам не столица – Еврей свободная птица <…> Дойдем до Красного моря на страх и ужас врагам, / И точно нашим будет вскоре / Тот дальний город, что зовется Ассуан…
Прежние советские символы у молодежи уже не вызывали благоговения, а становились объектом сатирических стихотворений.
- Сверху молот, снизу серп —
- это наш советский герб.
- Хочешь – сей, а хочешь – куй:
- все равно получишь х<…>й!
Даже полет первого советского космонавта и тот стал объектом шуток.
- Юра, Юра, ты могуч,
- Ты поднялся выше туч!
- Ты прославил до небес
- Мать твою – КПСС.
- Хорошо, что наш Гагарин —
- Не еврей и не татарин,
- Не какой-то там чучмек,
- А наш советский человек!
Не минула сия чаша и самого Генерального секретаря Центрального комитета партии Леонида Брежнева.
- Прилетели птицы с юга —
- От синицы до грача.
- В этом личная заслуга
- Леонида Ильича!
- Если женщина красива
- И в постели горяча,
- В этом личная заслуга
- Леонида Ильича!
- Обменяли хулигана
- На Луиса Корвалана.
- Где б найти такую б<…>дь,
- чтоб на Брежнева сменять?
Именно в эпоху Брежнева началось разрушение монолитного железного занавеса со странами Запада, открылись различные лазейки и бреши для эмиграции из страны победившего социализма в благополучные европейские страны. И в поисках комфортного проживания в европейские страны и Соединенные Штаты потянулась вереница диссидентствующих представителей так называемой творческой интеллигенции – поэтов, писателей, художников, а также дети номенклатурных работников, внуки большевистских комиссаров и начальников гулаговских спецучреждений, разуверившиеся в коммунистических идеалах своих отцов и дедов и решившие заменить утопическую идею построения коммунизма в отдельно взятой стране на заземленную, реалистическую идею – построение коммунизма в отдельно взятых семьях. Для большинства из них переезд через океан был связан исключительно с меркантильными интересами. У многих из них, выезжающих на Запад в ореоле поэтов, писателей, художников, подвергшихся репрессиям со стороны коммунистического режима, по факту имелся только один талант – умение эксплуатировать образ ярого антисоветчика, и благодаря умелому манипулированию этим образом они получали места на радиостанции «Свобода» и в разных колледжах и университетах по ту и эту сторону океана.
Вместе с ними за океан потянулись их пассии – смазливые барышни-манекенщицы из модельных домов, окололитературные барышни. Некоторых из них звали Ася, но это были не тургеневские Аси, а Пекуровские… Были Елены, Марии, и вся эта пестрядь разнообразных имен среднерусской возвышенности заполнила артистические салоны по ту и эту сторону океана, чтобы там в гуще неофитов от искусства найти мужчину своей мечты – какого-нибудь отпрыска из респектабельной буржуазной семейки, желательно весьма состоятельной и хорошо бы еще с каким-нибудь аристократическим титулом вроде графа или герцога. Не всем этим окололитературным барышням удалось подобрать нужную по размеру туфельку, но некоторым из них все-таки сопутствовали везение и удача, и в результате поисков урожденная Козлова, перебрав добрый десяток партнеров, становилась графиней де Карли.
Эпоха Брежнева пришлась на американскую агрессию во Вьетнаме и арабо-израильские войны. То, что американские военные вытворяли во Вьетнаме, было не менее чудовищным, чем зверства гитлеровских солдат во Вторую мировую войну. И эти зверства вытворяли солдаты страны, представители которой были в числе главных обвинителей нацистских руководителей на Нюрнбергском процессе.
В советских газетах печатали жуткие кадры американского фотографа Рональда Эберли о казни и пытках жителей вьетнамской Сонгми американскими военными.
Среди советских эстрадных коллективов тогда модно было иметь в своем репертуаре антивоенные песни с вьетнамской тематикой. В определенной мере это была установка идеологических органов, курирующих деятельность эстрадных коллективов, но среди эстрадной политической конъюнктуры случались иногда пронзительные песни, как, например, песня Юрия Антонова «Стой, не стреляй, солдат».
- <…> Живем на разных континентах
- и в счастье верим, но опять,
- на Вьетнам летят ракеты,
- в горе плачет мать.
- Стой, не стреляй, солдат!
- Не спеши опять на курок нажать!
- Цель – это сверстник твой,
- это весь шар земной…
Были и другие песни про вьетнамскую войну. Среди подростков была популярна песня про американского летчика, в которой обыгрывалось участие советских военных инструкторов в армии Северного Вьетнама.
- Вижу в небе белую черту,
- Мой «Фантом» теряет высоту.
- Катапульта – вот спасение,
- И на стропах натяжение.
- Сердце в пятки, в штопор я иду.
- Только приземлился, в тот же миг
- Из кустов раздался дикий крик.
- Желтолицые вьетнамцы
- Верещат в кустах, как зайцы,
- Я упал на землю и затих.
- <…> Сзади дулом автомата
- В спину тычут мне солдаты,
- Жизнь моя висит на волоске.
- «Кто же тот пилот, что меня сбил?» —
- Одного вьетнамца я спросил.
- Отвечал мне тот раскосый,
- Что командовал допросом:
- «Сбил тебя наш летчик Ли Си Цын».
- Это вы, вьетнамцы, врете зря,
- В шлемофоне четко слышал я:
- «Коля, жми, а я накрою!»
- «Ваня, бей, а я прикрою!»
- Русский ас Иван подбил меня…
Но у Советского Союза был свой позор: вторжение советских войск в Чехословакию в августе шестьдесят восьмого года. Для многих это была потеря иллюзий и надежд на построение социализма с человеческим лицом. Из рук в руки передавали машинописные тексты со стихотворением Евгения Евтушенко «Танки идут по Праге».
- Танки идут по Праге
- в закатной крови рассвета.
- Танки идут по правде,
- которая не газета.
- <…>
- Боже мой, как это гнусно!
- Боже – какое паденье!
- Танки по Яну Гусу,
- Пушкину и Петефи.
- <…>
- Разве я враг России?
- Разве я не счастливым
- в танки другие, родные,
- тыкался носом сопливым?
- Чем же мне жить, как прежде,
- если, как будто рубанки,
- танки идут по надежде,
- что это – родные танки?
- Прежде чем я подохну,
- Как – мне не важно – прозван,
- я обращаюсь к потомку
- только с единственной просьбой.
- Пусть надо мной – без рыданий
- просто напишут, по правде:
- «Русский писатель. Раздавлен
- русскими танками в Праге».
В одном из анекдотов тех времен ситуация с вторжением советских войск в Чехословакию обыгрывалась в диалоге двух сидящих в баре жителей Праги; первый из них говорит другому: «Теперь мы точно знаем, что земля круглая. Советские танки в сорок пятом ушли на запад, а в шестьдесят восьмом вернулись к нам уже с востока».
С далеким отзвуком вторжения советских войск в Чехословакию я столкнулся в конце семидесятых в экспедиции на Северном Урале. Мы заехали на ГАЗ-66 в одну глухую деревню в верховьях Печоры. Отсюда через несколько дней нас должны были забрать на вертолете. Мои товарищи по экспедиции затарились в местном магазине портвейном, а я пошел бродить по деревне, которая своими домами вытянулась вдоль правого берега Печоры.
Вдалеке на холме, возле здания клуба, я увидел что-то вроде памятника: небольшую стелу, огороженную металлической оградой. Вначале я подумал, что это памятник солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну. Но когда поднялся, увидел, что этот памятник связан с совершенно другими событиями. На памятнике было написано:
Паршаков Валерий Петрович
20.07.1948 – 10.06.1969
Трагически погиб в Чехословакии.
Через полгода после вторжения советских войск в Чехословакию случился пограничный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманском.
В газете «Правда» в тот же день, 8 марта 1969 года, была опубликована статья «Позор провокаторам!». Как сообщалось в статье, «вооруженный китайский отряд перешел советскую государственную границу и направился к острову Даманскому. По советским пограничникам, охранявшим этот район, с китайской стороны был внезапно открыт огонь. Имеются убитые и раненые».
И спустя какое-то время появились песни, посвященные этим трагическим событиям
- <…> На острове Даманском – тишина,
- Давным-давно закончились бои.
- Не думали ребята, что война,
- И в девятнадцать многие ушли…
- А им бы в девятнадцать жить да жить,
- Любить девчонок и в кино ходить,
- Но была нарушена граница,
- Цветов девчатам больше не дарить…
- <…> «Я ухожу…» – сказал мальчишка ей сквозь грусть, —
- Но ненадолго, я обязательно вернусь!»
- Ушел совсем, не встретив первую весну,
- Пришел домой в солдатском цинковом гробу.
- Всего лишь час он до рассвета не дожил,
- Упал на снег, и снег он раною закрыл.
- Упал на снег не в дни войны, а в мирный час,
- Когда весна огни любви зажгла для нас…
Но были и другие события брежневской эпохи, оставившие добрые воспоминания об этом времени: драматический матч советской баскетбольной сборной с американской командой на Мюнхенской олимпиаде – фантастический бросок Александра Белова на последней секунде матча; суперсерия советской хоккейной сборной со сборной игроков НХЛ и ВХА в 1972-м и 1974-м; суперсерия ЦСКА и «Крыльев Советов» с командами из НХЛ в сезоне 1975–1976 года; победа киевского «Динамо» в Кубке кубков и Суперкубке в 1975 году.
Для меня эпоха Брежнева пришлась на работу в геологических базах, пятнадцать лет я провел на Приполярном Урале. Эти раскиданные в разных точках Урала базы были островами свободы в той самой стране, которую мы иронично называли Совдепией. Здесь, на базах, была своя жизнь, свободная от цензуры и не зависящая от власти на Большой земле. Это было Беловодье геологов, со своими неписаными таежно-геологическими уставом и кодексом, со своими заповедями «не кради», «не лжесвидетельствуй на ближнего своего»…
И была здесь своя интеллектуальная жизнь. Там, на Большой земле, народ собирал макулатуру, чтобы на эту макулатуру купить другую популярную макулатуру: Пикуля, Дюма, а здесь зачитывались Юрием Трифоновым, Битовым. Каких только книг не было на нашей базе Отрадное: поэты-шестидесятники, зарубежная литература от Кафки до Камю, самиздат и тамиздат (Солженицын, Юлий Даниэль). В общем, как во времена Ноя – каждой твари было по паре. На полках библиотек геологических баз можно было найти и 30-томное собрание сочинение Тургенева, и аккуратно переплетенные тома «Роман-газеты», а также других советских литературных журналов. Таких интеллектуально насыщенных бесед по вечерам, как на нашей базе в Отрадном, я нигде больше не встречал. Какие только песни здесь не звучали: Высоцкий, Окуджава, Галич, Кукин, Анчаров, Алешковский.
- – Товарищ Сталин! Вы большой ученый,
- В языкознании познали толк.
- А я простой советский заключенный,
- И мой товарищ – серый брянский волк.
- За что сижу, по совести, не знаю;
- Но прокуроры, видимо, правы.
- И вот сижу я в Туруханском крае,
- Где при царе сидели в ссылке вы…
- И вот сижу я в Туруханском крае,
- Где конвоиры строги и грубы.
- Я это все, конечно, понимаю
- Как обостренье классовой борьбы.
- То дождь, то снег, то мошкара над нами,
- А мы в тайге с утра и до утра.
- Вы здесь из искры раздували пламя,
- Спасибо вам, я греюсь у костра.
- Я вижу вас, как вы в партийной кепке
- И в кителе идете на парад.
- Мы рубим лес, и сталинские щепки,
- Как раньше, во все стороны летят.
- Вчера мы хоронили двух марксистов.
- Мы их не укрывали кумачом,
- Один из них был правым уклонистом,
- Второй, как оказалось, ни при чем…
- Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин!
- И как бы трудно ни было здесь мне,
- Я знаю, будет чугуна и стали
- На душу населения вполне!
Я помню, когда у нас появились первые катушечные магнитофоны, а потом с Большой земли стали привозить катушки с записями Высоцкого. Здесь были и его первые записи с блатными, лагерными песнями, и более поздние – «Век на щавеле, опрыщавели».
Был и Галич, были и другие барды.
Судьба закидывала в эти края различных талантливых людей: музыкантов, поэтов, а какие здесь были повара! Они вполне могли дать фору и самым лучшим московским поварам из лучших московских ресторанов. Ходили слухи, что Вадим Туманов собирается привезти Высоцкого, и эти слухи бродили из года в год.
Я помню день, когда узнал о смерти Высоцкого. Я шел по базе, а навстречу мне попался наш радист, рослый парень. Он шел, а в глазах были слезы. Здесь, на геологической базе, мужские слезы были редкостью. Случалось, конечно, что кто-нибудь в истерике ударялся в пьяные сопли, но тут навстречу шел трезвый, здоровый мужик и захлебываясь плакал. Поначалу я подумал, что он получил известие о смерти кого-то из близких.
– Что-то случилось? – спросил я.
– Высоцкий умер! – ответил он.
Умирали генсеки, известные поэты и писатели, актеры, но такой всенародной скорби, как от смерти Высоцкого, я в своей жизни больше не встречал. В семидесятые годы была популярна шутка, что спустя десятилетия в Большой Советской энциклопедии будет написано, что Леонид Брежнев – мелкий политический деятель эпохи популярной эстрадной певицы. Но сейчас, спустя годы, я понимаю, что эпоха Брежнева – это не эпоха опохабившейся эстрадной певички, а эпоха Высоцкого.
Поначалу я отказывался верить тому, что сообщил наш радист, подумал, что это, возможно, досужие вымыслы, которыми окружена жизнь известных людей, но через некоторое время пришли другие сообщения, которые уже не оставляли сомнений в подлинности известий о смерти Высоцкого.
А между тем уже надвигалась совершенно другая эпоха – эпоха безликих вождей, демагогов, политических шарлатанов разных мастей. Погруженный в старческий маразм Брежнев, побуждаемый утопическими мессианскими идеями братской помощи, ввязался в бессмысленную кровавую войну в Афганистане. Занявший освободившийся трон Генерального секретаря ЦК КПСС бывший глава КГБ Юрий Андропов процарствовал всего лишь год и три месяца. Его кратковременная эпоха запомнилась облавами в кинотеатрах по вылавливанию прогульщиков.
Следующий Генеральный секретарь, Константин Черненко, и того меньше пробыл на посту руководителя страны – год и месяц.
Высказывались различные предположения, кто может занять освободившееся место Генерального секретаря, и среди первых называли первого секретаря ленинградского обкома партии Григория Романова. В народе шутили, что произойдет реставрация династии Романовых. Но неожиданно для многих новым руководителем Советского Союза стал малоизвестный партийный функционер Михаил Горбачев, выдвинутый на эту должность группой сторонников Андропова. Народ на избрание Горбачева Генеральным секретарем отреагировал очередным анекдотом: спросили у одного из дикторов армянского радио: «Почему Горбачева избрали генсеком?» – «Никто не хотел умирать!» – ответил диктор. Первоначальное обаяние от простонародного южнорусского говора Горбачева с фрикативным «г» на фоне популистских сцен разговоров с рядовыми советскими гражданами, оказавшимися рядом с ним во время различных массовых мероприятий, вскоре улетучилось. Люди довольно быстро поняли, что имеют дело с очередным демагогом, своеобразной реинкарнацией Никиты Хрущева. Многих раздражало постоянное присутствие в телевизионном кадре его жены – честолюбивой, тщеславной хохлушки Раисы Титаренко.
Популярным мемом для анекдотов наряду с переиначенными острословами детскими стихами Агнии Барто («Мы с Раисой ходим парой»), стала брошенная во время какого-то интервью фраза Горбачева: «Мы тут с Раисой Максимовной посоветовались и решили».
– Почему Горбачев всюду ездит со своей женой?» – «У них семейный подряд: она варит лапшу, а он вешает ее на уши;
– Пришел Горбачев в баню, зашел в помывочную. Мужчины, увидев его, все сразу прикрылись шайками. «Вы чего, мужики?» – обратился к ним Горбачев. – «А разве Раиса Максимовна не с вами? – удивленно спросили они;
– Спросили у одного из дикторов армянского радио «Кто теперь смешит советский народ?» – «Райкин-отец, Райкин-сын и Райкин муж» – ответил диктор.
Были шутки и про родимое пятно на голове Горбачева: «родимое пятно социализма», которое впоследствии переделали в выражение «Мишка меченый».
Эпоха Горбачева началась столь же нелепой, как и хрущевская кукурузная, алкогольной кампанией. В рамках этой сумасбродной кампании в южных регионах вырубались огромные площади виноградников с редкими сортами винограда, сокращалось количество винных магазинов, из-за чего туда стояли длинные очереди, алкоголь выдавали по талонам, и началась повальная спекуляция, как в первые годы после Гражданской войны. Народные умельцы обратились к старому дедовскому способу изготовления алкоголя, создавались различные конструкции самогонных аппаратов, и с помощью таких подпольных домашних заводиков удовлетворялся спрос на ставший недоступным алкоголь. Некоторые самогону предпочитали различные спиртосодержащие суррогаты, вследствие чего резко повысилась смертность. Но вскоре и сахар исчез с прилавков магазинов, а потом талонная система распространилась и на другие продукты. Страна оказалась отброшена на сорок лет назад, к голодным послевоенным годам.
Эксперименты с экономическими реформами продолжались в течение всей эпохи Горбачева, бросая страну из одной крайности в другую: вначале была кампания по борьбе с нетрудовым доходами – с продавцами цветов, таксистами, простыми пенсионерами, торгующими овощами со своих дачных участков, а потом той же рукой, которой предписывалось жесточайшим образом пресекать всякие законодательно не закрепленные доходы, Горбачев подписывал указы о кооперативном движении. И предприимчивые люди стали ломиться в кабинеты местных чиновников, чтобы получить долгожданный патент на ведение индивидуальной трудовой деятельности. Начали открываться ларьки кооператоров, появились мастерские по пошиву советского ширпотреба – джинсов и прочего, что советский обыватель раньше видел в фильмах капиталистических стран. Амбициозные и беспринципные комсомольские активисты открывали видеосалоны, основной продукцией которых стали эротические и порнографические фильмы. Такая же продукция появлялась на лотках уличных торговцев бульварными газетами и журналами. Девизом этих комсомольских нуворишей стал лозунг: Куй железо, пока Горбачев.
Многие тогда испытывали эйфорию от происходящего в стране: митингов, демонстраций – бурного революционного брожения второй половины восьмидесятых. Тогда на время рухнули социальные рамки – простой слесарь запросто мог схлестнуться в споре с каким-нибудь доктором наук. Но у меня уже тогда не было иллюзий относительно порядочности сидящих во власти людей.
В шестидесятые годы мне попался очерк одного писателя про Брестскую крепость, и там помимо прочего был эпизод про русского солдата из крепости Осовец, который оказался замурован в подземном хранилище и там пробыл около восьми лет. Когда его обнаружили в этом подземелье и вывели наружу, то он от яркого солнечного света потерял зрение. Так случилось со многими моими соотечественниками: в советской пуританской стране, где «не было секса», люди, брошенные в водоворот низкопробных, откровенно порнографических журналов и всякого рода чернушной литературы, низкопробных детективов, порнографических фильмов и фильмов насилия, подобно солдату из крепости Осовец, потеряли зрение – перестали различать, где правая, а где левая сторона, где добро, а где зло. Если раньше о наркотиках большинство населения знало только по советской пропагандистской критике буржуазных нравов западных стран, то в перестройку из Средней Азии и с Северного Кавказа хлынули потоки наркотиков.
Так же происходило и в экономике: научно обоснованные, продуманные реформы академика Абалкина были отвергнуты Горбачевым, а вместо них в качестве экономического ориентира была взята программа такого же, как сам Горбачев, демагога и популиста Григория Явлинского.
Предвестником этих жутких апокалипсических перемен стала авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Эта авария еще раз показала лживость и лицемерие коммунистической номенклатуры. В то время как партийные функционеры в спешке вывозили своих родных и близких из Киева и Минска, простые граждане в этих городах шли колоннами в первомайской демонстрации. И о происшедшей трагедии населению сообщили только тогда, когда об этом затрубили шведские газеты.
Уже позже, когда отчасти схлынул страх от происшедшей трагедии, в народе пошли гулять анекдоты с чернобыльской тематикой.
«Чем будет отмечено начало следующего тысячелетия?» – «Открытием в Чернобыле памятника Горбачеву – в мундире петровских времен, в позе Ленина на броневике, с рукой, простертой на северо-запад. На постаменте надпись: “Отсель газить мы будем шведу”».
Среди набожных старух после этой аварии активно стали муссироваться разговоры о конце света. В подтверждение грядущего скорого конца света они приводили цитату из Откровения Иоанна Богослова о явлении третьего ангела, после трубного гласа которого с неба должна упасть звезда по имени Полынь, и третья часть рек и вод будет заражены и многие из людей будут умирать от болезней. Полынь, говорили между собой старушки, по-украински «чернобыль», и вот именно про эту аварию на атомной станции и говорится в Апокалипсисе Иоанна Богослова.
В народе бродили и другие апокрифические легенды, что якобы в Библии, в книге пророка Даниила, написано, что перед концом света должен явиться царь по имени Михаил, у которого на голове будет большое родимое пятно.
В череде различных трагических событий восемьдесят шестого года особый резонанс имела гибель в декабре пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов».
Периоды идеологических смятений – благодатное время для различного рода мошенников. Горбачевская перестройка выплеснула из мутной оккультной пены немало искусных шарлатанов, некоторым из которых, таким как Анатолий Кашпировский и Алан Чумак, удалось прорваться на телевизионные каналы и завладеть умами многомиллионной телевизионной аудитории. Старушки и старики, в прошлом истые комсомольцы и коммунисты, подобно молодым влюбленным, томительно ожидали начала сеансов Кашпировского и Чумака. Дисциплинированно, по указанию шарлатана оккультных наук, ставили перед телеэкраном трехлитровые банки с водой, чтобы «благодатная» сила целителя наполнила их энергетической силой.
СССР уже перестал быть тем страшным и пугающим монстром, каким еще недавно, во время правления Андропова, выглядел в глазах западного обывателя. То, с какой легкостью Матиасу Русту удалось преодолеть хваленую систему противовоздушной обороны СССР и посадить самолет в центре Москвы, на Москворецком мосту, почти на самой Красной площади, убедило многих западных обывателей, что страхи перед монстром под названием СССР, сильно преувеличены, что ее система ПВО сплошное решето.
Впрочем, многие тогда говорили, что этот дерзкий полет Матиаса Руста подготовлен по прямому указанию Горбачева советскими спецслужбами и спецслужбами стран НАТО, чтобы обвинить высшее военное руководство СССР в некомпетентности и убрать своих оппонентов из высшего командного состава.
Народ на все эти события отреагировал сатирическими куплетами:
- – По России мчится тройка:
- Мишка! Райка! Перестройка!
- Ускоренье важный фактор,
- но не выдержал реактор.
- Затопили пароход,
- Пропустили самолет,
- Наркоманов развели,
- СПИД в Россию завезли.
Слабость центра почувствовали и на окраинах: в Прибалтике, Закавказье и Средней Азии. Страну лихорадило, то тут, то там вспыхивали межнациональные столкновения. И первым таким звоночком были декабрьские события в Алма-Ате и Караганде, когда казахская молодежь выступила против снятия первого секретаря ЦК КП Казахстана Кунаева и назначения на его место Колбина.
Затем полыхнуло в Карабахе, где начались столкновения между армянами и азербайджанцами, потом произошли погромы турок-месхетинцев в Узбекистане. Пламя межэтнических конфликтов и выступлений против центральных властей охватывало все больше и больше регионов: Тбилиси, Цхинвали, Баку, Душанбе. Единство и монолитность Советского Союза трещали по швам, готовым расползтись, подобно ветхому одеялу, в разные стороны. Затем наступил январь девяносто первого года, захват местными сепаратистами вильнюсской телебашни, после чего последовал ввод ОМОНа и других подразделений внутренних войск в Вильнюс и Ригу для усмирения бунтующих, произошли столкновения военных с местным гражданским населением.
Против безоружных граждан бросали солдат, как до того в Тбилиси, Баку и в других городах, где местные жители выступали против произвола центральных властей. Некоторые из журналистов писали, что все эти события спровоцированы самим центром, окружением Горбачева. Когда-то, после событий в Новочеркасске, в народе ходил анекдот, что Хрущев умеет сажать не только кукурузу. События в Алма-Ате, Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Риге показали, что Горбачев может рубить не только виноградники, но, в отличие от Хрущева, он всю ответственность за преступления старался сваливать на своих непосредственных подчиненных.
Меня удивляет, почему прибалтийские националисты, которые скрупулезно высчитывают каждую копейку ущерба, который им нанесла советская оккупация, не обращаются в Международный трибунал с иском на Горбачева, виновника кровавых событий восьмидесятых – девяностых годов в Прибалтике, в Закавказье и Средней Азии. Сейчас, после развала СССР, когда Горбачев значительную часть времени проводит в своем замке в Баварии, привлечь его к ответственности за преступления не составляет труда. Или ему обеспечена спокойная старость предателя за развал СССР?
Спустя годы один российский политолог следующим образом охарактеризовал Горбачева: «Горбачев – сформировавшийся в сугубо аппаратной среде дилетант, беспомощный теоретик и беспринципный политик».
Помимо уничтоженных виноградников и развала экономики Горбачев повинен в том, что на политическом Олимпе появился алкоголик из Свердловска, сыгравший одну из ключевых ролей в развале СССР. Многие тогда были увлечены его дешевым популизмом: рассказывали, что он ездит в общественном транспорте, что предлагает убрать различные льготы для партийной номенклатуры. Ельцина сравнивали с Маленковым, вспоминая его выступления за отмену привилегий для партийной номенклатуры. И многие тогда, в начале девяностых, попали под обаяние этих дешевых, популистских лозунгов Ельцина.
А между тем в самой России народ спивался, употребляя всякие суррогаты. Среди подростков широкое распространение получила токсикомания: в подвалах и гаражах, вдалеке от родительских глаз, подростки вдыхали толуольные ароматы клея «Момент». Поставки наркотиков из Средней Азии шли уже конвейерным потоком. Возможно, когда-нибудь историки назовут этот период в истории России геноцидом: жертвами этого геноцида стали сотни тысяч погубленных жизней, миллионы сломанных судеб.
Возможно, какие-то либеральные экономисты найдут веские аргументы в пользу проводимых в стране Гайдаром реформ, но мне, простому обывателю, не постичь смысл того, чем занимались экономисты из окружения Горбачева и Ельцина. Как сочно выразился один из оппонентов Егора Гайдара, нужно страшно сильно ненавидеть свой народ, чтобы проводить такие реформы! В сталинские времена это назвали бы диверсией. Была промышленность, которая практически всем необходимым обеспечивала страну, были сельхозпредприятия, которые страну кормили, а теперь – поля, заросшие борщевиком. СССР в условиях жесточайших санкций сумела построить высокоразвитую экономику, которую разрушили Ельцин с Горбачевым. Сейчас, спустя годы после развала СССР, я понимаю, что будь во главе СССР политик масштаба Ден Сяо Пина, то в настоящее время не китайская экономика была бы на ведущих ролях, а российская. СССР погубила не гонка вооружений, а миссионерская желание нести свет и помощь голодному миру в ущерб благосостоянию собственных гражданам. Так было и до революции. Царскую Россию сгубила мессианская идея панславизма. Александр Второй не нашел денег на содержание Аляски и за бесценок продал ее Соединенным Штатам, в то время как огромные людские и финансовые ресурсы шли на войны с Турцией, чтобы – болгары и румыны получили независимость. И чем отплатили России румыны и болгары за десятки тысяч русских солдат и офицеров, погибших за их освобождение?! Болгария участвовала в двух войнах против России, и нынешняя Болгария готова при первом удобном случае вонзить ей нож в спину. Это та самая Болгария, которую называли 16-й союзной республикой, которая за бесценок получала российский газ, а также различные сырьевые ресурсы. Миллионы долларов шли на создание заводов и фабрик в азиатских и африканских странах, в странах Восточной Европы. Развивали промышленность в так называемых союзных республиках – на Украине, в прибалтийских республиках, в Узбекистане, Грузии, и все это в ущерб собственным окраинам. И что мы итоге получили в качестве благодарности? Циничное глумливое ерничанье «прощай, немытая Россия».
Горбачев с Ельциным за короткое время сделали Россию страной третьего мира.
Для меня лично с горбачевской эпохой помимо всего жуткого, что происходило в те годы в стране, связано закрытие нашей золотодобывающей артели «Печора». Непосредственно по указанию Горбачева бурную деятельность по дискредитации нашей артели развернул Егор Лигачев. Коррупционеры, воры, взяточники пытались обвинить руководство нашей артели в том, что не все добываемое золото поступает в казну государства, а часть её присваивается золотодобытчиками. В итоге артель закрыли.
После закрытия артели я перебрался в отцовский дом, в Веньяминовскую. К тому времени я уже успел стать пенсионером. И надо сказать, что я вовремя оказался в Веньяминовском: надо было заняться вопросом оформления наследства. Опоздай я на пару лет – и, возможно, двухэтажный дом нашего родственника Рукавишникова попал бы в руки какого-нибудь нувориша из бывшей партийной номенклатуры.
В доме отца мало что изменилось. Отец, конечно, был уже не тот бодрый старичок, каким я его помнил еще по семидесятым, но вполне еще дееспособный, чему способствовали его прогулки в горы.
В качестве прислуги отец приютил одну свою дальнюю родственницу, которая перебралась в наш дом со своим сыном, в ту пору молодым, болезненного вида худосочным парнем лет двадцати. Поначалу они меня раздражали, но потом я к ним привык, вели они себя тихо, скромно, к тому же они ухаживали за домом и садом.
На первом этаже, в кабинете отца, по-прежнему висел портрет Левина, хотя я ожидал, что сейчас, в перестроченное время, он уже уничтожен в огне камина. Но нет, портрет был на том же месте, но кое-что в портрете изменилось: краски потускнели, верхняя часть этого портрета, на уровне лица Левина, была в каких-то серых пятнах неопределенного происхождения. Родственница, которая производила уборку в доме, на эти пятна не обращала никакого внимания. Возможно, ей вообще было приказано не прикасаться к портрету. Обследовав портрет, я в деталях вспомнил историю из детства и подумал, что, вероятно, эта процедура ритуального осквернения изображения Левина за прошедшие годы повторялась неоднократно.
Еще одно открытие поджидало меня в саду: в глубине сада под сенью старого дуба я обнаружил серую гранитную плиту. На плите в две строчки были выгравированы две надписи – ФК и ЛК, а под ними стихотворение:
- Люба мне буква «Ка»,
- Вокруг нее сияет бисер.
- Пусть вечно светит свет венца
- Бойцам Каплан и Каннегисер.
- И да запомнят все, в ком есть
- Любовь к родимой, честь во взгляде:
- Отмстили попранную честь
- Борцы Коверда и Конради.
Под стихотворением в гранитную плиту была вмонтирована небольшая металлическая подставка, на которой лежали цветы. И как-то раз я увидел, как к этой гранитной плите с цветами в руках направлялся отец.
За три года, которые я прожил с отцом, эту сцену с цветами я наблюдал несколько раз. Отец приходил к этой плите четыре раза в году: 10 февраля, 27 марта, 3 сентября и 14 октября.
Поначалу я полагал, что эта плита установлена в память о каких-то его друзьях, погибших в годы репрессий. И лишь спустя годы, сопоставив выгравированные на плите фамилии Каплан и Каннегисер с датами их рождения, я понял, кто скрывался под инициалами ФК и ЛК: отважная еврейская девушка, которая стреляла в кровавого диктатора, уничтожившего Российского империю и по приказу которого были изуверски умерщвлены члены императорской семьи последнего царствующего из династии Романовых, и такому же смелому еврейскому юноше, который убил одного из большевистских палачей.
Отец с глубоким неприятием относился к тому, что происходило в горбачевском Союзе. Я часто слышал от него фразу: «Я хочу посмотреть, чем закончится этот спектакль». Но он одного года не дожил до Беловежского соглашения, финального акта этого спектакля. Впрочем, может быть, это еще и не финальный акт, а всего лишь прелюдия к финалу.
Тогда, в восьмидесятые годы, между нашими политическими взглядами была глубокая пропасть. Мы с ним часто спорили, обсуждая прошлые и современные события истории России. На каждый мой аргумент у него находился контраргумент.
На мою реплику о тысячах разрушенных большевиками храмах и монастырях он отвечал:
– Дело тут не в столько большевиках, сколько в национальности тех, кто уничтожал эти памятники. Я не знаю, ни одной взорванной большевиками синагоги.
Он не был сталинистом, но считал, что Сталин – не самое худшее из того, что могло приключиться с Россией, если бы после смерти цареубийцы Ленина к власти бы пришел Троцкий.
– Если бы после смерти Ленина к власти пришел Троцкий, то мир бы узнал о газовых камерах лет на пятнадцать-двадцать раньше, – часто повторял мой отец.
Он считал, что, задержись Маленков у власти лет на десять, в СССР удалось бы построить социализм с человеческим лицом по скандинавскому типу. Я во все эти утопии не верил. Я, как и многие, видел, что вся высшая партийная номенклатура прогнила сверху донизу. И Сталин был для меня одним из большевистских палачей без всяких скидок на не самое худшее из зол. Я спорил с отцом об этом, но, учитывая его возраст, понимал, что мне его не переубедить, поэтому в основном старался избегать разговоров на политические темы.
Спустя годы, вспоминая последние три года жизни отца, я ругал себя, что ввязывался в ненужные разговоры о политике, вместо того чтобы расспросить его про нашу родословную, про наших родственников Сириных и боковую ветвь семьи – купцов Рукавишниковых. Как-то на одной краеведческой конференции я подошел к знакомому старому архивисту, стоявшему в окружении таких же седовласых, бородатых любителей старины и сказал, что хотел бы задать ему несколько вопросов относительно нашей родословной.
– Об этом надо было расспрашивать своего отца. Ты же жил с ним, вот надо было и поговорить о вашей родословной. Мы что, советские дедушки, а он – родственник Рукавишникова. Он бы, я думаю, многое тебе мог бы рассказать, – ответил мне бородатый старец-краевед.
Сейчас, когда я вспоминаю отца, наши ожесточенные споры в восьмидесятые, мне на ум приходят слова из песни Владимира Высоцкого: «Мне теперь не понять, / Кто же прав был из нас / В наших спорах без сна и покоя. / Мне не стало хватать его только сейчас, / когда он не вернулся из боя».
Но тогда, в восьмидесятые, голова у меня была забита совершенно другими вещами, чем родословная нашей семьи. У нас в городе было неспокойно. Наша бывшая соборная площадь превратилась в место сборищ различных горлопанов. Кого только здесь не было. Стояли различные кучки ловцов душ: националисты из «Памяти», кришнаиты, иеговисты, пятидесятники, антисоветчики всех мастей.
Отдельную группу составляли шапсуги. Они стояли с плакатами, призывающими признать геноцидом события Кавказской войны девятнадцатого века, а также выселение значительной части коренного населения Северного Кавказа в Турцию, сталинскую депортацию народов Кавказа. Среди них выделялся один – высокий, статный, он был на голову выше даже самых рослых шапсугов. Многие, как и я, знали его только по прозвищу «Вождь». Его крупное телосложение невольно вызывало ассоциацию с актером Сипсоном из фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки».
Активное брожение началось и среди партийной номенклатуры – работников обкомов и райкомов: номенклатурные чиновники, антисемиты по своим внутренним убеждениям, вдруг обнаруживали в своих родословных семитские корни и, вооружившись брошюрками еврейского общества помощи иммигрантам «Как успешно пройти иммиграционное интервью в американском посольстве» и «Руководство для иммигрирующих в Соединенные Штаты», ринулись со своими семьями штурмовать консульские отделы посольства США в СССР, чтобы с долгожданной визой и статусом беженца, обеспечивавшим этим потомкам энкавэдэшников безбедную жизнь за счет американских налогоплательщиков, переселиться в Соединенные Штаты. Скудоумным американским чиновникам из посольства они рассказывали вымышленные истории о страданиях своих родственников, якобы подвергшихся репрессиям от кровавого коммунистического режима, утверждали, что испытывают серьезные опасения в нынешних условиях активизации национализма в Советском Союзе подвергнуться преследованиям на религиозной или национальной почве. И в итоге добивались долгожданного статуса беженцев.
Вслед за этими мнимыми беженцами по проторенной асями пекуровскими, еленами козлёнками, татьянами апраксиными дороге потянулись охотницы за графскими титулами и отпрысками из состоятельных и респектабельных буржуазных семеек.
Глядя на эти толпы уезжающих в Соединенные Штаты представителей партийной номенклатуры различного уровня, я про себя думал, что когда-нибудь все эти мнимые беженцы, все эти дети и внуки бывших партработников взорвут Америку. Нет, они не будут подрывать устои общества, не будут вести коммунистическую пропаганду, как их отцы и деды. Собственно, и их отцы и деды не верили ни в какие коммунистические идеи. Все эти вылезшие из разных углов представители разночинного отребья, все эти Бронштейны, Ульяновы, Свердловы, Хрущевы никогда не верили в коммунистические идеи. Они хотели власти и рая на земле для себя и для своих детей. Собственно, они и жили как в раю. Когда в двадцать первом году в Поволжье от голода ежедневно умирали десятки тысяч людей, гнусные большевистские вожди и их семьи отдыхали на курортах Германии. Единственный человек, который, возможно, верил в коммунистическую утопию всеобщего равенства и братства, был недоучившийся семинарист Джугашвили. Потому-то он и оставил после себя несколько костюмов армейской одежды. Нет, эти перебравшиеся за океан дети большевистских палачей, сексоты и дети сексотов не позволят себе критиковать буржуазные ценности. С этим у них все будет в порядке, но они принесут в Америку ненависть: они ведь и здесь, в Советском Союзе, делили мир на людей первого, второго и третьего сорта. Все, кто не принадлежал к их партийной номенклатурной ячейке, были людьми второго и третьего сорта. И там, в Америке, у них также мир будет делиться на людей первого, второго, а может, и какого-то десятого сорта: есть англосаксы, есть немцы, есть европейцы из стран не первой величины вроде итальянцев, шведов, датчан, ирландцев, а есть и совершенно непонятные для них представители европейских народностей – чухонцы-финны, латыши, литовцы, поляки и прочее. А в нижней части их социальной шкалы ценности человеческой породы будут располагаться афроамериканцы, латиноамериканцы. Деньги различных американских благотворительных обществ, которые могли быть использованы на поддержку социально обездоленных слоев американского общества, будут уходить в карманы тех, кто в реальности не имел никаких оснований для получения статуса беженцев, чьи отцы и деды были повинны в поступках, которые можно отнести к преступлениям против человечества.
И в этом отношении Соединенные Штаты повторяют путь многих великих колониальных империй. Колониальные империи в самих себе несут проклятие: легко доставшееся богатство из колониальных метрополий разлагает титульную нацию. Кроме того, рано или поздно наступает пора, когда побежденные народы начинают завоевывать метрополию, постепенно выдавливая на периферию социальной жизни утративших пассионарный запал детей и внуков колонизаторов. Внуки колонизаторов, растерявшие в сытой, беспечной жизни железную хватку и упорство своих предков в преодолении препятствий для достижения целей, вытесняются мотивированными, амбициозными выходцами из колониальных окраин, которые постепенно добиваются социально значимого положения в обществе, занимая благодаря своему упорству и мотивации социально престижные профессии и должности. Благодаря сохранившейся клановой системе родственных отношений этот путь по карьерной лестнице уже с меньшими затратами проделывают другие выходцы из колониальных окраин, а коренные жители метрополий отодвигаются на периферию социальной жизни. И такое положение вещей мы видим и в Англии, где индусы, пакистанцы и другие выходцы из колониальных окраин постепенно вытесняют англичан, и во Франции, где наблюдается засилье арабов.
Эволюция горбачевских перестроечных реформ привела нас к бандитским девяностым годам – годам расцвета беззакония, вседозволенности и уголовного беспредела. А потом наступил август девяносто первого года, когда под звуки балета Чайковского «Лебединое озеро» нам сообщили, что для спасения отечества организован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Однако у руководителей этого комитета не было ни силы, ни воли, и всё завершилось триумфальным приходом алкоголика Ельцина к власти. На различных каналах показывали стоящего на танке Ельцина, зачитывающего обращение «Гражданам России», как в народе шутили – «Ленин на броневике».
И этот плохо срежиссированный спектакль завершился арестом руководителей аморфного чрезвычайного комитета и роспуском компартии. Тогда многих захлестнула волна эйфории и всеобщего братания. И за братанием не заметили, как наступил декабрь, когда рано утром люди вдруг узнали, что страны больше нет. Все произошло стремительно – несколькими росчерками пера Ельцин, Кравчук и Шушкевич, устроив дружеский пикничок в Беловежской пуще, в одночасье упразднили огромную страну. Огромная страна, наводящая ужас на Европу, вторая в мире по ядерному арсеналу оказалась колоссом на глиняных ногах. Многие почувствовали себя оплеванными, а безвольный, бесхарактерный Горбачев был озабочен только одним: какие он получит льготы как бывший глава государства. Миллионы русских оказались по разные стороны границы. В бывших среднеазиатских республиках – Таджикистане, Киргизии и Узбекистане – началось насильственное выдворение русского населения. В газетах писали о погромах в кварталах, где проживали русские. Таившаяся со времен басмачества ненависть к русским вылилась на специалистов, приехавших в эти республики развивать промышленность. Самые страшные гонения, ужасающие своей дикостью и жестокостью, выпали на долю русского населения в Таджикистане в самом начале девяностых, когда толпы малообразованных жителей кишлаков съехались в Душанбе и, вдохновленные лозунгами таджикской поэтессы Гурлусхор Сафиевой, призывающей кровью смыть русскую грязь за поруганную северными варварами прекрасную темноглазую Родину, начали громить русские кварталы – насиловать женщин, убивать тех, кто когда-то приехал в Таджикистан строить заводы и фабрики, нести цивилизацию в этот дикий край.
И русские, оставив все нажитое, в спешке уезжали из этих республик. А спустя некоторое время выходцы из Средней Азии, те, кто насильственно выдавливал русских, ринулись в российские города. И пользуясь тем, что значительная часть границы между Россией и Казахстаном практически не контролировалась погранслужбами, в страну хлынули огромные толпы нелегальных мигрантов. И счет шел уже не на десятки и сотни тысяч, а на миллионы, даже на десятки миллионов. Как заметил один газетный репортер, ситуация с нелегальной миграцией в России напоминает жизнь в огромной коммунальной квартире, не имеющей входных дверей, жильцы которой, увидев прогуливающихся по длинному коммунальному коридору людей, не могут определить, то ли это гости кого-то из жильцов, то ли какие-то преступники залезли в квартиру, чтобы поживиться. Попытки некоторых политиков и публицистов привлечь внимание общественности к этой проблеме обернулись жестокими преследованиями их же самих: их обвиняли в экстремизме, в разжигании национальной розни, и, чтобы избежать судебного преследования, некоторым из этих политиков и публицистов пришлось эмигрировать. Коррумпированных российских чиновников и депутатов совершенно не волновали проблемы нелегальной миграции. Свое будущее и благосостояние своих детей они связывали исключили со странами Запада – США, Канадой, Австралией и странами континентальной Европы.
Поначалу приехавшие в Россию среднеазиатские мигранты вели себя скромно, боялись, не предъявят ли им счет за насильственные действия в отношении русского населения в этих среднеазиатских республиках, но быстро поняли, что чувство локтя у русских развито слабо, и в скором времени, пользуясь своей клановой сцепкой, уже вели себя как хозяева.
Мотивированные, амбициозные выходцы из среднеазиатских республик благодаря сохранившейся клановой системе родственных отношений постепенно выдавливали из социально значимых профессий коренных жителей метрополии на периферию жизни. Россия для них являлась лишь местом финансового благополучия, и значительной части из них была совершенно чужда русская культура. В Москве, Петербурге целые кварталы оказались заселены выходцами из Средней Азии.
Мне запомнилась одна картина из девяностых годов: узбечка на ломаном русском языке на улице говорила своей дочери: Если будешь плохо учиться, будешь как русская алкашка.
Россия повторяла путь многих развалившихся империй: вытеснение пассионарными выходцами из колоний на периферию социальной жизни коренных жителей метрополии. Но тогда, в начале девяностых годов, большинство не понимало еще всей серьезности этой внешней миграции.
В Прибалтике тем временем установился настоящий режим апартеида: русское население было признано гражданами второго сорта, точнее, людьми, практически лишенными гражданских прав, как некогда африканское население в ЮАР. И это происходило практически в самом центре Европы. В народе шутили, что в странах Прибалтики вскоре, как некогда в ЮАР, появятся отдельные туалеты, кафе и пляжи для титульной нации и для русских, неграждан этих стран. Когда в восьмидесятые люди выходили на митинги, они и предположить не могли, кому выстилают дорожку к власти. Развал СССР – это трагедия не только русских, но и многих других народов – эстонцев-сету, латышей из Абрене, армян, азербайджанцев, грузин, абхазов, осетин, народов Средней Азии. Вместо того чтобы цивилизованным образом оформить выход бывших союзных республик из состава СССР, решить вопросы с границами, все было сделано в спешке, за банкетным столом на беловежской даче Шушкевича. Алкоголика Ельцина нисколько не заботила судьба русского народа, как и прочих народов, оказавшихся в новых условиях по разные стороны государственных границ. Ему важно было поскорее занять место Горбачева в Кремле, а для этого он, подобно персонажу из комедии Гайдая Бунше, готов был с легкостью, как шутили в народе, за хорошую выпивку отдать десяток Кемских волостей.
Тогда, в первые месяцы девяносто второго года, было странное ощущение совершенного отсутствия власти. У нас в городе спокойно разъезжали молодчики с автоматами из разных бандитских группировок. Милиция, которая еще совсем недавно готова была хватать всяких митингующих, совершенно исчезла с улиц. Положение напоминало октябрь семнадцатого года. Власть буквально лежала на улице. Если бы в России тогда имелась какая-то организованная сила вроде партии большевиков, с какими-нибудь харизматическими лидерами вроде Ленина и Троцкого, то она с легкостью могла бы взять под свой контроль власть. Если бы тогда, в девяносто втором, среди этих бандитских группировок нашелся лидер, в мыслях которого было бы не сиюминутное желание набить деньгами карманы, а более глобальные цели и планы, для реализации которых он бы сумел сплотить все эти бандитские массы, то ему не составило бы большого труда выбить из Кремля алкоголика Ельцина. Но таких, по-настоящему буйных, не нашлось ни среди бандитов, ни среди политиков. Большинство жило одним днем: как прокормить семью и выжить в этих жутких условиях. В январе девяносто второго грянула ельцинская денежная реформа, в результате хитроумных пертурбаций правительства Гайдара граждане стали миллионерами, но большинству этих бумажек хватало только чтобы еле-еле свести концы с концами – прожить от аванса до зарплаты. Миллионы людей в результате этой денежной реформы потеряли свои вклады в Сбербанке. Лично для меня после этой истории Сбербанк утратил моральное право называться банком.
В то время как большинство людей перебивались с хлеба на квас, окружение Ельцина с помощью подонков вроде Козленка вывозило из хранилищ Госохраны драгоценные камни и золото.
И в этих условиях было уже не до политики. Ряды митингующих и праздных горлопанов на нашей соборной площади заметно поредели. Куда-то пропали шапсуги и их колоритный руководитель, которого мы все звали «Вождь».
Если у кого-то еще оставались иллюзии относительно Ельцина и его окружения, то события октября девяносто третьего в Москве окончательно развеяли их. Люди потеряли не только веру в справедливость и торжество демократических принципов. Для многих эти события стали прощанием с прекрасной эпохой, прощанием со своими кумирами, чьи фамилии стояли в списке сорока двух подписантов письма интеллигентов в поддержку действий алкоголика Ельцина.
А год спустя началась позорная чеченская война. За свою многовековую историю российская армия еще не испытывала такого позора, как в первую чеченскую войну: армия, которая смогла победить гитлеровскую Германию, оказалась не способна справиться с несколькими тысячами чеченских боевиков и на глазах всего мира терпела унизительное поражение, закончившееся Хасавюртовским соглашением. Это была позорная война не только потому, что некогда могучая армия терпела поражение в боях с противником, который значительно уступал в численности и боевом оснащении, но и потому, что это была война против собственных граждан с применением всех видов вооружения (за исключением ядерного).
Апогеем всеобщего разочарования стали выборы девяносто шестого года. Я думаю, эти выборы по части фальсификации так и останутся непревзойденными. Человек, которого ненавидело большинство населения России, стал победителем. Если бы Зюганов по примеру украинских майданщиков вывел бы народ на улицу, то немного нашлось бы желающих выступить в защиту старого маразматика и алкоголика Ельцина. Своим бездействием Зюганов показал, что он является такой же политическим проституткой, как и Жириновский и вся кремлевская карманная оппозиция. Реальные противники Ельцина – Старовойтова, Ющенков, Лев Рохлин, те, кто реально мог составить оппозицию, – погибли при загадочных обстоятельствах.
В этих условиях полного политического одичания народа, утраты веры в свое собственное государство появление на посту премьер-министра субтильного, спортивного телосложения бывшего полковника КГБ для многих было глотком свободного воздуха. Если бы в конце восьмидесятых, в эпоху лютой ненависти к КГБ и КПСС, какой-нибудь человек позволил бы себе заявить, что через десять лет страной будет управлять человек из КГБ, то его в лучшем случае посчитали бы сумасшедшим, а в худшем могли подвергнуть и суду Линча. Но в девяностые, после жутких потрясений реформ Гайдара и Чубайса, это уже не воспринималось как худшее из зол.
На фоне бессвязного алкогольного лепета Ельцина хлесткие фразы бывшего сотрудника КГБ у многих вызывали одобрение, и даже уголовный привкус этих выражений («мочить в сортире») не воспринимался как нечто, не подобающее руководителю государства.
Уставшие от уголовного беспредела люди мечтали о сильной руке, и вот эта сильная рука появилась. Потихоньку начали закручивать гайки, при этом так искусно, что это не сразу и заметили.
Первым звонком в нашем городе стало закрытие газеты «Уездный город N».
Вместо прежнего мэра был назначен новый, как в народе шутили, «наш провинциальный Наполеон»: маленький, толстый, пузатый. И по случайному ли стечению обстоятельств или же во исполнение наметившейся тенденции новой кадровой политики центральных властей наш новый мэр тоже оказался человеком из органов. И он с лихостью принялся чистить запущенные авгиевы конюшни своих предшественников. Поначалу он загнал в угол излишне ретивых журналистов.
Помнится, один бойкий журналист в нашей районной газете «Уездный город N» написал статью, в которой сравнил нового премьер-министра, которому выпало руководить второй чеченской кампанией, с византийским императором Василием Вторым Болгаробойцей. «Византийского императора Василия Второго, – написал он в своей статье, – за то, что он ослепил десять тысяч пленных болгар, историки прозвали Болгаробойцей. Может быть, спустя десятилетия и нашего нынешнего премьера назовут Владимир Чеченобойца».
Газету вскоре закрыли, а журналист исчез – рассказывали, что уехал в Москву. Этот месседж нашего нового городского главы очень быстро дошел до журналистов. Журналисты оказались людьми сообразительными, и никто из них больше не позволял себе подобных вольностей. Не зря ведь в девяностые в шутку говорили, что журналист – одна из древнейших профессий, точнее, самая древняя.
С приходом новой власти там, в центре, и с изменениями во властных структурах здесь, на местах, стали потихоньку закручиваться гайки. Вслед за газетой «Уездный город N» закрылось несколько левацких и националистических газет, а затем взялись непосредственно и за самих националистов. Поначалу это коснулось радикальных националистов из числа шапсугов, потом баркашовцев и местных филиалов Русского национального единства, чуть позже наши местные эфэсбэшники добрались до местных ячеек национал-большевистской партии Лимонова и движения против нелегальной иммиграции, а потом дело дошло и до религиозных организаций – закрыли церковь свидетелей Иеговы и отобрали их молитвенный дом – Зал собраний. Глядя на происходящие события, многие вспоминали известную фразу немецкого пастора Мартина Нимёллера: «Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал – я не был коммунистом; когда они сажали социал-демократов, я молчал – я не был социал-демократом; когда они забирали евреев, я молчал – я не был евреем; когда они стали хватать членов профсоюза, я молчал – я не был членом профсоюза; когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому».
И последним ударом гонга по нашему провинциальному свободомыслию стало закрытие театра Юрия Боровлева «Хэппенинг».
Режиссера Юрия Боровлева наши местные острословы в шутку называли «наш местный Павленский». Юра Боровлев действительно был экстраординарной личностью; эпатажных выходок Павленского вроде пригвождения своей мошонки перед зданием ФСБ он себе, конечно, не позволял, но в его театре было много такого, что, возможно, обрадовало бы и самого Павленского.
Театр располагался в здании бывшего Дома культуры железнодорожников. Поначалу театр назывался «Театр нерешенных проблем».
Там был шутовское кафе «Перестройка». В фойе Дома культуры, как раз перед входом в кафе, стояла статуя Свободы из папье-маше. Рот статуи был заклеен скотчем, на котором было написано: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать».
Обслуживала посетителей полуголая девица в маске Раисы Максимовны и толстый мужичок в маске Горбачева, который выглядел как персонаж Penthausе – из одежды на нем были только черные кожаные трусы с каким-то висячим замком на поясе. На сцене выступало стрип-шоу девиц в масках эстрадных персонажей конца 80-х годов. Девицы похотливо вертели своими задницами под похабные куплетики перестроечной эстрады, всех этих Богданов Титомиров и Кай Метовых. Карнавальные Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич обходили гостей с подносом, на котором лежали различные сигары, предлагали гостям попробовать марихуану, кокаин. Рассказывали, что милиция даже как-то устроила облаву в кафе, но оказалось, что все эти травки – бутафория.
В кафе было шутовское меню и шутовской вертел, на котором вертелись маленькие куколки с масками известных политических деятелей – Черчилля, Артура Харриса, Кёртиса Лемэя, Пол Пота, Ленина, Троцкого, Свердлова и других. Посетителям предлагалось испробовать жаркое по-дрезденски, приготовленное из их филейных частей. Меню включало также бефстроганов по-романовски: как указывалось в меню – «обжаренное мясо, слегка подержанное в серной кислоте». В качестве ингредиентов указывалось мясо из филейных частей тела Ленина, Троцкого, Свердлова и Юровского. Предлагалась также строганина по-колымски и по-воркутински из филейных частей тушек Генриха Ягоды и Лаврентия Берии.
По вечерам в театре Боровлева показывали выполненный с помощью компьютерной графики спектакль «Добро пожаловать в ад (инсталляции по мотивам произведения Данте)». Вместо Вергилия проводником по аду выступал один из злейших противников христианства в античности Цельс.
На огромном экране разворачивалась инсталляция в виде огненного озера. Оно было заполнено не водой, а какой-то вязкой жидкостью, напоминающей смолу, синие языки пламени лизали его поверхность. В это озеро стекали различные реки. Их смолянистые воды несли людей, которые плыли подобно бревнам при молевом сплаве. То и дело возникали и вновь исчезали в огненной стихии смолянистого озера руки, головы. На озере были скалистые острова. Брошенные в огненное озеро люди пытались взобраться на эти скалы, но из-за крутизны склонов им это не удавалось, к тому же другие сдергивали вниз желающих выбраться из этой огненной трясины.
Огненное озеро сменялось пустынным пейзажем, и там, среди песчанных барханов сидели прикованные цепью к столбам полуголые люди. На них были закреплены металлические вериги с острыми шипами. Время от времени откуда-то из недр раскаленной пустыни вырывался фонтан воды. Закованные цепью устремлялись к этому фонтану, но подойти близко им не удавалось – вериги с шипами впивались в их тела, а вода уходила в песок.
На одной из инсталляций были представлены люди с бейджиками депутатов Государственной думы. Они также цепями были прикованы к столбам. Они сидели на карточках, перед ними лежали картонные коробки, из которых они вытаскивали различные вещи – трусы, майки, носки – и распределяли их по разным кучкам. После чего из этих же коробок они вытаскивали буханки ржаного хлеба, начинали тщательно их взвешивать и разрезать на тонкие ломтики. Вдруг между ними вспыхивала драка, из-за того что один из сидящих попытался незаметно стащить хлеб у своего соседа. Для остальных это было чем-то вроде призыва к нападению на своих соседей, чтобы отнять у них хлеб. На экране в это время бегущей строкой проходила надпись: «Депутаты Государственной думы пытаются распределить по месяцам вещи и продукты, которые полагаются каждому гражданину согласно принятому этими депутатами закону о прожиточном минимуме, но у них ничего не получается».
И так инсталляция за инсталляцией показывали обитателей всех девяти кругов ада. Посреди одного из этих кругов стояло железное дерево с железными же ветвями и сучьями, на котором подвешенные языками на железные крюки висели журналисты радиостанций Voice of America, British Broadcasting Corporation, Radio Free Europe / Radio Liberty, Deutsche Welle и популярных европейских и американских газет и журналов: Times, Guardian, Daily Telegraph, Financial Times, Independent, Sunday Times, Observer, Sunday Telegraph, The Sun, The New York Herald, The New York Tribune, USA Today, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Daily News, New York Post, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neues Deutschland, Le Figaro, Le Monde, Liberation, Le Parisien, La Tribune и других.
Все эти девять кругов ада были наполнены известными персонажами европейской и российской истории новейшего времени. Наибольшее число известных европейских политических деятелей было помещено в девятый круг ада. Здесь была представлена вся многочисленная рать испанских конкистадоров – Эрнан Кортес, Франсиско Писарро, Франсиско Кордова, Франсиско Монтехо и их менее известные соратники по истреблению индейцев Центральной и Южной Америки. Рядом с ними в обнимку с латиноамериканскими диктаторами Анастасио Самосой, Альфредо Стресснером и Аугусто Пиночетом стоял испанский фашистский диктатор генерал Франсиско Франко.
Здесь же, среди обитателей девятого круга ада, был представлен весь цвет английской аристократии – вся королевская династия Англии начиная от королевы Елизаветы Первой Тюдор до ныне еще здравствующей Елизаветы Второй, премьер-министры Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, в окружении своих предшественников начиная от Роберта Уолпола до Терезы Мэй, включая Бенджамина Дизраэли, Уильяма Гладстона, а также несколько десятков малоизвестных первых лордов казначейства Великобритании.
Рядом с первыми лордами казначейства Великобритании стояли Артур Харрис, Кёртис Лемэй, Наполеон Бонапарт со своим племянником Наполеоном III в окружении своих любимых полководцев – Нея, Даву, Мюрата, Понятовского, Богарне; болгарские цари Фердинанд I, Борис III и Симеон II, Йон Антонеску, Бенито Муссолини. Весьма солидной компанией была представлена Германия: император Вильгельм рядом с Адольфом Гитлером и его ближайшими соратниками – Гиммлер, Геринг, Геббельс, гитлеровские военачальники Майнштейн, Кейтель, шеф гестапо Мюллер. Весь этот дьявольский гитлеровский легион находился в одном обществе с большевистскими лидерами – Ленином с бейджиком «антихрист», Свердловым, Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным, Рыковым, всесоюзным старостой Калининым, Ягодой, Берией, Кагановичем и еще несколькими десятками большевистских и коммунистических деятелей различных рангов. Рядом с ними стояли Хрущев, Горбачев, Ельцин со своими приближенными – Шахраем, Шумейко, Кохом, Ястржембским, камбоджийский диктатор Пол Пот, американские летчики Пол Тиббетс и Чарльз Суини, американские президенты Гарри Трумэн, Линдон Джонсон, семейство Джорджа Буша, Барак Обама и чета Клинтонов, американские советники по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер, государственные секретари США Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл. Рядом с ними стояли Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен, Франк-Вальтер Штальмайер и одетые в форму Гитлерюгенда и Союза немецких девушек, с нарукавными повязками с гитлеровской свастикой. На груди у них были приколоты бейджики со значком антихриста с тремя шестерками – 666. Рядом с немецкими политиками стоял в эсэсовской униформе глава норвежских нацистов Видкун Квислинг, возле которого в обнимку с Расмуссеном стоял Йенс Столтенберг.
Рядом с ними находилась еще одна группа: в обнимку с генералом Дугласом Макартуром стояли японский император Хирохито и принц Ясухико Асака. Они были одеты в белые футболки с портретом Гитлера и надписью Adolf Hitler is my best friend.
Солидной компанией были представлены и украинские политики. Здесь был весь бомонд известных персон украинской истории прошлого и настоящего – Петр Сагайдачный, Иван Выговский, Иван Мазепа, Павел Скоропадский, Симон Петлюра, Нестор Махно, Степан Бандера, Андрей Мельник, Роман Шухевич, Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Владимир Зеленский. По соседству с ними находилась группа латышских политических деятелей: в центре стояла Вайра Вике-Фрейберг, рядом с ней большевистские и гитлеровские палачи – Иоаким Вацетис, Фёдор Эйхманс, Ян Берзиньш, Кирилл Стуцка, Яков Петерс, Фридрих Кальнинш, Мартын Лацис, Виктор Арайс, Гербер Цукурс, Карлис Озолс, Конрад Калейс. Рядом с латышскими политиками стояли их литовские коллеги – Витаутас Лансбергис, Альгирдас Бразаускас, Валдас Адамкус, Даля Грибаускайте. Они были одеты в белые футболки, на которых было написано «Комитет государственной безопасности». Только у Адамкуса надпись на футболке была написана на английском – Central Intelligence Agency, CIA.
И среди этой разношерстной когорты известных личностей бродил Илон Маск в костюме Devil’s Champion-Leather Armor Set. На груди у Илона Маска красовался бейджик с надписью The devil’s favorite disciple. Компанию Илону Маску по его перемещениям по девятому кругу ада составлял Марк Цукерберг. Он был одет в белую футболку, на груди которой красовалась надпись Central Intelligence Agency, CIA и висел такой же бейджик, как у Илона Маска: The devil’s favorite disciple.
И все они были помещены в девятый круг ада. В центре круга стояла статуя Свободы. На лбу у статуи красным фломастером было написано: «Великая тайна – Вавилон. Великая блудница». Рот статуи Свободы был заклеен скотчем, на котором тем же самым красным фломастером было написано: Whereof one cannot speak, thereof one must be silent. На голове у статуи было устроено что-то вроде трона, на котором восседал Люцифер – в человекообразном облике, в длиннополой одежде, из-под которой торчал длинный дьявольский хвост, как на старообрядческих миниатюрах. А вокруг статуи на четвереньках ползали обитатели девятого круга, одетые в облезлые меховые шкуры, делающие их похожими на одичалых собак. Время от времени Люцифер бросал им сверху какие-то кости, и они, подобно собакам, бросались на эти кости, начиналась грызня, стоял лай, визг, сопровождаемый громким хохотом Люцифера: Гитлер пытался выхватить брошенную кость у Ленина, Троцкий дрался с Гиммлером, Ельцин с Горбачевым, Хрущев Кагановичем, а японский император Хирохито и принц Ясухико Асака пытались вырвать кость у Пол Пота.
Здесь же, возле статуи Свободы, стояла Виктория Нуланд в таком же костюме Devil’s Champion-Leather Armor Set, как у Илона Маска, и раскидывала печенье с изображением рогатого дьявольского образа с цифрой 666. В ногах Виктории Нуланд ползали и дрались за брошенные ею кусочки печенья Порошенко, Яценюк, Турчинов, Тягнибок, Кличко, Ярош. На них были футболки с портретами Бандеры, Андрея Мельника, Шухевича. Рядом с ними ползали еще несколько человек в пестрых одеяниях, пытаясь пробиться к ногам Виктории Нуланд и ухватить какие-то из валяющихся кусочков печенья: Зеленский в шутовском костюме Полишинеля; Арестович в белой блузке с рюшами и воланами, в короткой черной юбке и в колготках красного цвета; генералы Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Александр Сырский, на лбу которых крупным шрифтом была сделала татуировка «Манкурт». И среди этой толпы украинских политиков ползал константинопольский патриарх Варфоломей в испачканной рясе, из-под которой торчал ворот кителя офицера турецкой армии.
А рядом с этой группой в инвалидной коляске сидела Юлия Тимошенко. Она также пыталась пробиться к месту, где лежали брошенные Нуланд кусочки печенья, но ползающая перед ней толпа украинских политиков во главе с Порошенко не давала ей такой возможности, и она палкой била по их спинам, пытаясь очистить себе дорогу, но на нее не обращали внимания и продолжали драться, с остервенением выхватывая друг у друга кусочки печенья.
Все это шоу заканчивалось инсталляцией «Старые песни о главном». На сцене были представлены многие из известных российских политических деятелей современности и прошлого: Хрущев со своей женой Ниной Петровной, Горбачев и Раиса Максимовна, Егор Яковлев, Шеварднадзе, Егор Лигачев, соратники Ельцина – Волошин, Бурбулис, Шахрай, Шумейко, Филатов, Чубайс, Кох, Андрей Козырев. Здесь же стоял Егор Гайдар, которого окружали видные российские олигархи и либеральные соратники – Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Петр Авен, Михаил Прохоров, Виктор Вексельберг, Олег Тиньков, Дмитрий Рыболовлев, Алексей Кудрин, Аркадий Дворкович, Владислав Сурков, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко, Андрей Илларионов. Рядом с Сурковым стояли Мария Дрюкова и Роберт Шлегель. Они были в белых футболках с цветной картинкой в центре. Композиция напечатанного на футболке изображения напоминала фреску Джотто ди Бондоне «Поцелуй Иуды», только Христос был представлен в образе Путина, Иуда на футболке Дрюковой – в образе самой Марии Дрюковой, а на футболке Шлегеля – в образе самого Роберта Шлегеля. Над изображением были напечатаны надписи: у Марии Дрюковой она была на английском языке: God Bless America[5], а у Роберта Шлегеля – на немецком: Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt[6].
На белых футболках российских политических деятелей также были отпечатаны различные высказывания. Так, на футболке Алексея Кудрина была оттиснута надпись «Пенсионерам – достойную пенсию», а в скобочках – «Тем, кто доживет до пенсионного возраста», и заканчивалась фраза улыбающимся солнечным смайликом. У Владислава Суркова надпись была на латинском: Lucri bonus est odor ex re qualibet[7]. Возле Дрюковой и Шлегеля в таких же футболках, как у Суркова, и с такой же надписью на латинском Lucri bonus est odor ex re qualibet стояли Константин Эрнст, Ксения Собчак, Иван Ургант, Леонид Невзлин, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко и Михаил Козырев. По соседству с ними в белых футболках стояли Михаил Ходорковский, Борис Немцов и Ирина Хакамада. На белой футболке Хакамады был нарисован портрет принца Ясухико Асака, а под ним надпись: «Мой кумир – принц Ясухико Асака». А на футболке Ходорковского была оттиснута надпись на латыни: Mundus vult decipi, ergo decipiatur[8]. На футболке Бориса Немцова были нарисованы молоденькие девушки в коротеньких юбках, а под ними надпись на английском: Some Like It Hot[9].
Возле них, по-барски выставив вперед ногу, стоял бывший глава РЖД Владимир Якунин. Он был одет в серый костюм-двойку, под расстегнутым пиджаком которого виднелась белая футболка с надписью: «Блажен, кто умеет одновременно служить двум господам (Евангелие от Якуниных)». На груди у Владимира Якунина висел большой золотой наперсный крест, как у православных священников. Рядом с Якуниным стояли его сыновья – Андрей и Виктор. На них были такие же футболки, как у Владимира Якунина, с такой же надписью: «Блажен, кто умеет одновременно служить двум господам (Евангелие от Якуниных)».
На груди у всех стоящих болтались бейджики с надписью: The Devil’s Supervisor.
На лице Гайдара блуждала знакомая многим рассеянная улыбка, а в руке Гайдар держал книжку «Мальчиш-кибальчиш и мальчиш-плохиш», на обложке которой были нарисованы Эдуард Лимонов в буденовке и сам Егор Гайдар в железной каске, в каких в прошлом веке ходили кайзеровские солдаты. Рядом с Гайдаром стояла его дочь Мария. В руках стоящего по соседству Чубайса была небольшая брошюрка с затертой и помятой обложкой «Электрификация всей страны». Возле Чубайса, трепетно прижимая к груди толстую книгу, подобно тому, как благочестивые сельские священники держат Библию, стоял Илья Пономарев. На серой обложке этой толстой книги было написано название книги и фамилия его автора: «Н. П. Пономарев. История КПСС».
Возле Чубайса стоял какой-то мужчина с плакатом: «Чубайс – Forever. Инвестиционный фонд Генеральная инициатива».
Рядом с бизнесменами плотной массой стояли депутаты Государственной думы и Совета Федерации, а также журналисты, среди которых выделялись Владимир Познер и Николай Сванидзе. Они стояли, держа перед собою, подобно тому как шествуют во время крестного хода прихожане с иконами, книгу большого формата, на которой красовалась надпись: «Владимир Познер. Николай Сванидзе. Деньги не пахнут, или 99 способов сделать бизнес в журналистике». Рядом с ними, обнявшись, стояли Станислав Белковский, Александр Невзоров, Максим Покровский, Юрий Дудь, актеры Алексей Панин и Семен Слепаков. На белых футболках Невзорова, Покровского, Дудя, Панина и Слепакова красовалась надпись: «Чтобы не умереть в безвестности, я готов на любую подлость», а на футболке Белковского – «Главное в жизни – это угадать направление ветра».
Здесь же стояли Татьяна Дьяченко со своим мужем Валентином Юмашевым и Наина Ельцина, а рядом с ними Мавроди. Он был одет в костюм-двойку, под пиджаком виднелась футболка, на которой красовалась надпись: «Дело Мавроди живет и процветает». Плотными рядами, обнявшись, стояли на пустыре известные политики, именитые и влиятельные люди, известные актеры, писатели, художники и музыканты – писатель Борис Акунин в белой футболке с улыбающимся солнечным смайликом с надписью «Плохие люди спят спокойно» и Людмила Улицкая, одетая в такую же, как у Константина Эрнста и Ксения Собчак, футболку с латинской надписью Lucri bonus est odor ex re qualibet; Андрей Макаревич в обнимку с Софией Ротару, на футболке которой на фоне разрушенного аэропорта Донецка красовалась надпись: «Я, ты, он, она – вместе дружная страна», а у Макаревича на футболке была оттиснуто: «Ложь должна быть огромна, иначе ей не поверят»; Алла Пугачева с Максимом Галкиным, который был одет точно так же, как Арестович – в белую блузку, короткую черную юбку и колготки красного цвета; Земфира Рамазанова с Ренатой Литвиной в одинаковых белых футболках с надписью «Другая любовь»; актриса Чулпан Хаматова в белой футболке, на которой была надпись: «Зулейха закрывает глаза», и много других, менее именитых актеров, писателей и музыкантов. У Аллы Пугачевой на футболке написано: «Я – мадам Брошкина». Рядом с Галкиным и Пугачевой стоял Борис Гребенщиков с большой окладистой бородой, как у индийских гуру, и белой футболке с надписью: «Я мэн крутой, я круче всех мужчин».
Дирижировал хором Борис Ельцин. Его пиджак, подобно пиджакам молодых тинейджеров, украшенным значками названий любимых рок-групп, был увешан этикетками различных алкогольных напитков. Всем присутствующим Ельцин раздал листы с партитурой и текстом песни Джона Леннона Imagine. В качестве солистов выступали Фридман, Дерипаска и Роман Абрамович.
Ельцин взмахнул дирижерской палочкой, и Фридман бархатным баритоном начинал петь:
- Imagine there’s no heaven,
- It’s easy if you try,
- No hell below us,
- Above us only sky.
- Imagine all the people
- Living for today.
Взмах палочки и вперед выступил новый солист – Олег Дерипаска.
- Imagine there’s no countries,
- It isn’t hard to do
- Nothing to kill or die for
- And no religion too
- Imagine all the people
- Living life in peace.
Взмах палочки – и хор во главе с Чубайсом, Потаниным, Вексельбергом и Авеном затягивал припев:
- You may say I’m a dreamer,
- But I’m not the only one
- I hope some day you’ll join us
- And the world will live as one.
И в завершение припева все громко, своими зычными, привыкшими к ораторству голосами, прокричали: Come on, come on, imagine!
Новый взмах дирижерской палочки Ельцина – и песню продолжил милый приятный тенорок Романа Абрамовича:
- Imagine no possessions,
- I wonder if you can,
- No need for greed or hunger
- A brotherhood of man
- Imagine all the people
- Sharing all the world.
И еще не застыла последняя фраза в устах Романа Аркадьевича, как последовал новый взмах дирижерской палочки Ельцина и хор во главе с Чубайсом, Потаниным, Дерипаской и Авеном слаженными голосами запел припев:
- You may say I’m a dreamer,
- But I’m not the only one
- I hope some day you’ll join us
- And the world will live as one.
И по окончании припева, как и после первых двух куплетов, все присутствующие вместе с Борисом Ельциным громко прокричали: Come on, come on, imagine!
Театр Боровлева закрыли осенью восемнадцатого года. Ходили слухи, что театр закрыли после того, как Юрий Боровлев в социальных сетях поместил пост, что ежегодно в день принятия пенсионной реформы по всем городам нужно проводить акцию «Позорный полк»: пройти по улицам с плакатами Кудрина, Медведева, Грефа, депутатов Госдумы и Совета Федерации.
Между этими событиями – закрытием газеты «Уездный город N» и закрытием театра Юрия Боровлева «Хэппенинг» – в городе вновь появился тот, кого мы называли Вождем. Где он пропадал на протяжение этих пятнадцати лет – неизвестно: воевал ли в Чечне, как говорили некоторые, или же сидел на зоне, как предполагали другие. Сам он об этом не рассказывал.
Я встретился с ним случайно на Соборной площади. Он не сразу меня признал, прошел мимо, а потом остановился, повернулся в мою сторону и кивнул в знак приветствия. Он мало изменился, оставался все таким же высоким и статным, только черные волосы были тронуты проседью.
А потом мы стали часто встречаться с ним в городской бане номер четыре.
До перестройки у нас в городе был пять бань. Из них к середине девяностых осталось только две. Одна баня закрылась на ремонт и так потом и не открылась – здание использовалось для складских помещений челноков, привозивших из Турции дешевые товары. Две другие были переоборудованы в массажные салоны, а по сути являлись обычными борделями, где разновозрастные шлюхи оказывали, как сейчас модно выражаться, интимные услуги заезжим гастролерам и туристам, в летний период заполнявшим наш город. Было еще несколько частных дровяных бань, но они в реальности были такими же борделями, только обслуживали клиентов более высокого ранга.
Из двух оставшихся бань приличной выглядела только наша четвертая. Первая, находящаяся около автовокзала, и в советские времена имела репутацию помывочной для бездомных, и в постперестроечные времена именно такая публика туда и захаживала.
Мы с ним приходили в баню по понедельникам – льготный день для пенсионеров, но он, в то время еще не будучи пенсионером, приходил именно в этот день, чтобы найти достойных собеседников.
Пенсионеры величали его Князем, говорили, что он происходит из знатного шапсугского рода. Происходящие в бане разговоры касались прожиточного минимума, недавно принятой Думой пенсионной реформы. Смеясь, они говорили, что самая успешная финансовая пирамида в России – Российский пенсионный фонд: все в него отчисляют деньги, а воспользоваться отчислениями могут немногие выжившие.
После бани я частенько заходил к Вождю в гости. Он жил в трехкомнатной квартире возле Соборной площади. Хозяйкой этой квартиры была одна его родственница, которая на тот момент уже перебралась в Москву и ставшую на время бесхозной квартиру сдавала Вождю. Первая комната за исключением нескольких стульев была без мебели, – на стенах были развешены его картины, а вторая была чем-то вроде гостиной, в которой он принимал гостей. У него собирались различные социальные аутсайдеры, дауншифтеры – графоманы, какие-то спившиеся художники.
Он не раз говорил мне, что мечтает о персональных выставках, об авторских альбомах, но, насколько я знаю, у него была только одна персональная выставка в нашем Краеведческом музее – «Вячеслав Зенгин. Исход»: черно-белые офорты, на которых были запечатлены различные сюжеты переселения черкесов в Турцию в 1864 году.
Ко мне он относился странно. У него были совершенно нелепые представления обо мне. Кто-то из завсегдатаев его посиделок рассказал ему про моего отца, и на основании этих рассказов у него сложилось мнение, что я имею доступ к каким-то сведениям государственной важности. И в ожидании моего особого мнения он задавал свои странные вопросы на разные политические темы.
Спрашивал, например, о противостоянии со странами НАТО – возможна ли в ближайшей перспективе Третья мировая война.
Мои попытки уйти от ответа на эти странные вопросы (дескать, я знаю ровно столько же, сколько и любой обыватель), решительно им пресекались.
– Ну, вы, допустим, не совсем простой обыватель. В конце концов, ваш отец был секретарем у Левина, а потом у Воронка. Пусть это и фигуры не такого масштаба как, допустим, Молотов, и, возможно, небезызвестный Вячеслав Никонов и мог бы про вас сказать, что вы рядовой обыватель, но мы то знаем, что ваш отец тоже фигура по-своему значимая. И наверняка, я думаю, какие-то связи с теми, кто там, наверху, у вас остались.
Напрасно было ему объяснять, что за двадцать лет после развала СССР во властных структурах уже десятки раз менялись политические кланы и что о моем отце в лучшем случае помнят только местные краеведы и историки.
О своем прошлом он практически никогда не вспоминал. Из его различных коротких реплик я узнал, что когда-то он учился в Мухинском училище на кафедре промышленного дизайна. Несколько лет работал в каком-то конструкторском бюро в Сыктывкаре, женился, а потом устроился работать художником-оформителем в местный музыкальный театр, а еще подрабатывал оформителем в различных кинотеатрах. Рассказал, что уехал оттуда в восьмидесятые – вначале в Сочи, а после развода перебрался сюда, в Веньяминовскую.
О жене в разговоре со мной он вспомнил только раз, и то не столько о жене, сколько о доме в Сочи, который вместе с садом в двадцать соток оставил ей.
– А я не люблю делить бабушкины серебряные ложки после похорон, поэтому я отказался от раздела имущества.
Мне казалось, что по-настоящему близких друзей у него не было. Возможно, именно потому он часто звонил мне, приглашая в гости. Он обижался, если наше общение на какое-то время прерывалось. Позже, когда я осовременился и приобрел мобильный телефон, он стал звонить довольно часто, чуть ли не каждый день. Он звонил по делу и без дела, а в конце беседы неизменно приглашал на чай.
В последний год его жизни мы встречались дважды – на старый Новый год и четырнадцатого апреля, в день его рождения. Выглядел он не очень хорошо: был какой-то пожелтевший, осунувшийся.
Я спросил, здоров ли он, на что он ответил, что все нормально, просто почти неделю пьянствовал с друзьями-художниками.
Спустя месяц после апрельской встречи, в середине мая я отправился в летний вояж к своим товарищам по работе в геологических партиях: вначале съездил в Новороссийск, затем в Петербург, Москву. В Веньяминовскую я вернулся только через четыре месяца, в сентябре.
Сразу звонить я не стал звонить, позвонил уже в середине сентября. В ответ услышал: «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети». И так несколько раз. Поначалу я подумал, что он куда-то уехал, но после нескольких безуспешных попыток связаться с ним решил заехать к нему домой.
Я завел свой старенький «Москвич-412» и поехал на Соборную площадь. Поднялся на третий этаж, позвонил. Дверь мне открыл молодой парень лет двадцати. Я подумал, что это кто-то из его гостей, и, поймав его недоуменный взгляд, сказал:
– Я к Вячеславу.
– К Вячеславу? – парень вопросительно посмотрел на меня. – Вы, наверное, про того художника, который жил здесь?
Я даже не успел отреагировать на его нелепую фразу «который жил здесь» и задать вопрос, парень меня опередил:
– Он умер.
– Как умер?! Когда?
– Мне агент, который занимался продажей этой квартиры, сказал, что в конце мая. Мы здесь уже с начала июля.
Из квартиры выглянула молодая девушка, стройная, красивая, в махровом домашнем халате, на ногах тапочки с помпончиками.
– А вам рассказывали, отчего он умер? – спросил я парня.
– Онкология: рак головного мозга. Так мне сказал агент, – ответил он.
– А картины, его картины, где они? – спросил я.
– Их увезла его родственница из Москвы, хозяйка квартиры.
Я попрощался с молодой парой и стал спускаться вниз, но на лестнице между первым и вторым этажом парень догнал меня:
– Подождите! От него осталась коробка с какими-то вещами. Хозяйка квартиры не стала забирать её, сказала: это можно выбросить. Но мы не решились, подумали, что, может быть, заедет кто-нибудь из его друзей и ему отдадим.
Я вновь поднялся на третий этаж, прошел в квартиру, в которой мне неоднократно доводилось бывать раньше. Из-под дивана в прихожей молодой парень достал три картонные коробки.
– Я вам помогу их спустить.
Мы спустились вниз, загрузили коробки в багажник.
Дома я открыл коробки: там были пакеты со старыми фотографиями – черно-белыми, на которых были запечатлены чужие, незнакомые мне лица. Основная часть этих фотографий, судя по расставленным на столах бутылках с алкоголем, была связана с какими-то посиделками. Помимо фотографий в коробках находились толстые тетради его дневников; они были пронумерованы, и на каждой сверху стояли даты начала и окончания. Среди этих тетрадей лежала книга Ю. Даниэля «Говорит Москва». Отдельную связку составляли тетради, на обложке которых было написано «Литературный клуб Кобра». Было еще несколько папок, на которых также значилось «Литературный клуб “Кобра”». Я ознакомился с содержанием этих папок. В них были разные литературные тексты, которые были объединены в различные сборники. Один из таких сборников назывался «Висячие сады Семирамиды». Листы сборника были проколоты дыроколом, через которые был продет тонкий шнур, закрепленный узлом на тыльной стороне папки. На лицевой стороне папки была наклеена репродукция картины Рене Магритта «L’Oeil vert, ou L’Objet», над которой находилась узкая полоска с названием сборника – «Висячие сады Семирамиды».
От него я никогда не слышал, что он пишет какие-то литературные тексты. Обычно от словоохотливых людей не ждешь больших творческих подвигов: как говорил один мой знакомый, вдохновение выбалтывают. Но оказывается, не для всех случаев подходит это изречение.
Что делать с этими тетрадями я, честно говоря, не знаю. Пока что они будут лежать у меня как память о человеке, который мне был близок…
В детстве мне казалось, что время тянется очень медленно. Порой возникало ощущение, что оно замирало и переставало двигаться совсем. В одном из своих детских дневников, классе в пятом, я помню, записал: «Как долго тянется третья четверть, я, наверное, не выдержу – умру». Мне тогда очень хотелось быстрее достичь совершеннолетия. А когда я достиг долгожданного совершеннолетия, то обнаружил, что время уже не тянется тягуче медленно, как в детстве, а, наоборот, мчится, несется вскачь, как дикая степная кобылица. И чем я становился старше, тем быстрее бежало время, с каждым годом все быстрее и быстрее, а потом этот легкий аллюр перешел в галоп, и время полетело стремительно, настолько быстро, что я только успевал замечать, как проводил один год, а вот на пороге уже Новый, наступающий.
Рассказывают, что у китайцев существовало проклятие: недоброжелателю желали родиться в век перемен. На мою долю этих перемен пришлось слишком много. Я жил в эпоху шести генсеков и еще застал трех руководителей современной России. На мою долю пришлось пять войн, в которых Россия так или иначе была задействована, и наберется, наверное, еще около десятка мелких конфликтов, в которых Россия или Советский Союз оказывали военную помощь одной из воюющих сторон. А были еще события в Венгрии пятьдесят шестого года и вторжение советских войск в Чехословакию в августе шестьдесят восьмого.
Двадцатый век оказался одним из самых кровопролитных в истории человечества. Он вместил в себя две мировые войны, а также геноцид турецкими властями армянского населения – истребление полутора миллионов армян. В Первую мировую для уничтожения себе подобных впервые применили иприт. А через двадцать один год вспыхнула еще более кровавая война, в результате которой погибло около семидесяти миллионов человек, целенаправленно истреблялись представители некоторых народов – евреи, цыгане. И обе эти кровопролитные войны были взращены в недрах христианской Европы.
Как сказал один немецкий социолог, гитлеровский фашизм есть естественное развитие европейской цивилизации. И действительно, если просмотреть историю христианской Европы, то можно заметить различные параллели с тем, что происходило в нацистской Германии.
Пацифистское учение Иисуса Христа его последователями очень скоро было преобразовано в одну из воинствующих религий, которая унаследовала от иудаизма нетерпимость ко всякому рода инакомыслию. Идею христианского самопожертвования («нет более той любви, если кто отдаст душу свою за ближнего своего») превратили в оправдание убийства ради каких-то сомнительных целей. И пошли за «правое дело» католики убивать православных, православные – католиков, а те и другие с вдохновением резали мусульман и язычников.
Первыми жертвами этой воинствующей религии стали памятники античной культуры, затем пришла очередь памятников языческих народов и всех тех, кто не хотел добровольно присоединиться к новой религии. Потом настала эпоха крестовых походов католической Европы на восток и запад, во время которых «во славу Божию» уничтожались целые народы, стирались с лица земли города и сёла. А затем последовала эпоха «славных воителей христовых» – испанских конкистадоров, которые за четыреста лет до гитлеровских газовых камер с такой же жестокостью и таким же усердием уничтожили миллионы индейцев. В то время как испанцы на протяжении двух десятков лет ежегодно убивали десятки тысяч индейцев, католические богословы на своих диспутах обсуждали вопрос, имеют индейцы бессмертную душу или они являются чем-то вроде бессловесных тварей, которых при необходимости можно спокойно пустить под топор. В результате этого самого страшного в истории человечества геноцида были уничтожены миллионы индейцев и величайшие памятники культуры инков, майя и ацтеков. Злодеяния испанских конкистадоров Кортеса и Писарро вполне сопоставимы с деяниями гитлеровских нацистов.
Костры инквизиции еще за несколько столетий до гитлеровских газовых камер и концентрационных лагерей пылали по всей Европе, Южной Америке и на прочих землях, куда ступала нога европейских колонистов.
После индейцев настала очередь африканских народов. Испанские и португальские работорговцы захватывали целые деревни африканцев и увозили их на рабские плантации. Уничтожался генофонд народов Африканского континента. И эти работорговцы тоже были христианами. Они полагали, что имеют полное право поступать подобным образом, оправдывая свои злодеяния тем, что африканские народы принадлежат к потомкам Хама, которым в наказание за проступок своего прародителя предначертано быть рабами.
Дело испанских и португальских католиков продолжили протестанты из Англии, французы, голландцы. Английские колонисты в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, эти милые, богобоязненные протестанты, уничтожили еще несколько миллионов индейцев, народа маори и австралийских аборигенов.
Богобоязненные правители Соединенных Штатов изгнали со своих земель сотни индейских племен, отправляя их за тысячу верст, сквозь стужу и холод, в малопригодные для жизни резервации.
Собственно, Адольф Гитлер не придумал ничего нового – изменились только орудия казни и масштабы уничтожения да применено это было в отношении самих европейцев. Христианская Европа ужаснулась, назвав деяния нацистской Германии преступлениями против человечества. Но то же самое можно сказать и в отношении испанских конкистадоров, англичан, голландцев, французов.
Вся история человечества – это история преступлений, от Каина до газовых камер Гитлера. Менялись только масштабы злодеяний. Как кто-то сказал, история шагает через трупы. Нет, скорее она танцует на подмостках, устланных кровавыми трупами.
После окончания Второй мировой войны многие верили, что Нюрнбергский процесс станет поворотным моментом в истории человечества, что отныне всякое военное преступление будет караться так же сурово, как были наказаны оставшиеся в живых руководители гитлеровского рейха. Но стремительно несущееся вперед колесо истории очень скоро опровергло эти радужные ожидания.
Евреи, пережившие Холокост, спустя два десятилетия устроили Холокост родственному им семитскому народу – арабам Палестины. Чехи, самые исполнительные и добросовестные работники на немецких военных предприятиях, практически до самых последних дней войны работающие на этих заводах во славу гитлеровского рейха, по указам Бенеша устроили позорное изгнание трех с половиной миллионов немцев – с насилием, убийствами, грабежами, конфискацией имущества. Это те самые чехи, которые еще совсем недавно мило улыбались и подобострастно смотрели на своих соседей-немцев. С мирным гражданским немецким населением чехи поступили точно так же, как гитлеровские фашисты поступали с евреями, только вместо шестиконечной звезды Давида на их одежды нашивали букву N или свастику.
Мировая история второй половины двадцатого века показала, что Нюрнбергский и Токийский трибуналы – это всего-навсего месть победителей в отношении побежденных, а сами победители вовсе не собираются следовать ими же самими сформулированным принципам. Соединенные Штаты в период вьетнамской войны своими зверствами по отношению к мирному населению даже превзошли гитлеровских фашистов, но мир не содрогнулся от ужасов преступлений американских военных, что еще раз доказало циничную правоту политиков: преступлением могут считаться только деяния побежденных. В своих деяниях многие политики руководствуются правилом: для победы все средства хороши.
И только победители обладают исключительным правом решать, кого из побежденных считать преступниками, а на чьи преступления можно закрыть глаза. Яркий пример таких двойных стандартов – Токийский трибунал: азиатский Гитлер – японский император Хирохито и азиатский Гиммлер – принц Ясухико Асака не были привлечены к уголовной ответственности, а наоборот, получили от американских оккупационных властей иммунитет от преследования и прожили тихую спокойную жизнь, до глубокой старости. Благодаря англо-американским оккупационным властям также избежали реального наказания многие генералы и фельдмаршалы нацистской Германии, причастные к уничтожению десятков тысяч мирных граждан. Эрих Манштейн, по приказу которого в Крыму были уничтожены тысячи крымчаков и евреев и сожжены тысячи сел и деревень по Левобережью Днепра, пробыл восемь лет в комфортных условиях специального лагеря для офицеров высшего ранга нацистской Германии, в пятьдесят третьем англо-американскими оккупационными властями был освобожден по состоянию здоровья и вскоре стал советником канцлера Конрада Аденауэра по вопросам обороны и организации бундесвера. Его слабое здоровье, ставшее для оккупационных властей поводом для его освобождения из тюрьмы, позволило ему прожить еще двадцать лет тихой, безмятежной мирной жизни в кругу любящих детей и внуков. Его путь повторил другой гитлеровский преступник Альберт Кессельринг: пробыв несколько лет в комфортабельном тюрьме для офицеров высшего ранга, он в пятьдесят втором году был освобожден и пополнил ряды военных советников канцлера Конрада Аденауэра. Значительная часть гитлеровских военных преступников вследствие особого отношения англо-американских оккупационных властей к преступлениям немецких военных на территории Советского Союза избежала наказания.
На судьбу России в двадцатом веке помимо этих двух мировых войн выпала самая страшная братоубийственная война в истории человечества. Дело здесь не только в количестве жертв, а в том, что эта гражданская война, в отличие от прочих подобных войн, была направлена на уничтожение исторической и культурной памяти народа, на полный разрыв с духовной и культурной традицией тысячелетней истории русского народа. И в этом отношении ни одна из гражданских войн, будь то гражданская война в США, Англии или во Франции, не могут сравниться с тем, что произошло в России после событий октября семнадцатого года.
Разнообразный сброд – малообразованная чернь из провинциальных честолюбцев из российских глубинок, жаждущие власти молодые вертлявые прохиндеи из еврейских местечек, мизантропически озлобленные на мир выходцы из маленьких латышских хуторков – вся эта нечисть хлынула, заполнила властные коридоры и осела на различных ступенях пирамиды власти.
Воспользовавшись безграмотностью и откровенной тупостью народных масс, их безволием и равнодушием, они различными лозунгами о свободе и братстве сподвигли эту многоэтничную массу российских граждан выступить против законной власти и свергнуть ее, за что им были пообещаны свобода, равенство и братство. Но вместо свободы и равенства они получили оковы, которые даже в страшных снах не могли померещиться при прежнем режиме.
Когда в зрелые годы я стал интересоваться историей Гражданской войны, знакомиться с мемуарами ее участников и различными документами того периода, то меня поразило, как много евреев и латышей было в большевистских карательных органах. И это были не просто статисты, а одни из самых кровавых большевистских палачей.
Как саркастически заметил один политолог, Россия с третьим разделом Польши получила троянского коня – оседлое еврейское население Речи Посполитой. И за этот раздел Польши Россия заплатила слишком дорогую цену: это обернулось для нее тремя революциями, последняя из этих революций – революция октября семнадцатого года, которую в народе иронично называли «Великая Октябрьская еврейская революция», привела к потере государственности и обернулась массовыми репрессиями большевистским руководством казачества и других сословных групп русского населения. Кровавые репрессии большевиков коснулись и других народов бывшей Российской империи.
Меня удивляло и удивляет то, что евреи, столь трепетно и болезненно относящиеся к памяти о Холокосте, совершенно безразличны к тому Холокосту, который устроили еврейские большевистские лидеры. Если бы подобное тому, что произошло после октября семнадцатого года в России, случилось бы в Англии и если бы с английской королевской династией и с английскими аристократами поступили так же, как еврейские большевистские лидеры поступили с Романовыми и русским дворянством, то сейчас отношение к Холокосту в Европе было бы несколько иным: немало людей из числа европейских обывателей нашли бы оправдание Холокосту и действиям гитлеровского режима в отношении евреев…
Как могло так получиться, что из одного из самых религиозных народов вышло столько законченных мерзавцев и палачей? Троцкий, Свердлов, Урицкий, Юровский, Розалия Землячка по своей жестокости ничуть не уступают кровавым палачам гитлеровского режима, таким как Гиммлер, Эйхман.
Читая книги о Гражданской войне, я часто задавался вопросом, почему российские историки, описывая те или иные события, стыдливо умалчивают о национальности большевистских палачей. Все эти разговоры о кровавом диктаторе Сталине, об энкавэдэшном репрессивном аппарате Советского государства обезличивают зло. А ведь у исполнителей и главных творцов этих злодеяний есть имена, фамилии и, наконец, национальность. Из Сталина сделали козла отпущения. А самые главные преступники, заложившие основы большевистской репрессивной системы – это дьявольская троица: Ленин, Троцкий и Свердлов. Конечно, среди большевистских палачей были люди разных национальностей – русские, евреи, латыши, украинцы, мадьяры… В конце концов, в самом страшном изувере двадцатого века, Ульянове-Ленине, было замешано много разных кровей.
В документах о Гражданской войне поражают рассказы о зверствах большевистских карательных отрядов из латышских стрелков и последующее участие всех этих Лацисов, Петерсов в карательных акциях НКВД. Читая эти истории, я задавался вопросом, откуда столько жестокости и мизантропической ненависти в простых латышских хуторянах? Но ведь не только в большевистской России латыши отличились своими зверствами: в годы гитлеровской оккупации Белоруссии и приграничных с ней областей именно латышские полицейские подразделения и части СС вроде команды Виктора Арайса были самыми жестокими карателями на оккупированной территории, на совести которых десятки тысяч убитых мирных граждан – евреев, белорусов, русских.
И чем объяснить такое количество числа палачей среди латышей: является ли это индивидуальными особенностями дегенератов вроде Лациса, Петерса и их сослуживцев или же это некие ментальные качества, присущие определенной части латышского общества? Зверства большевистских карателей из латышских стрелков и команды Арайса по истреблению евреев в Латвии в годы Второй мировой войны дают основание думать, что это не только психические дефекты определенных личностей, а и некий ментальный вирус человеконенавистничества, живущий в недрах определенной части латышского общества.
В советские времена мне часто приходилось бывать в Латвии. И всякий раз меня поражали угрюмость и злобность латышей. На какой-нибудь безобидный вопрос они высокомерно сквозь сжатые губы, по-жлобски выдавливали «несапрэету». Мизантропы встречаются в каждом народе, но по числу мизантропов на душу населения, мне кажется, латыши превосходят все остальные народы мира. Я часто задаюсь вопросом, каким же дьявольским молоком кормят своих младенцев латышские матери, что из них вырастает такое отребье, как Петерс, Лацис, Арайс?!
Я бы на месте правительства Англии поостерегся давать вид жительства латышам. Случись там какая-то смута, то, возможно, современным латышам-мигрантам захочется с английской королевской семьей поступить так же, как их деды и прадеды из латышских стрелков во главе с Юровским в июле восемнадцатого поступили с семьей последнего русского императора.
Гипертрофированное сознание собственной идентичности у многих из латышей сводится к маниакально-болезненному выпячиванию, что они латыши, а не русские. Это примерно так же, как если бы кто-то гордился тем, что он родился во вторник, а не в понедельник. Такую жлобскую русофобию, как у латышей, я встречал только у их прибалтийских соседей – эстонцев и у украинцев Прикарпатья.
Современные латвийские политики любят говорить о возмещении ущерба за годы советской оккупации Латвии. Если говорить об ущербе, то России тоже есть что представить латышским властям, посчитать, например, потери людских и физических ресурсов из-за действий латышских стрелков и латышских коллаборантов вроде Арайса. Но в нынешних условиях историческая память стала предметом политических манипуляций. И примеров тому великое множество.
Как заметил один немецкий историк, немцы, потерпев поражение в войне, потеряли суверенное право на историческую память. И в этой исторической памяти вины немецкого народа есть место Холокосту, но многие преступления гитлеровских солдат на территории Советского Союза преданы забвению. Многие ли из молодых немцев слышали о Хатыни, о многотысячных жертвах, которые понесли белорусы, о сотнях тысяч мирных граждан Советского Союза, расстрелянных, убитых, загнанных в колхозные сараи и заживо сожженных на Брянщине, Псковщине, Новгородчине и во многих других оккупированных гитлеровцами областях России; знают ли они о миллионе погибших в результате блокады Ленинграда? Страшна смерть в газовой камере, но разве не более ужасной является смерть людей, загнанных в колхозные сараи, когда рядом стоят твои дети и родственники и ты видишь, как они задыхаются в дыму и как пламя все ближе и ближе подступает к ним!
Немцы вспоминают варварскую бомбардировку Дрездена англо-американской авиацией, но в их исторической памяти нет места страшной бомбардировке Сталинграда в августе сорок второго, в результате которой погибло около восьмидесяти тысяч мирных граждан. Наверное, они постарались бы предать забвению и память о Холокосте, если бы еврейские организации через различные СМИ постоянно не напоминали о страшных жертвах Холокоста. Постарались бы предать забвению точно так же, как это происходит в случае с преступлениями немецких солдат на советской земле.
Но не только немцы страдают амнезией исторической памяти.
Мемориальная память японцев из истории двадцатого века хранит атомные бомбардировки японских городов – Хиросимы и Нагасаки, страшные ковровые, дьявольски изощренные бомбардировки японских городов английской и американской авиацией, руководимые Артуром Харрисом и Кертисом Лемэем, но там нет места для преступлениий их предков – дедов и прадедов, миллионов убитых китайцев и других народов Юго-Восточной Азии, страшной нанкийской резни японских военных, устроенной по приказу азиатского Гиммлера – Ясухико Асака. Это дает основание думать, что при удобном случае японцы и немцы могут повторить ужасные злодеяния своих дедов и прадедов.
Демократическая Европа давно уже стерла из своей памяти позорные страницы своей истории периода нацистской Германии. Вспоминают ли болгары, румыны, словаки, хорваты, норвежцы, финны о своем прошлом времен союзничества с гитлеровской Германией?! Нет, эти позорные страницы их истории преданы забвению.
Мы живем в эпоху всеобщего вранья. Историческая память превратилась в оружие манипуляции в руках лживых политиков. Как легко и быстро можно переформатировать общественное сознание, видно на примере современной Украины: события четырнадцатого года показали, как просто с помощью современных средств информации уничтожить историческую память и превратить людей в бездушное рабское существо, лишенное памяти о прошлом, полностью подчиненное тем, кто превратил их в бескультурных дегенератов. Двадцатипятилетняя манкуртизация украинского общества превратила Украину в Манкуртию – общество манкуртов, безвольных рабов, лишенных исторической памяти. Аналогичные процессы мы видим в Прибалтике, во многих странах бывшего Советского Союза.
В молодости я верил в закон справедливого возмездия, но, прожив долгую жизнь, много раз имел возможность убедиться в обратном: нечестивые люди живут и благоденствуют, в то время как праведников часто постигает то, что должно было случиться в жизни законченных мерзавцев и подлецов. Не раз я был свидетелем, как какая-то нелепая авиа- или автокатастрофа, страшный пожар лишали жизни благочестивого человека и его близких. Нередко именно эти добродушные граждане становились жертвами каких-то злодеев или маньяков.
Вторая мировая война унесла жизни десятков миллионов мирных граждан. Единственной виной этих миллионов мирных граждан было то, что они были евреями, караимами, цыганами, белорусами и русскими. Именно по этой причине – по признаку их принадлежности к определенному народу – гитлеровцы и их пособники – коллаборанты из числа латышских и украинских националистов отправляли этих безвинных людей в газовые камеры, сгоняли в колхозные сараи и заживо сжигали вместе с детьми.
И многие из этих гитлеровских палачей не понесли никакого наказания, благополучно, как, например, гражданин Канады украинский националист Катрюк, дожили до глубокой старости в комфорте и уюте, в окружении детей, внуков и внучек.
И среди нынешних немецких обывателей старшего поколения немало этих бывших гитлеровских палачей. После войны они превратились в мирных бюргеров. Они мирно и спокойно доживают свой век, спокойно ложатся спать без всяких душевных терзаний и мучений. Их не мучает совесть: протестантское вероучение их отцов говорит, что милосердный Бог, если человек покается, может простить любое злодеяние, кроме хулы на Святого Духа, но убийство мирных граждан к таковому греху не относится. По воскресеньям эти законопослушные бюргеры посещают свои лютеранские кирхи и католические храмы, будучи уверены, что и по ту сторону земной жизни им будет так же тихо и спокойно. Ласкают своих внуков и внучек и совершенно не помнят о тех, кого они когда-то загоняли в колхозные сараи и заживо сжигали.
Можно перечислить десятки, сотни людей, совершивших страшные злодеяния, которые легко и спокойно отошли в мир иной, оставив детям и детям своих детей многомиллионные состояния, обагренные кровью жертв прежних хозяев. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно проследить судьбы различных функционеров большевистской партии. Много ли среди них тех, кто действительно понес справедливое наказание за свои злодеяния? Если бы не сталинская чистка тридцатых годов, можно было бы и вовсе говорить о безнаказанности преступников. Если просмотреть списки тех, кто в конце восьмидесятых – в начале девяностых уезжал в США в статусе беженцев, то среди них немалое число составляют дети и внуки гулаговских палачей различных рангов. Все эти Флейшманы, Фишманы и примкнувшие к ним Ивановы, Петровы, Сидоровы, осаждающие посольство США в те годы и выдавшие себя за жертв коммунистического режима, в действительности как раз являлись орудиями этого репрессивного режима, но тем не менее они, а также их дети и внуки в начале девяностых получали статус беженцев и благодаря субсидиям американских благотворительных фондов сумели получить комфортные условия своей новой американской жизни.
США, предоставив вид на жительство детям и внукам большевистских палачей, утратили моральное право говорить о демократии. Это было бы то же самое, как если бы Израиль наделил правами граждан потомков Гиммлера и прочих гитлеровских палачей, которые бы проживали в Израиле и рассказывали бы о деяниях своих отцов и дедов. Теперь, когда США стали местом комфортного проживания для детей большевистских палачей, вместо God Bless America[10] следует петь God punish America[11]. Собственно, это же можно отнести и к Канаде с Австралией, где нашли пристанище различные коллаборанты гитлеровского режима.
Беда России в безнаказанности. В Англии после реставрации королевской власти откопали и вздернули на виселицу скелет Кромвеля, репрессии коснулись многих из тех, кто был причастен к свержению королевской власти, – и всё: соблазн совершать революции прекратился.
Россия могла бы последовать примеру Англии. Для этого цареубийцу даже откапывать не надо. Его труп лежит на Красной площади и давно готов к тому, чтобы над ним совершили экзекуцию, подобную той, что совершили в Англии над остатками Кромвеля. А после экзекуции с трупом цареубийцы следует поступить так же, как Юровский со своими латышскими сатрапами поступил с телами казненных членов императорской семьи: облить серной кислотой и вместе с остатками захороненных у кремлевской стены и в прочих местах большевистских руководителей, смешав все это с промышленными и прочими нечистотами, захоронить в каком-нибудь мусорном полигоне (чтобы не сделалось это местом почитания) в Свердловской области. Возможно, если бы в России поступили так, желающих проводить очередной кровавый эксперимент заметно бы поубавилось.
Кровавый большевистский эксперимент унес жизни миллионов людей, были уничтожены тысячи памятников культуры, а спустя семьдесят лет дети и внуки этих мерзавцев, совершивших в Октябре семнадцатого года переворот, некогда национализированную собственность путем различных махинаций ловко переписали на свое имя. Кто был ничем, тот стал миллиардером, шутили в девяностые годы. Когда видишь, каким путем новые российские богатеи – все эти Абрамовичи, Потанины, Дерипаски – сколотили себе состояние, понимаешь справедливость одного старого изречения: «В основе любого богатства лежит преступление».
Я много лет пытался понять логику российских властей двадцати лет новой России, логику проводимых ими реформ и понял только одно: нужно страшно сильно ненавидеть свой народ, чтобы проводить подобные реформы. Собственно, это и не реформы, а просто геноцид.
Гайдар и Чубайс создали общество потребления, как в романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Современная Россия представляет собой именно такое государственное образование, как бы скроенное по лекалам его романа. «Гениальность» этих записных мерзавцев либерального толка, всех этих Гайдаров, Кохов, Чубайсов, Кудриных и прочей мерзости из окружения Ельцина, заключается в том, что они без всякой генной инженерии воплотили в реальность антиутопию Хаксли о кастовом обществе. Люди в провинции месяцами не получали зарплату, еле-еле сводили концы с концами, и их дети жили впроголодь. Кроме физического голода их подвергли голоду интеллектуальному: с экранов телевизоров крутилась откровенная порнография и фильмы насилия, а стеллажи в книжных магазинах заполнило бульварное чтиво. Родители, которые должны были заниматься воспитанием детей, вынуждены были с утра до вечера бегать в поисках хоть какого-то заработка. В итоге были загублены десятки, сотни тысяч Моцартов, результатом стало вырождение целых поколений российских граждан. От природы талантливые дети превращались в биомассу, в подобие касты эпсилонов в антиутопии Хаксли, в то время как кремлевское отребье из числа ближайших соратников алкоголика Ельцина своих никчемных, бездарных отпрысков посылали в лучшие вузы Великобритании.
В такие времена лихолетья лучше всего себя чувствуют разные проходимцы вроде Антона Костина и Владимира Пульмана.
Отец Антона Костина в семидесятые годы возглавлял наш местный райком партии. Подобно многим детям чиновников, Костин-младший поступил на исторический факультет нашего университета. Его имя связано с одной скандальной историей начала восьмидесятых годов – историей двух студентов-фарцовщиков, которые торговали пластинками и всяким заграничным тряпьем, популярным среди молодежи, – джинсами, футболками. Обоих исключили из университета. Все могло закончиться для этих предприимчивых студентов весьма печально, но их спасло то, что главный фигурант этого дела, Аркадий Попов, был зятем заведующей кафедрой истории КПСС Шабалиной. Об этой истории много писали наши местные газеты. Шабалиной после этого скандала пришлось оставить должность заведующей кафедрой, а Попов и второй фигурант этого дела, Володя Гущин, получили два года «химии» – вольного поселения. Володя Гущин был личностью весьма примечательной в наших краях. Это был наш местный Коля Васин – главный битломан нашего города. Среди студентов он организовал клуб битломанов, который назывался, как один из битловских альбомов, «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Собственно, фарцовкой Володя Гущин подрабатывал для своих поездок в Ленинград и Москву, где покупал пластинки и плакаты своей любимой группы. Благодаря связям Аркадия Попова ему удалось получить разрешение на проведение в актовом зале университетского общежития тематических вечеров, посвященных различным событиям из жизни группы «Битлз»: дням рождения участников квартета, выходу тех или иных альбомов.
В этом битловском календаре Володи Гущина были светлые и черные дни: дни рождения музыкантов, а также день убийства Джона Леннона, 10 ноября – день, когда Леннон встретился с меркантильной, сумасбродной японкой. Среди тех, кто посещал эти битловские вечера, был Антон Костин. Правда, Костина творчество «Битлз», равно как и других западных рок-групп, не интересовало. Его интерес к битловским вечеринкам был несколько иной – интерес сексота. Именно он оказался тем человеком, который донес органам о фарцовочных делах Попова и Гущина, и он был главным свидетелем в этом громком и скандальном процессе. Большинство же участников предпочли отмолчаться. С этого времени за Костиным закрепилась дурная слава сексота. Впрочем, он особенно не тяготился этой дурной репутацией и не считал нужным скрывать свою связь с определенными органами. После университета он стал работать инспектором в Городском комитете комсомола. А потом случилась перестройка, и он как-то очень быстро превратился в либерала, а в девяносто первом неожиданно для многих семья Костиных получила статус беженцев и перебралась в США.
Там, в Америке, Антон Костин превратился в Строганоффа. Устроил частный музей, сумев за короткое время собрать среди потомков русских старообрядцев в Соединенных Штатах и Канаде богатую коллекцию икон и этнографических предметов. Параллельно с американскими антикварными поездками он собирал различные предметы старины в России, побывав в разных глухих местах по Енисею и на русском Севере, объездив приграничье Гомельской и Брянской областей – места, в которых в прошлом столетии находились старообрядческие слободки и монастыри. По рассказам, он собрал богатейшую коллекцию икон и рукописных книг, которые, пользуясь тем, что границы России в девяностые годы были как дырявое решето, сумел вывезти в Соединенные Штаты. Одно время Антон Костин был фигурантом скандальной истории, связанной с российскими музеями. Он побывал в нескольких десятках провинциальных музеев, в которых представлялся потомком эмигрантов первой волны и куратором выставочного проекта Министерства культуры по культуре старообрядцев Америки. Пользуясь юридической безграмотностью работников различных культурных учреждений и их доверчивостью, он сумел вывезти уникальные предметы и большую коллекцию дореволюционных фотографий. Позднее выяснилось, что все разговоры Костина про свое кураторство над выставочным проектом являются обычными байками проходимца, цель которых – облапошить доверчивых музейных сотрудников.
У Володи Пульмана другая история. Я его помню, когда в конце восьмидесятых он вместе со своими сверстниками из уличной школоты опустошал кошельки у подвыпивших мужиков около универмага. А позднее, уже девяностые, он был одним из заметных наших городских рэкетиров: одетый в кожанку, подобно чекистам двадцатых годов, он с друзьями разъезжал на старом БМВ по разным торговым точкам – собирал дань с продавцов ларьков.
А потом он исчез. Про него ходили разные слухи: говорили, что его посадили, что находится в каком-то лагере в Заполярье, другие утверждали, что нет, ни в каком лагере он не находится, а на самом деле он сейчас в армии, воюет в Чечне, но тех и других опровергали третьи, по словам которых Пульман стал серьезным бизнесменом и вроде бы даже перебрался на жительство в Лондон.
Где он был все эти годы – действительно ли сидел в лагере или же и вправду воевал в Чечне, – так и осталось тайной: сам он всяких вопросов об этом периоде своей жизни тщательно избегал. Спустя пять лет он появился. Но это был уже другой Пульман: из невзрачного долговязого юноши он превратился в высокого статного мужчину. Он ходил в длинном черном плаще, в темных очках. Одним словом, вылитый Киану Ривз из фильма «Матрица». В его руках неизменно находился стек (наверное, увидел в каком-то фильме).
Журналисты нам поведали, что Пульман ходил к новому мэру, предложил ему программу борьбы с наркоманией среди молодежи («Город без наркотиков») и получил от того одобрение. По городу были развешаны плакаты «Очистим наш город от наркотиков», приводились номера контактных телефонов, куда можно было позвонить и сообщить о наркоманах.
На большом джипе с группой бритоголовых охранников он обходил ночные клубы, выволакивал оттуда уколовшихся детей бывших обкомовских работников и увозил их в психиатрическую больницу. По городу ходили самые зловещие слухи о методах лечения, которые якобы применялись к попавших туда наркоманам: говорили, что пациентов приковывали наручниками к железным кроватям, били нагайкой… Рассказывали, что после больницы было несколько попыток суицида. Впрочем, большинство обывателей благосклонно относились к этим рассказам: хоть кто-то, по их мнению, взялся поставить на место распоясавшихся отпрысков казнокрадов.
Некоторые вспоминали, что в школе хулиганистый Пульман не пользовался популярностью у девушек – угловатому, долговязому Пульману они предпочитали ухоженных мальчиков-мажоров из семей местных чиновников. Теперь, говорили злые языки, Пульман возвращал долги по старым счетам. Рассказывали, что одна красавица в одном из местных ночных клубов грубо надерзила ему. Спустя два дня ее бойфренда задержали с наркотиками, и девушке пришлось очень долго извиняться, чтобы ее бойфренда отпустили без последствий. Что здесь было правдой, а что просто досужими вымыслами недоброжелателей Пульмана – сказать было сложно. Для того чтобы дать оценку всем этим роящимся вокруг Пульмана слухам, необходимо было быть возле тех событий, но я в силу своего возраста не был вхож в ночные клубы и прочие злачные заведения нашего города.
Как бы ни ругали Пульмана его недоброжелатели, ему тем не менее удалось если уж не освободить город от наркоманов, то загнать их в глубокое подполье. Теперь, после нескольких рейдов, азиаты внаглую, как раньше, уже не торговали на рынке своим смертоносным зельем. Местные нувориши из числа бывших обкомовских работников предпочли отправить своих праздных отпрысков, любителей различных острых ощущений, в места более терпимые к увеселениям своих чад, а кто побогаче – отправили детей за границу.
Столь успешная работа по укреплению нравственности в отдельно взятом городе не осталось незамеченной, и Пульмана приютил один из московских депутатов, сделав его своим доверенным лицом. Пульман, подобно многим карьеристам-политикам, перебрался в Москву, но свое детище не забросил, а продолжал наведываться, и по-прежнему в городе существовала созданная им организация «Город без наркотиков».
Пульман стал нашей американской мечтой – из грязи выбился в князи. А сколько таких Пульманов – вылезших из грязи честолюбивых, беспринципных нуворишей и парвеню – породили девяностые годы уходящего столетия.
Как весеннее половодье несет на поверхности грязь и разнообразный мусор, так и это смутное время горбачевско-ельцинской перестройки вынесло на поверхность многих проходимцев, откровенных мерзавцев и подонков.
Я часто вспоминаю фразу своего отца, которую он любил повторять в старости: «Мне хочется досмотреть, чем же закончится этот спектакль». С момента его смерти прошло уже почти тридцать лет, но конца этой грустной трагикомедии не видно.
В Америке у меня объявился родственник, кузен, потомок петербургских Рукавишниковых. Год назад я получил от него письмо, в котором он мне сообщил, что в течение многих лет занимался генеалогией рода Рукавишниковых и вот теперь уже занимается боковыми ответвлениями этого рода – добрался уже до нашего рода Сириных. С тех пор я постоянно нахожусь с ним в переписке. Пришлось даже купить модный смартфон, чтобы общаться с ним через WhatApp. Он прислал приглашение, написал, что оплатит все мои дорожные расходы. Я поначалу противился, хотел было отказаться, а потом передумал и решил воспользоваться его приглашением.
Мне хочется посмотреть русскую Аляску, проехать Соединенные Штаты, подобно героям Керуака, с восточного побережья на западное. В отличие от детей партийных функционеров, оставаться там я не собираюсь. У меня нет иллюзий относительно тамошнего мироустройства. Я отношусь к числу тех, кто не разделяет симпатий либеральной части российского общества относительно западной цивилизации.
Если бы Христос со своим проповедями явился в сегодняшней Америке, его бы арестовали как опасного преступника, как экстремиста и вполне возможно поместили бы куда-нибудь в Гуантамо. Там бы его посетил какой-нибудь американский великий инквизитор, представитель баптистской церкви. Он бы сказал:
– Ты нам не нужен. Мы за свои 250 лет научились обходиться без Тебя. Ты видишь, что у нас на долларе написано In God We Trust. Но это совсем не тот Бог, которого Ты проповедуешь, а тот самый Золотой Телец, которого евреи отлили, когда их пророк Моисей поднялся на вершину горы Синай, чтобы там получить откровение от Всевышнего, тот самый Золотой Телец, которому евреи продолжают поклоняться на протяжении уже нескольких тысячелетий. Когда в древние времена, во время Твоего сорокадневного поста в пустыне, перед Тобой предстал херувим, некогда один из главных предводителей воинства небесного, тот самый, кто допустил сомнения в справедливости созданного Всевышним мироздания, за что был отлучен Им из числа Его помощников, и когда этот херувим предложил Тебе поклониться ему, взамен пообещав все царства земные, Ты отказался. Спустя несколько веков отцы отцов наших исправили Твою ошибку, и за это нам были передана власть над всеми царствами земными.
И это случилось задолго до образования нашего государства, во времена Римской империи. И уже потом отцы наши, подтвердили верность этой клятве, написав на долларе In God We Trust[12]. И верный своему слову предводитель над третьей частью небесных сил, тот самый отверженный Всевышним херувим, передал нам власть над всеми царствами земными. И наши банкноты, на которых запечатлена эта клятва (In God We Trust), стали главными денежными единицами всех земных царств и народов как свидетельство нашей власти над ними. Вот поэтому-то мы в Америке часто повторяем фразу: In God We Trust, all others pay cash[13].
Я бы мог отпустить Тебя, но Ты своими проповедями нанесешь нам много вреда, поэтому Ты будешь сидеть здесь. И благодари Бога, Того самого, вероучение которого Ты проповедуешь, что мы не отправили Тебя на электрический стул. Я Тебе скажу больше: если бы я отпустил Тебя, то не прошло бы и суток, как бдительные граждане привели бы Тебя как возмутителя спокойствия в полицейский участок. А потом, на суде, эти благочестивые отцы семейств, эти добропорядочные прихожане различных церквей, носящих имя Твое, там, на суде, если бы судья на какой-то миг засомневался, действительно ли Твои поступки достойны столь сурового наказания, стали бы кричать, как древние иудеи: «Распни, распни Его!» И скажу Тебе прямо: если бы прокурор пришел к выводу, что такая форма казни как нельзя лучше подходит для такого преступника, как Ты, то многих американцев, тех, кто считает себя добропорядочными гражданами и христианами, это бы обрадовало. А попадись Ты в руки куклуксклановцев, то Тебя бы распяли без суда и следствия на первом же попавшемся дереве или столбе, как они сто пятьдесят лет тому назад поступали с чернокожими последователями Твоего учения. Так что благодари Своего Бога, что Ты здесь, в Гуантамо, среди всех этих афганцев и пакистанцев, которым нет дела до Твоего учения.
Скажу Тебе больше: мы никогда в Тебя не верили. Наши предки, когда еще жили по ту сторону океана, прекрасно обходились без Тебя, хотя строили храмы, на которых было наречено имя Твое. Но так они поступали, поскольку в то время еще не придумали других сказок, которыми можно было бы потчевать необразованную чернь, чтобы они безропотно подчинялись нам, как стадо баранов.
И скажу прямо: вера в Тебя угасла, как только ушли те безумцы, которые называли себя Твоими апостолами, твоими посланниками. И наша так называемая европейская христианская цивилизация не имеет ничего общего с Твоими утопическими проповедями о всепрощающей любви к человеку. Мы наследники великого Рима, того самого Рима, который считал себя центром мироздания, весь остальной мир – окружающие Римскую империю страны – рассматривал исключительно в качестве колоний, откуда можно было выкачивать сырье, а проживающие там народы – в качестве прислуги. К моменту появления Твоего учения империя уже трещала по швам, попираемая со всех сторон языческими племенами. Не сразу наши далекие прапращуры оценили истинную ценность Твоего учения. Несколько веков ушло на искоренение твоего учения, пока наконец они не поняли, что это именно то, что нужно для вековечного владычества Рима.
Приняв, пусть даже притворно, Твое учение, мы должны были бы признать богоизбранность евреев. И это, надо признаться нам далось нелегко. Но мы быстро решили этот неприятный вопрос. После того как евреи предали на казнь лучшего из сынов своих, при этом во всеуслышание заявив, что вина за это преступление будет на веки вечные лежать на них, они, как утверждали умнейшие из наших законоучителей, утратили свое богоизбранничество, которое теперь перешло к нам, потомкам библейского Иафета. И в подтверждение своих выводов наши богословы приводили свидетельства из книг еврейских пророков, в которых перечислялись различные прегрешения, свойственные евреям.
Свои колониальные устремления – захват и порабощение различных стран и народов – мы также оправдывали ссылками на Твое учение, говорили, что это нам, прямым потомкам Иафета, Бог заповедал осваивать и покорять разные земли. Конечно, здесь нам тоже приходилось изощряться, объяснять, какие именно народы относятся к этой богоизбранной ветви потомков Иафета, доказывать, что наследниками великой Римской империи являются народы центральной части Европы, они и только они являются прямыми потомками Иафета, а прочие же народы, в зависимости от политической ситуации и конъюнктуры, относятся к далеким ветвям Иафета, а то и вовсе к потомках Хама, на которых, подчеркивали наши богословы, лежало Ноево проклятие на вековечное их рабское существование.
К этим народам с вековечным клеймом раба, которым, согласно Ноевому проклятию, суждено во веки вечные быть рабами у потомков Сима и Иафета, были повально отнесены все народы Африки, которых на протяжении многих веков использовали в качестве рабочего скота.
И самое ценное, что Твое учение, переложенное нашими умнейшими богословами, призывало необразованную чернь безропотно подчиняться высшим властям, призывало рабов быть покорными своим господам и безукоризненно выполнять их поручения, оставаться в том положении, в котором они оказались.
Конечно, время от времени появлялись безумцы, которые выступали против такого толкования Твоего Писания, и они призывали следовать буквальному исполнению всего того, что оставили Твои апостолы. Но с этими безумцами мы научились очень быстро расправляться: одних мы объявляли еретиками и во славу Твою сжигали их на кострах, других, не посягающих на наши устои, таких как Франциск Ассизский, мы позднее объявляли святыми и даже позволяли его последователям основывать монастыри. В конце концов, эти аскеты, истекающие кровью от стигматов, не представляли для нас никакой опасности.
Иудейско-христианское собрание книг твоего учения явилось для нас настоящей кладезью, в котором можно было найти оправдание любому преступлению.
Ты нам был нужен для наших рабов, которые трудились на наших плантациях, для тех, кого мы сейчас называем афроамериканцами. Мы им говорили: вы страдаете, как страдал Он за вас, за вас, потомков Хама, и вы страдаете за грех вашего праотца Хама, но если вы сейчас будете покорно все сносить, то там, на небесах, вам уготовано место в раю – где находятся все сирые и убогие. Так мы учили их. Но теперь в этом нет никакой надобности. Теперь мы им говорим: смотрите, один из вас, Барак Обама, стал президентом. Если и вы будете усердно трудиться, то и вы сможете повторить его путь. Теперь ты нам не нужен.
Наш Бог – тот, кого Твои ангелы и архангелы за много тысяч лет до того как появилось здесь, на земле Америки, наше государство, изгнали с неба. Но мы нашли ему место и приняли его. И мы сказали нашим детям: вот Бог твой Америка – ангел света, Светоносец. Его имя мы напишем на наших банкнотах, и этими банкнотами мы завоюем мир во имя его. И Ты видишь, мы сделали это. Весь мир теперь взирает на нас. И это все нам дал он, тот, кого Ты и Твои ангелы и архангелы изгнали с неба. И вот он здесь, среди нас, среди наших церквей, носящих по недоразумению Твое имя.
Мы могли бы совершенно изгнать Твое имя из нашей жизни, но Ты нам все-таки нужен. Нет, не настоящий – не Тот, кто изгонял из храма продающих, кто учил любить врагов и не противиться злому, а тот, кого мы придумали сами. Мы воздаем Тебе должное, Ты нам очень помог своим учением о всепрощающей любви Всевышнего. Теперь Твоим именем мы оправдываем любое преступление. Мы говорим нашим солдатам, летчикам, напалмом сжигающим вьетнамские деревни: спите спокойно, Бог вас прощает. И они – насильники, убийцы детей и беспомощных стариков – спокойно ложатся спать и спят безмятежно, как малые дети. Во славу Твою наши летчики бросали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, во славу Твою устроили адскую печь в Дрездене в сорок пятом, сбрасывали зажигательные бомбы на японские города, во славу Твою сжигали напалмом вьетнамские города и села. И они действительно простодушно уверены, что всё это они делают во славу имени Твоего.
Но так поступали не только мы. Во имя Твое – так, по крайней мере, мы говорили – наши далекие прапращуры, когда еще жили по ту сторону океана, совершали крестовые походы, уничтожали целые народы. Мы не только истребляли некоторую часть из покоренных народов, тех, кто наиболее яростно сопротивлялся нам, мы уничтожали культурную, историческую память этих народов – все их величественные языческие храмы, их города, их книги. Нам важно было стереть все то, что несло в себе свидетельство об их былом величии; уничтожая их памятники, мы лишали их прошлого и с помощью наших богословов и ученых воссоздавали новую историческую память. Мы говорили, что только благодаря нам, европейцам, они получили доступ к благам цивилизации.
Испанцы, благочестивые католики, в шестнадцатом веке устроили самый страшный геноцид в истории человечества – без газовых камер и прочих изощренных орудий убийства двадцатого века уничтожили десятки миллионов индейцев. И всё это время наша католическая церковь, матерь и предшественница нашей баптистской церкви, решала, есть ли душа у индейцев или они сродни бессловесной твари, которую можно убивать без зазрения совести. А потом дело наших братьев по вере испанцев и португальцев продолжили англичане, французы, и нигде нет памятников этому индейскому Холокосту.
Уж Тебе ли не знать, что во славу Твою вытворяли благочестивые лютеране – немцы. Десятки тысяч сожженных русских, белорусских деревень вместе с его жителями, миллионы уничтоженных евреев. Ножами, на которых было написано Gott mit uns, немецкие лютеране и католики из дивизий СС убивали русских, белорусских, еврейских детей и стариков. И сейчас, якобы отстаивая Твои гуманистические ценности, мы продолжаем различные локальные войны, уничтожая тех, кто мешает нашему мировому господству.
Если в молодости у меня еще были сомнения относительно гуманистических ценностей западноевропейской цивилизации, то события последних трех десятилетий окончательно убедили меня в ее антихристианской направленности. Вот поэтому я ничуть не сожалею, что, подобно многим детям номенклатурных работников, не перебрался в какую-нибудь из европейских стран или в Соединенные Штаты.
Я не знаю, насколько затянется мое путешествие по Соединенным Штатам. Возможно, я пробуду там год, а может, задержусь чуть подольше. Посмотрим.»
На этой фразе обрывались записи рукописи Александра Сирина. Ко мне они попали совершенно случайно. Три недели назад с вахты нашего музея мне позвонила дежурная и сообщила, что пришел посетитель, который что-то собирается передать в фонды нашего музея. Такое – когда кто-то приносит в музей вещи – происходит регулярно, хотя и не так часто, как в девяностые годы, когда из бабушкиных сундуков тащили различные древности (сарафаны, кокошники, прялки, утварь и многое другое) в музей, поэтому я не удивился звонку.
Я спустился вниз, подошел к дежурной, спросил, где тот посетитель, который что-то собирается передать для нашего музея. Она указала на сидящего в углу худощавого молодого человека, на которого я поначалу не обратил внимания. Меня поразили его болезненная худоба – тонкие кисти рук, сквозь кожу проступали вены.
Он представился:
– Моя фамилия Юхнин, Антон Юхнин, родственник Александра Сирина. Знаете двухэтажный дом на пригорке, недалеко от церкви? Александр Иннокентьевич уехал, других родственников, кроме нас с мамой, у него нет. Перед отъездом он переписал на имя моей мамы свой дом. Недавно мы стали делать ремонт в доме и случайно обнаружили вот эту рукопись.
При этих словах Юхнин протянул в мою сторону толстую тетрадку в темно-зеленой клеенчатой обложке.
– Мы с мамой подумали, что, может, это будет представлять интерес для вашего музея, ведь отец Александра Иннокентьевича был очень известным человеком.
Я открыл тетрадку. На первой странице заглавными буквами было написано: «Осквернитель праха», а на следующих листах мелким аккуратным убористым почерком был записан какой-то текст.
– Что это? Литературное сочинение Сирина? – спросил я Юхнина.
– Мы с мамой почитали, что там написано, и решили, что это его воспоминания. Подумали, что, может быть, это представляет интерес для музея, – ответил он.
Александра Сирина я знал. Время от времени я встречал его, прогуливающегося по городу. Внешне он напоминал писателя Германа Гессе на фотографиях его сына Мартина. Несколько раз я видел его возвращающимся с гор с туристическим рюкзаком. Я знал, что отец Сирина, Иннокентий Георгиевич, был когда-то секретарем у нашего председателя реввоенсовета Левина, а потом какое-то время после смерти Левина работал секретарем у Воронка, который на протяжении двадцати лет возглавлял наш местный райком партии. И уже потом, после смерти Воронка, Иннокентий Сирин руководил нашим партархивом.
– А где сейчас сам Александр Иннокентьевич? Что-то я давно уже его не встречал. Он не болеет? Вы сказали, что он куда-то уехал?
– Да, четыре года назад он уехал в Соединенные Штаты, к своему родственнику. Говорил, что вернется через год-полтора. А потом случилась пандемия коронавируса, и вот уже прошло четыре года, а от него никаких вестей. Адреса он не оставил, и мы не знаем как связаться с тем родственником, чтобы узнать про Александра Иннокентьевича.
«Может быть, в его воспоминаниях найдется что-нибудь интересное», – подумал я.
За редким исключением, в музей вещи передают за определенное денежное вознаграждение. Я подумал, что надо как-то поторговаться, чтобы снизить цену рукописи.
– Как я понимаю, вы хотите эту рукопись продать нашему музею? Так вот, я хочу предупредить, что денег у музея на закупку экспонатов нет и вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Хотя я могу поговорить, и, может быть, какая-то маленькая сумма все-таки найдется, – сказал я Юхнину.
– Нет-нет, вы меня неправильно поняли! – ответил Юхнин. – Я вовсе не собирался продавать рукопись. Просто мы с мамой подумали, что место этой рукописи должно быть где-нибудь в музее. Мы думали передать в дар, если вы согласитесь взять к себе на хранение.
– В любом случае, даже если вы рукопись передаете в дар, мы это должны оформить документально. Такие у нас музейные правила.
Мы поднялись в мой кабинет, где на официальном бланке музея я оформил дарение, записав фамилию и имя дарителя, имя хозяина экспоната и примерное время изготовления и бытования рукописи.
Затем, проводив Юхнина и поблагодарив его, я в течение дня знакомился с содержанием рукописи. В целом, почерк Сирина был понятен, хотя поначалу мне потребовалось некоторое время, чтобы определиться со всеми его завитушками. При этом оказалось, что некоторые буквы, например букву «т», он передавал двумя вариантами. Кое-что из того, чтобы было написано в этих воспоминаниях, мне было знакомо. В основном это касалось современности – история про театр Боровлева, про газету «Уездный город N», знакомы мне были и имена некоторых персонажей – Костин, Пульман, но многое из того, о чем там рассказывалось – разные истории о Гражданской войне и некоторые послевоенные события – мне было неизвестно.
Я отправился в архив нашего музея к Ольге Захаровой, чтобы обсудить, кто из нас будет представлять эту рукопись на фондово-закупочную комиссию, но она, узнав о содержании рукописи, посоветовала передать тетрадь в районный архив, отметив, что эта рукопись не совсем по профилю нашего музея, так как у нас отдается предпочтение этнографическим материалам, а там будет вполне к месту, тем более что в архиве есть отдельные фонды, посвященные деятельности местных партийных руководителей.
В районном архиве, в филиале нашего областного историко-краеведческого архива, работал мой однокурсник Сергей Михайлов. Я позвонил ему и кратко рассказал о содержании рукописи и о том, каким образом тетрадка оказалась у меня. Михайлова мой звонок явно обрадовал, и он, не откладывая, в тот же день забрал у меня рукопись Сирина.
Через несколько дней он мне сам позвонил.
– Я возвращаю твою тетрадку. – сказал он.
– А что, в вашем архиве тоже отказываются принимать эту рукопись?
– Объясню при встрече, – сказал Михайлов.
Я подъехал к нему на работу.
– Забирай! – Михайлов положил на стол тетрадку в темно-зеленой обложке.
– И чем же мотивирован отказ твоих коллег принять рукопись?
– Ну, во-первых, не моих коллег – это мое решение, – ответил Михайлов.
– А что тебя смутило в ней?
– С самого начала у меня были сомнения в подлинности этого, так сказать, документа. Ну, такая уж у нас, архивистов, работа – проверять и перепроверять. Во-первых, меня сразу же смутило название этих псевдовоспоминаний – «Осквернитель праха» и обилие разного рода эпиграфов, как у литературных графоманов. Ну да ладно, подумал я, есть у человека зуд графоманства, пусть, важно, чтобы факты, которые приводятся в этих воспоминаниях, не противоречили исторической правде. А вот с этим, как я убедился, у автора этой рукописи большие проблемы. Оставляю в стороне комментарии по поводу века девятнадцатого. Начну с откровенной клюквы того, что касается периода Гражданской войны – про все эти публичные казни и прочее. Тут я, конечно, повеселился от души. Такой откровенной дичи мне еще не приходилось читать. Я читал в документах того времени сообщения о разных изуверских методах наказаний во время Гражданской войны, встречались там и упоминания, что людей сажали на кол, но это были единичные случаи озверевших дегенератов, причем происходило это в каких-то глухих местах, а здесь описывается так, будто все это происходило в самом центре города и было поставлено на поток. А рассказ о клеймении преступников?! Наверное, человек начитался Кафки про исправительные колонии.
И другие фрагменты тоже достойны Кафки. Например, описание, как Воронок клинком крошит бюсты революционеров. Есть единственное упоминание о таком факте – некоего Цыбули, который когда-то служил в караульной роте, охраняющей правительственные дачи. Но никто из серьезных историков даже не будет упоминать про этот источник. Он и появился-то в начале девяностых, когда бульварная пресса публиковала всякую чернуху. Нет ни одного подтверждения тому, что так красочно живописал Цыбуля. Как я понимаю, человеку хотелось сенсации, думал заработать денег, вот и опубликовал свои чернушные фантазии.
И про нашу с тобой современность этот условный Сирин пишет в том же духе. Например, про хорошо нам известного Боровлева, нашего местного Павленского. Ты-то знаешь, почему закрыли его театр. И политика здесь ни при чем. Человек годами занимал помещение, не платил за аренду, не оплачивал коммунальные услуги. Ну закрыли театр, уехал человек в Москву, не посадили же! И про эту газету «Уездный город N». Сколько газет и журналов закрылось после две тысячи восьмого года! А он приплел статью какого журналиста про Василия Болгаробойцу. Вообще неизвестно, была ли такая статья в этой газете.
Единственный вопрос, который меня занимал: кто же все-таки автор этой клюквы и для чего он все это затеял? Поначалу я подумал про этого Юхнина, который тебе передал тетрадку: честолюбивый молодой парень написал графоманский опус и, возможно, предприняв несколько попыток где-нибудь опубликоваться, получил отказ. Сейчас такое время, когда даже талантливые произведения с острой политической тематикой не всякий издатель согласится публиковать. Вон, пару лет назад в Интернете бродила такая шутка: после того как Государственная дума приняла закон об оскорблении государственных символов и высших должностных лиц, энтомологи отказались от публикации альбома «Кровососущие паразиты России».
И я подумал, что этот Юхнин придумал такой ход с якобы доставшейся ему в наследство тетрадкой с воспоминаниями Сирина, чтобы мы, ты или я, клюнув на эту сенсацию, в каком-нибудь краеведческом журнале опубликовали эти материалы или их часть. Но когда я увидел этого Юхнина, то понял, что моя версия с авторством ошибочна. Оказалось, что это вовсе не молодой юноша, а такой уже поживший на этом свете аутсайдер, который явно начитанностью не отличается. Но дело не в возрасте. В конце концов, графоманы бывают и сорокалетние, и пятидесятилетние, в общем, эта страсть всем возрастам покорна. Как мне показалось, этот Юхнин – человек довольно посредственный, малообразованный, который, на мой взгляд, не способен написать даже такой бездарный графоманский опус. Тогда вопрос: кто же автор этого опуса? Я подумал, что, вполне возможно, кто-то с нами затеял большую игру. Через год выборы, а в этой рукописи упоминается Пульман и еще кое-кто из ныне здравствующих наших провинциальных политиков. Может, нам специально подкинули эти псевдовоспоминания Сирина в расчете на то, что мы раструбим об этой сенсации и в какой-нибудь газете или журнале появятся отрывки из них, например про Пульмана. Вопрос: кто же эти игроки? Я подумал, что это должны быть политические оппоненты «Единой России». Псевдооппозиционные партии вроде прокремлевской партии «Новые люди» я сразу отмел: эта партия нуворишей и парвеню не имеет запала даже для имитации настоящей оппозиционной борьбы. Значит, это какие-то другие силы. И я решил, что это скорее всего из лагеря национал-большевиков вроде лимоновцев или какие-то подобные им группировки.
Был еще один вопрос, ради ответа на который я отправился в бывший дом Рукавишниковых. Это картина, о которой упоминается в этой тетрадке. Возможно, ты не знаешь, что в двадцатые годы была реальная история с художником Лутовиновым, который нарисовал портрет Левина. Левину портрет не понравился, и он велел наказать Лутовинова двадцатью ударами нагайкой, только не на площади, а там, во дворе. А вот про дальнейшую историю этого портрета ничего неизвестно: был ли он уничтожен тогда же, когда наказывали самого Лутовинова, или же все-таки сохранился. У меня была робкая надежда, что вдруг на самом деле этот портрет хранится в доме Рукавишниковых; я стал даже прикидывать, куда передать этот портрет: в наш архив или в галерею искусств. Но, увы, моим надеждам не суждено было сбыться.
Я спросил у этого Юхнина про портрет. Он как-то странно задергался, глазки забегали, стал торопливо говорить, что никакого портрета не было, что в доме все осталось так, как было при Александре Иннокентьевиче. Я подумал, что, возможно, он что-то про портрет и знает, но теперь уже не сыскать концов.
На этом наш разговор с Михайловым закончился. Я был озадачен всем тем, что он сказал, и мне, признаться, даже было как-то неловко, что я так легковерно отнесся к этой тетрадке, посчитав, что это подлинные воспоминания Сирина. В конце концов, я ведь тоже учился на историческом факультете, и меня, как и Михайлова, учили критике источников. И тут мне вдруг пришла странная мысль: но ведь наверняка остались в доме Сирина какие-то бумаги с его записями, и можно проверить и сравнить почерки, и тогда уж точно не останется никаких сомнений в подложности этой рукописи.
И с этими мыслями я отправился в дом Сирина.
Мне открыл Юхнин. Вид у него был какой-то заспанный. Я сказал, что мне нужно задать несколько вопросов, связанных с тетрадкой, которую он мне передал.
– Да-да, приходил уже ваш товарищ, – сказал Юхнин. – Проходите.
До этого мне не приходилось бывать в доме Сирина. На первом этаже располагались кухня, столовая, гостиная, возле которой находился кабинет Сирина. Потертые кресла и диван с кожаной обивкой, вероятно, находились здесь еще со времен отца Александра Сирина. То же самое можно было сказать и о кухонной мебели и большом двухстворчатом шкафе, стоящем в гостиной. Сняв обувь, я прошел в гостиную.
– Мой товарищ, – я решил, что проще для общения называть Михайлова товарищем, – вас спрашивал про какой-то портрет.
– Да. Он спрашивал, – Юхнин сделал паузу. – Я ему не стал ничего говорить, он меня испугал. Он как-то сурово со мной говорил, я подумал, что, возможно, если я скажу правду, то он посчитает, что мы портрет кому-то продали. А вам, – тут Юхнин опять сделал паузу, – мне кажется, можно доверять.
– Так, значит, портрет все-таки был?
– Да, был. Он висел в кабинете Александра Иннокентьевича.
– А где он сейчас?
– Он его сжег. Он сжигал перед отъездом какие-то бумаги, а потом разломал и сжег этот портрет.
– Он – это Сирин?
– Да. Александр Иннокентьевич.
Меня слова Юхнина привели не в меньшее замешательство, чем все то, что я услышал от Михайлова.
Некоторое время я пытался переварить то, что мне сказал Юхнин.
– А скажите, в тетрадке упоминается еще камень в саду, на котором выгравированы стихи.
– Я вам покажу этот камень. Пойдемте.
Мы прошли в сад. За посадками фруктовых деревьев в самом углу сада, возле каменной ограды стоял массивный дуб, и под ним я увидел небольшую гранитную плиту, на которой в две строчки были выгравированы надписи ФК и ЛК, а под ними стихотворение:
- Люба мне буква «Ка»,
- Вокруг нее сияет бисер.
- Пусть вечно светит свет венца
- Бойцам Каплан и Каннегисер.
- И да запомнят все, в ком есть
- Любовь к родимой, честь во взгляде:
- Отмстили попранную честь
- Борцы Коверда и Конради.
Под инициалами и стихотворением в гранитную плиту была вмонтирована небольшая металлическая подставка, на которой лежали цветы, которые, судя по всему, были положены сюда недавно.
– А кто приносит цветы? – спросил я.
– Это делаю я. Когда Александр Иннокентьевич уезжал, он дал мне поручение, чтобы я четыре раза в году приносил сюда цветы. Сказал, что у него есть люди, которые будут смотреть, как я выполняю его поручение.
Мы постояли некоторое время возле гранитной плиты.
– Скажите, а остались ли от Александра Иннокентьевича какие-то записи? Я хочу посмотреть, как выглядит его почерк.
– Остались его дневники. Пойдемте, я покажу.
Мы опять прошли в дом, в кабинет Сирина. Это была небольшая комната рядом с гостиной, три на четыре метра. Вдоль стен стояли два книжных шкафчика с застекленными полками и глухими дверцами в нижней части. Среди множества книг, выставленных в шкафах, я успел заметить дореволюционные издания Салтыкова-Щедрина, Тургенева, виднелись еще какие-то обложки, но фамилии авторов было не разглядеть. Возле окна находился стол-секретер, покрытый лаком темно-коричневого цвета, на котором стояла дореволюционная пишущая машинка Erika.
Юхнин открыл глухую дверцу шкафчика и вытащил оттуда картонную коробку с какими-то блокнотами и тетрадями. Один из лежащих в коробке блокнотов, с красной обложкой, он передал мне. На обложке блокнота было написано: «Полевой дневник». Я развернул блокнот: там знакомым мне мелким почерком были внесены различные записи. Я прочитал одну из них: «19 января 1976 года. Крещенские морозы: на улице минус сорок два. Сейчас час ночи. Через четыре часа подъем, быстрый завтрак, и нужно успеть заскочить в кузов нашей вахтовки ЗИЛ-157, занять место в середине возле кабинки. Это единственное более-менее комфортное место в кузове под брезентом. И горе опоздавшим: им придется сидеть возле борта, ощущать проникающий через брезент ледяной холод приполярного Урала, но еще хуже будет тому, кто будет сидеть в самом конце кузова, куда через брезент проникает не только жгучий морозный ветер, но и снег…»
«Получается, – подумал я, – это подлинные записи Сирина. Пусть это перемежается развесистой клюквой, но теперь можно определенно сказать, что автором этой клюквы является сам Сирин.
– От Александра Иннокентьевича осталось еще несколько коробок.
Юхнин достал из книжного шкафа три коробки.
– Но ведь у этих коробок есть хозяин. Почему вы вдруг решили, что можно ими распоряжаться по своему усмотрению? – спросил я.
– Когда Александр Иннокентьевич уезжал, он сказал, что если через два года он не вернется, то больше его ждать не стоит. А прошло уже четыре года.
– А почему именно сейчас вы решили передать мне эти вещи?
– На лето мы уезжаем в деревню. В последнее время в городе случались кражи, и у нас появились опасения, что какие-то люди могут проникнуть в наш дом во время нашего отсутствия и разворуют или повредят эти рукописи.
– А почему вы начали именно с тетрадки в темно-зеленой обложке?
– Все тетрадки, блокноты и дневники лежали в коробках, а эту тетрадку он оставил на столе, как будто специально для нас. Вот мы и подумали, что он это сделал неспроста…
Юхнин помог мне перетащить коробки в машину.
Дома я осмотрел содержимое коробок: там были тетрадки и блокноты с дневниковыми записями, конверты с фотографиями, стопки перевязанных писем – от каких-то Александра Чечулина и Виктора Минкушева, а сверху эти тетрадок лежали канцелярские папки с надписями «Рассказы».
На лицевой стороне одной из папок была наклеена репродукция картины Рене Магритта «L’Oeil vert, ou L’Objet», над которой узкой полоской было вклеено название сборника – «Висячие сады Семирамиды». Я раскрыл папку. В ней лежали машинописные листы с пометками на полях: предисловие какого-то Чечулина, знакомый мне текст «Осквернитель праха» и еще десяток различных рассказов.
Теперь у меня возник тот же вопрос, который задает в своей рукописи Сирин, когда описывает, как в его руки попал архив Вячеслава Зенгина: «Что мне делать с этими коробками?» Вначале я подумал, что надо позвонить Сергею Михайлову и рассказать про мое посещение дома Сирина, но потом решил, что, вполне возможно, и в этот раз он посчитает все эти бумаги недостойными хранения в районном архиве. «Пусть полежат у меня, – решил я. – Подождем, как пелось в одной песне, когда наступят времена почище. А может, и сам Сирин, если с ним все в порядке, вернется из Соединенных Штатов и уже сам решит, что и как делать с этим архивом».
1987, 2006, 2016, 2020, 2023 гг.
Лилит
Что предание говорит?
Прежде Евы была Лилит…
Не из глины, не из ребра —
Из рассветного серебра.
Улыбнулась из тростника —
И пропала на века…
Вадим Шефнер. «Лилит»
Он принадлежал к числу тех мужчин, о которых никогда нельзя было сказать «мой». Даже находясь рядом, она чувствовала, что в мыслях и чувствах он находится где-то в другом месте. Он не любил бабских сюсюканий, и когда на одной из их первых встреч она в эмоциональном порыве назвала его «сладеньким», он сразу же осадил ее: «Давай без этих сюсюканий!» Она и сама не любила все эти пошловатые ласкательства вроде «котик», «зайчик», но тут по-женски не сдержалась – вырвалось «сладенький». Своим именем он был обязан второму советскому космонавту – Герману Титову. В ту пору было модно называть детей в честь космонавтов – Юра, Герман. Дома его звали Гера, но для нее он так и остался Германом. В этот круг доверительно-домашних отношений, где его называли Герой и обращались с какими-то ласковыми именами, вход для нее был закрыт. Он был не первый мужчина в ее жизни, но за эти четыре с половиной месяца их встреч и тесного общения она так и не сумела подобрать к нему ключики. С другими как-то очень быстро и легко удавалось найти нужную тональность, взять отношения под полный свой контроль, а Герман для нее так и остался недоступным и закрытым.
Они сошлись на новогоднем корпоративе в канун миллениума. Ее пригласили праздновать Новый год в отдел истории народов Кавказа, и там в числе приглашенных был он – Герман Бомштейн из Института социологии.
В нем была особая красота – красота молодых еврейских мужчин. Это была красота не какого-либо изгиба, линии или совокупности всех линий и изгибов. Это была красота древнего народа, красота древних мудрецов, особое выражение старческой печали, которую можно было увидеть и на лицах юношей которое неизменно сохраняло свою инаковость в потомках и по которому враги и соплеменники среди сотен лиц с орлиным профилем узнавали одни чужого, другие своего. Инаковость, отстраненность Германа присутствовала во всем: в его одежде, в очках, в сочетании его имени, отчества и фамилии – Герман Нахумович Бомштейн. Она до этого уже несколько раз встречалась с ним на разных конференциях. Несмотря на молодость, его имя было на слуху среди историков и социологов. Про него говорили, что он будущее Института социологии. Он занимался социализацией детей у финно-угорских и тюркоязычных народов Поволжья. Выпустил несколько десятков статей, две монографии. Она же занималась родильной обрядностью карелов-людиков. После одной из конференций, на которой они оба выступали, он подошел к ней и похвалил ее доклад. Возможно, это были просто дежурные слова, но ей было приятно.
И вот сейчас, на новогоднем корпоративе, они оказались рядом. Она была яркая, красивая. Отдельно взятые пропорции ее лица – лоб, большие светло-серые глаза, узкое лицо, прямой нос, подбородок – находились в абсолютной гармонии друг с другом. В ее лице присутствовали особая стать и величавость, утонченность, как на портретах аристократок картин Томаса Гейнсборо.
И это красивое лицо покоилось на таком же гармонично сложенном красивом теле: высокая, стройная. В детстве она несколько лет занималась танцами, пару месяцев ходила даже на занятия в Вагановское училище. В танцах особо не преуспела, но благодаря им на всю жизнь получила ту особенную выправку, по которой среди проходящих на улице женщин и девушек легко можно определить человека, когда-то занимавшегося танцами.
Такой типаж женщин – высоких, статных – обычно привлекает внимание мужчин. И сидя рядом с ней, Герман отпускал какие-то шуточки, старался произвести впечатление. Потихоньку все расходились. Они остались впятером: две молодые сотрудницы из отдела Кавказа, которые ждали, когда все разойдутся, чтобы прибрать в кабинете, и они, трое приглашенных гостей – заведующий университетской кафедрой этнографии Нетужилов, она и Герман Бомштейн. Почему она не ушла раньше со всеми остальными, а осталась до последнего с двумя мужчинами? Дома ее никто не ждал. После смерти мамы два года назад она жила одна в двухкомнатной квартире на Пловдивской. Там все стены были пропитаны одиночеством, и торопиться ей было некуда, но если бы рядом не было Германа, она бы ушла, пьяный Нетужилов не был героем ее романа. А Герман не уходил, говорил и говорил. Рассказывал ей всякие околонаучные истории. В этом потоке информации мелькали имена, книги, многое из того, что рассказывал Герман, ей было незнакомо, но она, чтобы не выдать свою неосведомленность, в такт его рассказам кивала головой и похихикивала, тем самым демонстрируя, что все эти имена и истории ей тоже в какой-то мере известны.
А потом он провожал ее до метро, затем, махнув рукой, спустился с ней вниз по эскалатору, доехал с ней до Купчина. На станции они распрощались, пожелали друг другу счастья в Новом году, она пошла к остановке, но он ее опять догнал, сел в трамвай и поехал с ней до Пловдивской. Тут уже она решила взять инициативу в свои руки и пригласила его на чашечку кофе, и он остался до утра. В ту самую предновогоднюю ночь она узнала про него, что он три года как разведен, живет с мамой в трехкомнатной квартире, как он пошутил, в «еврейском квартале» – на улице Декабристов.
А потом был Новый год. Она позвонила ему, опять поздравила с Новым годом и поехала в другой конец Купчина, на Будапештскую, встречать Новый год со своими институтскими подругами. Это был девичник молодых женщин, мечтающих о замужестве. Она думала о нем: с кем он встречает Новый год и чем была их предновогодняя ночь на Пловдивской – увертюрой к романтической опере или же короткой новеллой.
Новелла затянулась на четыре с половиной месяца. Поначалу чаще звонил он, потом она. Иногда случались перерывы на несколько дней. Она ждала его звонка, но потом, не выдержав, звонила сама. Ей такое развитие отношений не нравилось. «А если я не позвоню, позвонит ли он?» – задавалась она вопросом. Несколько раз она пыталась поговорить об этом, высказывала свои претензии.
– Мне иногда кажется, что я постоянно навязываюсь тебе, – говорила она ему. – Мне кажется, что если я не позвоню, то ты сам вряд ли будешь звонить.
– Не надо искать повода для ссор. В жизни и без того хватает сложностей. Не надо искать то, что нас разъединяет, а надо искать, что объединяет, – отвечал он.
Для нее он оставался непонятным и странным. Она помнила тот вечер, когда они в последний раз были вместе. Это было после длинных майских выходных. У нее было много планов на эти выходные, раскидывала, куда можно было бы съездить вместе, но, когда она позвонила ему, он суховато ответил, что «занят, работает над статьей, встретимся после праздников». И вот после праздников, вечером после работы он заехал к ней – хмурый, малоразговорчивый.
Она опять завела разговор про странности их отношений, сказала, что, как всякая женщина, она хотела бы определенности.
– Может быть, я слишком многого требую от тебя. Но, как всякой женщине, мне хочется определенности. Каждый раз, когда ты вдруг резко куда-то срываешься и уходишь, я не знаю, будет ли новая встреча, позвонишь – не позвонишь.
– У тебя талант все усложнять.
Она опять начала про выходные, про свои планы, куда она планировала съездить вместе с ним.
– Я же тебе уже говорил по телефону, что мне нужно было сдать корректору статью. – перебил ее он.
– Но ведь ты мог хотя бы позвонить, сказать про это, я уже не говорю – предупредить заранее.
– Мне кажется, твои родители не совсем подгадали с твоим именем. Тебя следовало бы назвать Лилит, – со сдержанным раздражением сказал он. Его лицо было затянуто хмурой пленкой.
– А почему именно Лилит? – спросила она.
– Есть такая еврейская легенда о первой женщине – Лилит, жене Адама. Она во всем хотела первенства. Даже вступая в близость, она хотела быть сверху, а не снизу. За то она была сброшена с земли во тьму небесную. Ты так же все время стремишься к первенству.
Он обронил еще несколько фраз о Лилит, об амулетах от ее чар, которые привешивали к кроватям еврейских мальчиков-подростков, затем встал и вышел в прихожую. Она подумала, что он вышел в туалет, но оказалось, что он уже собрался уходить.
Спустя несколько минут, он, одетый, заглянул в комнату:
– Я ухожу, закрой за мной дверь.
Четыре с половиной месяца назад, когда он в первый раз побывал у нее на Пловдивской, уходя, Герман напел эти строчки из песни группы «Кино». Тогда это выглядело как забавная шутка, невинная игра слов. Со временем эта фраза стала чем-то вроде ритуального жеста – всякий раз, уходя, он так и говорил: «Я ухожу, закрой за мной дверь!» Если поначалу она воспринимала эту фразу как игру слов, то позднее, когда неопределенность их отношений стала тревожить ее, в ней чудилась двусмысленность. И теперь эта фраза, когда-то казавшаяся безобидной шуткой, резанула ее как предвестник расставания, что-то вроде «прощай навсегда».
Все время, пока он одевался в прихожей, она продолжала лежать на диване, там, где он ее и оставил, озвучивая свои реплики про Лилит. Она встала, вышла в прихожую. Он подставил щеку, она поцеловала – холодно, отстраненно. В ответ не последовало никакого движения. Хлопнула дверь. Она слышала, как он спускается по лестнице. Она все еще продолжала стоять, как будто чего-то ожидала. А потом сообразила, что стоит в халате в прихожей перед неплотно закрытыми дверями, подошла к двери, щелкнула замком.
Он всегда уходил вот так – «без руки, без слова». Оставлял полную неопределенность, будет ли еще встреча. И вот он ушел. А потом оказалось, что это была их последняя встреча.
Она не звонила неделю. Порывалась несколько раз взять трубку, но все-таки сдерживала себя. Она думала, что эта затянувшаяся пауза всего лишь одна из запятых в их отношениях, но оказалось, что он уже поставил точку.
Прошла неделя, другая, а потом она от своих знакомых в Институте социологии узнала, что он уехал куда-то в отпуск. А в августе ей сказали, что Герман Бомштейн уезжает в США.
Теперь ей вновь нужно было устраивать свою личную жизнь, но связывать себя с первым попавшимся она не собиралась.
С любимым хоть в шалаше – это не про нее. Она отчетливо помнила свое детство, помнила лежащие за хлебницей мамины бумажки о приходе и расходе: электроэнергия, квартплата, телефон, сумка, колготки, тетрадки, учебники. И так из года в год. Нет, говорила она, я никогда не буду жить как мои родители.
Она была поздним ребенком. Маме было тридцать семь, отец на три года старше. Две предшествующие беременности завершились выкидышами, и эта, третья, грозила закончиться тем же, но все завершилось благополучно: мама выходила беременность до конца и родила вполне благополучного младенца – три килограмма семьсот граммов.
Мама работала аппаратчицей на Первомайской ТЭЦ, там же, на ТЭЦ, машинистом котла работал отец. Там они познакомились, а потом поженились.
Оба они были «лимитчиками». Вначале жили в общежитии Ленэнерго на Богатырском проспекте. А потом в коммуналке на улице Тюшина. Но эту пору их семейной жизни она знала только со слов мамы. Когда она родилась, они жили уже в двухкомнатной квартире в Купчине, на Пловдивской улице.
Семья держалась на маме. Отец частенько напивался, как говорила мама, до поросячьего визга. В самом начале их брака они еще работали в одну смену, мама неотступно следила за ним, чтобы он не зашел после работы в рюмочную, но после рождения ребенка им пришлось перейти в разные смены, и отец получил вольную – теперь частенько бывало, что отец, приходя с работы, «не находил дверей». Дома у них из-за этого постоянно происходили ссоры. Мама ругала отца, называла его алкоголиком, слабохарактерным, безвольным. Отец, виновато опустив голову, в знак согласия лишь кивал головой и время от времени монотонно повторял: «Имеешь право». Сидел, кивал головой и повторял: «Имеешь право». В каком бы в состоянии он ни приходил домой, никогда не скандалил. Она не помнила, чтобы он, даже будучи в сильном алкогольном опьянении, становился агрессивным. Он был тихим, незлобивым пьяницей. Какие-то слова оправдания он пытался привести лишь наутро, когда мама вновь повторяла свои словесные экзекуции.
– Ну что ты завелась! Ну выпил с устатку с друзьями, надо ли скандалить?! Наглотаешься угольной пыли, так хоть легкие прочистишь.
– Никогда не выходи замуж за алкоголика! – говорила мама. – Лучше прожить одной, чем с мужем-алкоголиком!
Как и у многих девушек ее социального круга, «первый опыт борьбы против потных рук пришел к ней очень рано», еще в четырнадцать лет. Она не сразу оценила, как искусно над ней потрудилась природа, каким богатством она ее одарила, поэтому в юности она была весьма неразборчива в отношениях.
В седьмом классе за ней стал ухаживать Макалов. Он учился в десятом. И был из таких парней, про которых говорят «рост метр с кепкой», – метр пятьдесят с небольшим. Однако этот недоросток был главой местной школьной шпаны, заводилой местных хулиганов. Ей льстило, что за ней ухаживает парень из десятого класса, авторитет среди «крутой» школьной шпаны. Потом были другие персонажи ее школьных романов. Они были повыше и красивее, чем Макалов, но из той же среды школьных уличных «боксеров». С ними она беспрепятственно могла ходить в разные клубы, но в женской физиологии они были не искусны, поэтому все ее постельные баталии с этими уличными боксерами сводились к однообразным механическим движениям.
Настоящий сексуальный опыт к ней пришел позже, уже в университетские годы, когда в ее жизни появились мужчины старше ее лет на десять. Первым мужчиной, который открыл в ней женщину, был Рогозин. С ним она познакомилась на раскопках в Ольвии, куда поехала на археологическую практику после первого курса. Рогозин работал научным сотрудником в Институте археологии. Он был высоким, статным, внешне напоминал немецкого актера Матьё Каррьера. У него были по-женски красивые ноги – стройные, без всякой растительности.
Раскопочный день был разбит на две половинки: с шести утра до двенадцати дня, до дневной жары и зноя и вечером – с шести до восьми. Жили они в палатках на берегу Бугского лимана. Палатка Рогозина находилась по соседству. Ужин у них обычно затягивался до полуночи: к ужину из ближайшего села обычно приносили канистру виноградного вина, и вот, медленно потягивая вино, они рассказывали археологические байки и пели песни. Именно там, в Николаевской области, на раскопках Ольвии, она впервые соприкоснулась с романтикой археологических экспедиций, с их причудливым фольклором, со знаменитыми археологическими песнями, с которыми она потом встречалась в других экспедициях. Но здесь для нее все это было еще внове. И сидя под тентом, она вместе со всеми потягивала эти песни: знаменитый «Гимн археолога»:
- Вот сдадим все экзамены,
- И с души упадет
- Век железный, век каменный
- И по бронзе зачет.
- И тогда открыты все дороги,
- По которым проходили ноги
- Лошадиные и человечьи,
- До свидания, до новой встречи!
- Нам придется с рулеткою,
- С нивелиром дружить,
- Нам придется разведкою
- По полям проходить,
- Чтоб история на фактах крепла,
- Чтоб вставали из руин и пепла
- Города, сожженные врагами,
- Погребенные в земле веками…
Или «Скифскую балладу»:
- За Танаисом-рекой, за рекой
- Скифы пьют, гуляют. Э-э-эй!
- Потерял грек покой, грек покой —
- Скифы пьют, гуляют – э-эй!
- Даль степная широка, широка —
- Всё Причерноморье. Э-эх!
- Повстречаю грека я, грека я
- Во широком поле.
- Акинаком рубану, рубану
- По спесивой роже. Э-эх!
- А потом коня возьму, коня возьму —
- Конь всего дороже…
- Я поеду в Херсонес, в Херсонес —
- Там продам гнедого. Э-эх!
- А потом в кабак залез, в кабак залез —
- Выпью там хмельного. Э-эх!
Еще пели «Орел VI легиона»:
- Пусть я погиб, пусть я погиб у Ахерона!
- Пусть кровь моя, пусть кровь моя досталась псам!
- Орел шестого легиона,
- Орел шестого легиона
- Всё так же рвется к небесам! <…>
- Сожжен в песках Иерусалима,
- В волнах Евфрата закален,
- В честь императора и Рима,
- В честь императора и Рима
- Шестой шагает легион!
Вперемежку с этими археологическими песнями пели песни Городницкого, которые были созвучны археологической тематике. «Перекаты»:
- Всё перекаты да перекаты,
- Послать бы их по адресу.
- На это место уж нету карты,
- Плывем вперед по абрису…
и «На материк»:
- От злой тоски не матерись,
- Сегодня ты без спирта пьян.
- На материк, на материк
- Ушел последний караван…
В перерывах между пением рассказывали различные археологические и житейские байки. Но они с Рогозином уходили раньше. Вначале уходила она. Поначалу она свой уход обставляла разными фразами – устала, хочется спать и так далее. Потом просто стала уходить по-английски: вставала, выходила на берег, а после незаметно перебиралась в палатку к Рогозину. И начинались томительные минуты ожидания Рогозина. Иногда это затягивалось надолго, минут на тридцать. Она прислушивалась к голосам говорящих, и среди них звучал голос ее любимого Рогозина. Он был замечательный рассказчик и порой увлекался, забывая, что кто-то ждет его в палатке…
Именно он, Рогозин-Каррьер, открыл в ней женщину: через легкие прикосновения к разным точкам тела открыл мир физиологической страсти. Именно с ним она осознала, как искусно над ней потрудилась природа, каким богатством она ее одарила. В палатке Рогозина она находилась до утра и выползала за полчаса до общего подъема. Ни для кого из участников экспедиции секретом их отношения не являлись, хотя они старались их не афишировать. Здесь, в археологической экспедиции, подобные отношения женатых мужчин с незамужними женщинами и девушками были чем-то вроде обычных курортных романов – ни к чему не обязывающий флирт без продолжения и последствий.
Ее кратковременный археологический роман с Рогозиным также не имел продолжения. Они несколько раз встречались уже после возвращения из экспедиции, но это был уже другой Рогозин, который опасался, что про его связь с молодой студенткой кто-нибудь может рассказать его жене. И когда при встрече она, забывшись, брала его за руку, он быстренько освобождал руку, поясняя свое движение словами, что им нужно вести себя осторожно, так как в метро можно наткнуться на каких-то знакомых и тогда не избежать скандала. Этот боязливый, скучный Рогозин ее разочаровал. Он еще несколько раз звонил, пытался договориться о встрече, но она уклонялась от продолжения отношений, ссылаясь на занятость по учебе.
С Рогозиным к ней пришла женская зрелость. Каждое лето она уезжала в археологические экспедиции. Для нее это была возможность подзаработать какие-то деньги, а также провести отдых на юге за казенный счет. Как и в первую экспедицию, у нее возникали курортные романы и, как и в случае с Рогозиным, практически сразу после возвращения из экспедиции угасали.
А дома все оставалось так же, как прежде: пьяный отец, приходя домой, «не находил дверей», за это его отчитывала мама, а он в знак согласия лишь кивал головой и повторял: «Имеешь право». Все было так же, как в ее детстве, только главные персонажи этих театральных действий заметно постарели. Отец не дожил три месяца до шестидесяти лет, – инфаркт. Из экономии семейного бюджета пил всякую гадость и курил дешевые советские папиросы «Север» и «Беломорканал», вот и закончилось всё тем, чем должно было закончиться. Вот так банально просто оборвалась жизнь среднестатистического советского рабочего.
Она тогда училась на третьем курсе.
Мама прожила еще шесть лет и вдруг резко стала угасать – цирроз печени. О своей болезни она не говорила, а когда заговорила, было уже поздно. Умерла от той болезни, которая должна была бы настигнуть отца, а настигла ее.
Приехали на похороны немногие родственники, друзья, знакомые по работе. Говорили о чем-то, вспоминали. Она слышала, как одна из сослуживиц родителей сказала своей соседке: «Бог забирает лучших». Ей хотелось подойти и сказать этой женщине: «А вас тогда почему Бог не забрал? Наверное, вы не из лучших?» Она ненавидела эти банальные пошлости.
А между смертью отца и мамы были ее мальчики, или, как она их называла, постельные друзья. Они были то младше, то чуть старше. Короткие встречи, от постели до постели. Никого из них она не видела в роли человека, с которым бы пошла по жизни рядом. Это были спринтеры. Они годились только на короткие дистанции – на несколько вечеринок, несколько коротких встреч от постели до постели.
С первых ее школьных сексуальных опытов прошло уже много времени, и теперь это была уже не та незрелая, неопытная девушка, ничего не понимающая в отношениях мужчин и женщин. Теперь для нее уже не оставалось каких-либо секретов в том, что в американских фильмах называлось «заняться любовью». Она уже сознавала, каким искусным орудием ее одарила природа, сколь вожделенна ее нагота в глазах мужчин. Особенно притягательно ее тело становилось летом, когда коричневый загар ровным слоем покрывал ее красивое тело. Оставалась незагорелой только узкая полоска от трусиков купального костюма. Все остальное, в том числе и грудь (она не стыдилась загорать топлес), было покрыто ровным слоем загара. Вот эта узкая полоска незагорелой части тела, сзади два круглых, упругих мячика ее изящной маленькой попы, а спереди – аккуратный треугольник волос ее лобка на фоне незагорелой части более всего и возбуждали мужчин, пробуждали в них эротическое томление и физиологическую страсть.
Любая, даже искусно приготовленная пища только выигрывает от изысканной сервировки. Так и женская нагота требовала определенной сервировки: навязчивая, грубоватая демонстрация, как в порнографических фильмах, очень быстро вызывала скуку и отторжение.
Но ничего подобного она не допускала. Она старалась оголяться ненавязчиво. Приходя с прогулки со своим очередным постельным другом, она под предлогом освежиться шла в душ, выходила оттуда обнаженная, с осевшими на ее загорелой коже капельками воды и начинала что-то выискивать в своей сумке. Она чувствовала, что эта обыденность наготы сильнее всего действует на мужчин.
Мужчины приходили и уходили. Но она не была донжуаном в юбке. Лозунг одного из киновоплощений Брижит Бардо «пленить легко, труднее завоевать и уничтожить» не был ее жизненным кредо. Даже когда она пыталась привлечь внимание мужчин, то делала это вовсе не для того, чтобы обольстить и бросить. В мужчинах она искала того, с кем она может обрести благополучное семейное счастье, то, чего так и не нашла в своей жизни ее мама и многие знакомые женщины. И не ее вина, что ей попадались мужчины, которые были не прочь покувыркаться в постели с женщиной, не связывая себя никакими узами. Сытые, обеспеченные мужчины были уже женаты, и их она интересовала только в качестве любовницы. Но статус любовницы не привлекал ее. Она знала, что век любовниц очень недолог: стоило появиться первым признакам целлюлита, как на место любовницы придет другая, с молодым, упругим телом.
На память об отношениях с «постельными кавалерами» остались какие-то подаренные ей книги, какие-то фразы и цитаты. Когда-то про одну ее знакомую университетский однокурсник сказал, что у нее было много мужчин, от которых она набралась различных цитат и фраз, своей учености. Так и она благодаря этим постельным дружкам набралась различной книжной мудрости.
Мама о ее второй жизни ничего не знала, ни о чем не догадывалась. Не спрашивала и про дорогие безделушки, которые у нее появлялись после той или иной вечеринки. Она слепо продолжала верить ее объяснениям: «После клуба буду ночевать у Веры, она там живет рядом». Спустя годы, вспоминая эти события, она думала, что легко отделалась: легкость, с которой она укладывалась в постель с незнакомыми мужчинами, могла бы привести к серьезным болезням, но обошлось без всяких инфекций.
Все эти встречи и расставания у нее проходили на стороне: она не позволяла себе любовных интрижек в институте.
В глазах институтских сотрудников и сотрудниц она была сдержанной, аскетичной, всецело увлеченной наукой, не давала пищи для разговоров и пересудов озлобленным на жизнь старым институтским девам. Герман был исключением, но о ее романе с Германом Бомштейном никто из институтских сотрудниц не знал. И с самим Германом она вела себя осторожно, стараясь каким-нибудь жестом или словом не выдать свой богатый опыт сексуальных отношений, чтобы у него, подобно довлатовскому персонажу, не появился вопрос: «Кто научил тебя всем этим штукам?» Однако новелла с Германом оказалась скоротечной.
Подобно многим девушкам ее поколения, она попыталась расширить поиски партнера в социальных сетях и на сайтах знакомств. Интернет с его разветвленной сетью таких сайтов создавал иллюзию, что проблема поиска партнера решается быстро, но на деле все оказалось не столь безоблачно. Она пробиралась через многочисленные объявления, в которых обещались самые невероятные наслаждения, для убедительности приводились размеры интимной части мужского тела. Она, превозмогая тошноту от этих пошлых, скабрезных объявлений просматривала сайт за сайтом. Она искала того, кто мог бы разом решить все ее проблемы, кто даст все сразу: деньги, положение…
Как-то одна из ее подруг сказала, что она торопится, что, возможно, некоторые из отвергнутых ею гадких утят со временем превратятся в настоящих лебедей, в тех самых принцев, которых она ищет, нужно просто подождать, помочь этим гадким утятам превратиться в красивых белокрылых лебедей. Но зачем, зачем она должна с кем-то нянькаться? Зачем она должна тратить свою жизнь на это, высиживая и обогревая теплом, ждать, что, может, из этого яйца что-то вылупится. А может, это окаменевшие яйца динозавров, в которых жизнь угасла многие тысячи лет назад, и зачем ей тогда отдавать тепло этим бездушным округлым камешкам? Зачем ей на всякого рода лузеров тратить свое время и свою жизнь?
Нет, это не для нее. Ей не хотелось по частям, ей хотелось все сразу. Ее не устраивало сегодня одно, завтра другое: ей было уже двадцать пять, и время неумолимо и безжалостно бежало вперед, с каждым новым витком, с каждым прошедшим месяцем напоминая, что «еще пара лет – и никто не возьмет».
В какой-то момент она поняла, что большинство клиентов на сайтах знакомств аутсайдеры – те, кто обычным способом не способен решить свои личные проблемы.
А время, как стрелки метронома, отстукивало, что проблемы надо решать быстро…
И тогда она сосредоточилась на иностранцах. Она могла бы иметь успех – она знала английский, немного говорила по-французски, но среди интернетовских корреспондентов-иностранцев ей в большинстве своем попадались такие же аутсайдеры, как и на российских сайтах знакомств, или спринтеры, которые искали девушку на период командировки. Ей нужен был человек, который искал бы в женщине миф – особую русскую женщину, ни на кого не похожую. И нужно было, чтобы у него были деньги, недвижимость и все прочее. Ей не хотелось выходить замуж за какого-то неудачника – перебираться через океан, чтобы там заниматься балансом прихода и расхода, было не для нее.
Два раза ей встретились мужчины, которые, казалось, были близки к ее требованиям. Они были старше ее – в одном случае на пятнадцать лет, в другом на двадцать, – и, как сообщалось на их страницах в социальных сетях, были разведены. И самое главное – у них были деньги, и, как они заявляли на своих страницах, они искали в русских женщинах загадочную душу. Ее отношения с этими иностранцами проходили по одному и тому же сценарию: в течение полугода она встречалась с ними в гостиницах в разных городах, а потом что один, что другой вдруг резко пропадали из сети: переставали реагировать на ее письма, их странички в социальных сетях переставали быть активными, и лишь спустя какое-то время она узнавала, что это были фальшивые странички коммивояжеров, совершающих деловые командировки в Россию, что ни в какую загадочность русской женщины они на самом деле не верили, а нужна им была женщина, с которой, как саркастически выразилась одна ее знакомая, можно было без опасения прихватить какую-то заразу покувыркаться в постели. Она еще продолжала по инерции вылавливать в социальных сетях иностранцев, желающих найти спутницу жизни из России, но дальше нескольких встреч с этими командировочными ловеласами дело не пошло.
Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь… Еще пара лет – и никто не возьмет, думала она про себя, и она превратится в старую незамужнюю тетку. С такими опоздавшими выйти замуж она регулярно встречалась в коридорах института – состарившиеся, сорокалетние институтские девы на выданье, женщины без определенного возраста. Они и одевались соответствующе: джинсы, свитер – своеобразная рабочая униформа; и так изо дня в день, в одном и том же, ничего женственного. Лица не женского, а среднего рода. Один сотрудник, говоря про этих старых институтских дев, рассказал ей анекдот про Йоко Оно: Джон Леннон привел в студию Йоко Оно и говорит Харрисону с Маккартни: «Знакомьтесь ребята, это моя новая девушка». Маккартни посмотрел на Йоко и спросил Харрисона: «Как ты думаешь, это он или она?» Харрисон ответил: «Это Оно».
Вот и она тоже могла со временем прийти по этой торной дороге к тому же финалу: превратиться в Оно – лицо не женского, а среднего рода.
Вдруг счастье, казалось, забрезжило на горизонте ее жизни: она познакомилась с режиссером документального кино. Он был старше ее на тринадцать лет. Он снимал документальный фильм про академика Николая Яковлевича Марра. В двадцатые годы в их институте проходили выездные заседания Яфетического института, и режиссер приехал для съемок фильма о деятельности Марра. Ее прикрепили к этой съемочной группе в качестве сопровождающей: она выписывала на них пропуск у начальника охраны, а затем у служебного входа поджидала их. В течение дня они снимали различные эпизоды будущего фильма: протоколы и материалы этих самых выездных заседаний в архиве института, залы и кабинеты института, где проходили эти выездные заседания. Озвучивал тексты молодой человек по фамилии Карасик. Это был полный, невысокого роста молодой человек. У них в университете парней такого физиологического типа называли Колобок. Режиссер гонял Колобка взад-вперед по коридорам и кабинетам, по ходу движения тот должен был произносить различные тексты: «Вот здесь, по этим коридорам института, в двадцатые годы частенько прогуливался академик Николай Яковлевич Марр»; «В этом кабинете – тогда он, правда, выглядел несколько иначе – проходили выездные заседания Яфетического института»; «Вот сохранившиеся документы тех самых выездных заседаний».
В один из вечеров, за день до отъезда, режиссер в знак благодарности пригласил ее в ресторан украинской кухни «Водограй» на Караванной улице. Из ресторана он поехал не в гостиницу, а к ней, на Пловдивскую. На следующий день позвонил жене, сказал, что еще на пару дней ему нужно остаться в Питере, кое-что доснять. В институте он уже не появлялся, а все эти три дня провел с ней – гуляли по городу, ночевали на Пловдивской. Она взяла для этого три дня отгулов. И вот так начался их бурный роман.
У него была семья, двое детей. Она думала, что с помощью ребенка ей удастся привязать его к себе. Он, как стрелка метронома, метался между Петербургом и Москвой. На весах с одной стороны были она и ее ребенок, с другой – та, полная, некрасивая сорокапятилетняя женщина, чью фотографию он ей как-то показывал, и двое детей: мальчик семнадцати и мальчик четырнадцати лет.
Как-то он ей сказал:
– Я так больше не могу!
Он остался со своей женой, она с его ребенком.
Первое время он помогал ей – высылал денежные переводы. А потом режиссер перебрался в Сургут, и переводы прекратились.
Теперь она была одна – одна на всем белом свете, а на руках у нее был маленький ребенок, которого ей предстояло одной поднимать и ставить на ноги. Подавать на алименты было бессмысленно – они ведь не были расписаны, доказывать с помощью анализов ДНК, что это его ребенок и, как некие хабалки, мелькающие на всяких ток-шоу, шантажировать и пытаться через скандал добиться от него алиментов – нет, никаких скандалов она не хотела. Как есть, пусть так и будет.
По ночам ее часто преследовал один кошмарный сон.
Ей снилось, что она падает в какую-то глубокую пропасть, в темную бездну. Вокруг плотная, вязкая темнота – ничего не видно. Страх заполняет всю ее душу. Ей кажется, что еще немного – и она ударится о камни и разобьется. В этот момент она слышит чей-то крик: «Лилит!» И всякий раз на этом месте она просыпалась. Гулко стучало сердце. Потом она долго лежала, не могла уснуть.
Перерыв в работе в институте затянулся на целых пять лет: вначале декретный отпуск, а потом три года отпуска после родов и еще год, который она брала за свой счет, пока устраивала ребенка в садик. Жила на скромное пособие по уходу за ребенком и за счет различных подработок: подруга из машбюро на Лиговке приносила печатать различные рукописи.
Состав отдела за эти годы поменялся. Из старого состава остались только заведующая Елена Меировна Флейшман и три пожилых сотрудницы. На место ушедших пришли молодые, амбициозные барышни с ничего не значащими голливудскими улыбками на лицах. Она была старше их на семь лет, но между ними была глубокая пропасть. Они были очень хорошо подготовлены технически. Если для нее компьютер был всего лишь разновидностью пишущей машинки, то для них он был техническим средством, с помощью которого они могли легко перелицевать чужие тексты и скроить из этих компилятивных кусков свою статью. При этом они не испытывали каких-либо моральных угрызений из-за того, что пользуются чужими наработками и чужими материалами.
Им удалось то, что в прежние годы не удавалось никому из сотрудников отдела: подобрать ключи к тщеславному сердцу Флейшман.
Тщеславными людьми, людьми с гипертрофированно болезненным самолюбием, как известно, легко манипулировать. Зная о слабости Флейшман, о ее болезненной щепетильности относительно собственной значимости, они умело манипулировали ею. В выступлениях на конференциях они все время подчеркивали значимость Флейшман: «Исследование основано на теоретических и практических разработках известного российского антрополога Флейшман»; «Обработка материалов социологического опроса проводилась в соответствии с рекомендациями Елены Меировны Флейшман», и обязательно в конце статьи следовали обороты «про сердечную признательность Елене Меировне Флейшман, чьи ценные советы помогли реализации этого проекта» или же «этот проект невозможно было бы реализовать без помощи Флейшман». Как заметила одна старая сотрудница, «Флейшман сейчас испытывает вторую молодость, такого благоухания елея ее восхваления, такой сладкой патоки лести ей не приходилось слышать все предыдущие десятилетия».
Нет, она не умела и вообще считала дурным тоном кем-то манипулировать (исключение только мужчины, но это не было связано с карьерой как таковой) и таким образом двигаться по карьерной лестнице.
Глядя, как ловко и умело они обрабатывают Флейшман, она язвительно думала: «Российские дипломаты в лице этих молодых беспринципных карьеристок потеряли весьма ценные кадры, лишились хороших специалистов».
Они были порождением современного общества потребления, беспринципной эпохи конформистов и приспособленцев, всякого рода политических перевертышей. Они очень хорошо чувствовали быстро меняющую политическую конъюнктуру: с легкостью, по несколько раз в день в зависимости от окружающей их компании меняли свои политические убеждения, но были весьма осторожны в публичном пространстве: на их страницах в социальных сетях были невинные пейзажи с видами различных церквей и городов.
Они ловко и умело эксплуатировали болезненное самолюбие Флейшман. А между собой ерничали и язвительно комментировали гипертрофированную самовлюбленность Флейшман, ее болезненную щепетильность относительно собственной значимости. Флейшман, глумливо посмеивались они, в статьях своих коллег обычно смотрит только на ссылки – сослались на нее или нет, «поэтому, чтобы не получить в ее лице врага, обязательно нужно привести какую-нибудь цитату из работ Флейшман, пусть даже она никогда этими проблемами и не занималась», как некогда в советские времена в научных статьях гуманитариев обязательным было цитирование работ так называемых классиков марксизма-ленинизма, и тогда все будет о’кей.
Эти молодые карьеристки были благополучны и в семейной жизни: имели обеспеченных мужей, которые приезжали за ними на дорогих иномарках. Но будь она мужчиной, она бы никогда не стала встречаться с такими. И глазу не за что было зацепиться: низкорослые, как пони, с толстыми, жирными задницами. Это же нужно, глядя на этих молодых карьеристок, зло думала она, дойти до такого отчаяния, так глубоко истосковаться по женскому теплу, чтобы решиться жениться на таких душевно и физически безобразных бабах… Но почему-то в ее жизни не встречались такие вот истосковавшиеся по женскому теплу успешные мужики…
В отличие от этих молодых карьеристок, ее дела в институте совсем разладились. Она устроила ребенка в садик, но сперва ей приходилось какое-то время оставаться с ним. Забирала она его тоже пораньше. Каждое утро она с боем собирала ребенка: он хныкал, не хотел идти в сад. Из-за детсадовских проблем она приходила на работу к десяти, а уходила в половине пятого. Вдобавок ко всему ребенок часто болел. На одном из приемов в детской поликлинике врач-педиатр заметила:
– У вас здоровый ребенок. Это просто протест организма. Обычное дело для детей его возраста.
Она несколько раз продлевала в аспирантуре академический отпуск, но теперь, когда она уже вышла после декретного отпуска на работу, оснований для очередного продления академического отпуска не было. Для ежегодного отчета аспирантов ей нужно было подготовить черновой вариант диссертационного сочинения, но у нее, как говорят в народе, «и конь не валялся». Она ничего не успевала.
Как-то утром ее пригласила в свой кабинет Флейшман.
– Вам не кажется, что вы работаете по особому графику: приходите к десяти, а уходите в пять? Вы завалили всю научную работу, – сказала Флейшман – По вашей исследовательской теме и вашей диссертации ничего не написано. Я не знаю, чем и как вы будете отчитываться перед Ученым советом.
– У меня ребенок, и по-другому не получается. Некоторые наши сотрудницы тоже ведь работают по особому графику: приходят в такое же время и уходят, как и я, в пять. Детей у них нет, у меня все-таки несколько отличная от них ситуация. Бабушек нет, и мне не с кем оставить ребенка, – попыталась оправдаться она. – Иногда помогают подруги, но у них свои проблемы, и не всегда получается упросить их посидеть с ребенком.
– Знаете, это не Вам определять, кому во сколько приходить и уходить с работы. Вы здесь никто, а заведующая здесь я, поэтому будьте любезны решать свои вопросы не за счет рабочего времени. У нас не благотворительная организация, а научное учреждение. Позволю себе заметить, – холодным взглядом сквозь очки окинула ее Флейшман – что, прежде чем заводить ребенка, надо было серьезно взвесить, в состоянии ли вы нести это бремя, тем более что, как вы говорите, вам не на кого положиться, у вас нет бабушек и дедушек. В конце концов, Вам ведь было не пятнадцать лет, когда это случилось, а двадцать семь, если не ошибаюсь!
Высокомерный тон Флейшман и ее реплика про бремя и завести ребенка (завести, подумала она, можно кошку или собаку, но не ребенка) вывели ее из себя, и она запальчиво, резко, чего раньше никогда себе не позволяла в разговоре с заведующей, ответила ей:
– Это моя личная жизнь! Мне кажется, это не Ваше дело – обсуждать, правильно я сделала, что родила ребенка, или нет! Я к Вам не обращалась, чтобы вы нашли мне сиделку.
– В таком случае, – с металлическими нотками в голосе сказала Флейшман, – будьте любезны приходить на работу вовремя и уходить вовремя. Рабочий день, позвольте вам напомнить, у нас начинается в девять пятнадцать, а заканчивается в семнадцать сорок пять. Будьте любезны укладываться в эти рамки. В противном случае Вам придется разбираться с дирекцией, и полагаю, что в этом случае нам с Вами придется расстаться. У нас научное учреждение, а не богадельня. Вас ведь никто, если не ошибаюсь, сюда силком не затаскивал. Вы сами пришли, сами просили принять Вас на работу. Никто Вам эту работу не навязывал, это было ваше решение – писать диссертацию, так что будьте любезны выполнять то, за что Вы взялись.
Удивительно, подумала она про себя, Флейшман все время кичится своей образованностью, а говорит, как какая-то малообразованная уборщица: «Вас никто сюда силком не затаскивал» – затаскивают в постель, а не на работу в институт.
– У нас здесь у каждого сотрудника есть определенный фронт работы, который он обязан выполнять, если хочет работать в нашем учреждении, – продолжала Флейшман. – Если Вы не справляетесь, то лучше честно об этом признаться, не заставлять других принимать за Вас неудобные решения.
При слове «фронт» она вспомнила разговоры, которые ходили среди сотрудников института про Флейшман и ее родственников.
Рассказывали, что из-за своего склочного характера Флейшман не хотели принимать в партию (тут даже не помогла рекомендация и поручительство ее подруги – парторга института Авижанской). Но тут Флейшман пустила в ход рассказы про своего деда – красного комиссара, который «брал Перекоп» (позднее некоторые из сотрудников, пересказывая слова Флейшман о своем деде – красном комиссаре, язвительно добавляли: «Наверное, на пару с Розалией Самойловной Землячкой очищал Крым от белогвардейской гидры»), и про своего отца, майора НКВД, который после войны вылавливал в Эстонии на хуторах «лесных братьев» («Наверное, – язвили сотрудники института, – со столь же суровой большевистской беспощадностью, как некогда его отец очищал Крым от белогвардейцев, он зачищал эстонскую землю от всякого рода националистов и фашистских прихвостней»). Ее рассказы про славное большевистское прошлое своего деда и отца возымели действие, и она уже без всяких препон была принята в партию. В институте рассказывали и про другого родственника Флейшман – сотрудника одного из ленинградских музеев, про которого говорили, что он писал доносы на Льва Гумилева.
«Да, она дочь своего отца. Воистину, яблоко от яблони недалеко падает», – слушая рассуждения Флейшман про фронт и про неудобные решения, подумала она.
Спустя неделю после разговора с Флейшман ее вызвал заместитель директора института по научной работе Владимир Алексеевич Файбусович.
– От заведующей вашего отдела Елены Меировны Флейшман поступила служебная записка, в которой сообщается, что Вы завалили научную работу, не соблюдаете рабочий режим: приходите с опозданием на два часа и уходите на час раньше.
Она попыталась объяснить, начала было говорить про ребенка, что она одна – нет бабушек и дедушек и ей самой приходится отводить и забирать ребенка из садика, но Файбусович ее грубо перебил:
– Это Ваши личные проблемы! Решайте их не за счет нашего учреждения! Я должен отреагировать на эту докладную. Для начала объявляю Вам выговор. Если не сделаете выводов, последует второй, и тогда нам придется с Вами расстаться!
Со стороны молодых сотрудниц она тоже чувствовала враждебность. Возможно, Флейшман передала им, что она в качестве оправдания сослалась на то, что другие сотрудницы также приходят на работу с опозданием и уходят раньше времени. Конечно, она была не права, ей не следовало это говорить: каждый отвечает за свои поступки. Она оказалась не готова к разговору с Флейшман, и как утопающий в попытке спастись готов ухватиться за соломинку, так и она сослалась на то, что другие сотрудники приходят и уходят с ней в одно время.
Круг вокруг нее сжимался. За первым выговором последовал еще один – за опоздание, и она, не дожидаясь, когда ее будут увольнять по статье за систематические прогулы, сама написала заявление об увольнении.
И только сейчас, когда она вдруг оказалась на улице, она поняла, что совершенно не подготовлена к жизни. Пошла череда различных профессий и мест работы, на которых она подолгу не задерживалась: библиотекарь, машинистка в машбюро на Лиговском проспекте, продавец-консультант в сетевых книжных магазинах, а потом на несколько лет застряла в букинистическом магазине. После закрытия букинистического магазина устроилась в магазин по продаже очистителей воды. Теперь она, как некогда ее мама, записывала в блокнот приход-расход.
Как всякая честолюбивая мама, она выбирала для своего сына лучший садик, лучшую школу. Но ее честолюбие, в отличие от прочих мамаш, не носило системного характера. Иной раз, когда сын просился на улицу встретиться и погулять с друзьями, она жестко его отчитывала: «Вначале ты должен сделать уроки», а в другой раз просто кивала головой в знак согласия. Она могла пожурить его за плохие оценки, упрекнуть, пытаясь задеть его самолюбие: «Неужели тебе приятно, когда твоим одноклассникам ставят пятерки, а у тебя двойка? Неужели тебя радует выглядеть в глазах твоих одноклассников каким-то дебилом?» А могла в аналогичной ситуации, когда сын робко начинал рассказывать, что за контрольную ему поставили тройку, рассеянно ответить: «В жизни всякое случается». Она даже не пыталась вникнуть, что стало причиной этой тройки – предвзятое отношение учительницы или же неподготовленность сына. Ее мысли в это время вертелись вокруг мужчин, прихода и расхода…
Она была мать-одиночка, иными словами, она была мамой, отцом, бабушкой и дедушкой, иногда сантехником, иногда плотником. Ей не на кого было опереться. Родители находились на Южном кладбище, друг возле друга. Туда она ездила раз в год, после Троицы. А из живых рядом никого. Дальние родственники были разбросаны по всем уголкам бывшего Союза – от Камчатки до Риги. У подруг, с которыми она когда-то дружила, давно уже была своя жизнь. С теми немногими, с кем она еще поддерживала отношения, она могла только посудачить по телефону.
Во время родительских собраний она пристально рассматривала родителей одноклассников своего сына. Она пыталась разобраться, что в них есть такого, что позволило этим женщинам благополучно устроить свою жизнь и чего не хватало ей в отношениях с мужчинами. Встречались среди них красавицы, но в основном это были женщины, на которых она, будь она мужчиной, ни за что бы не посмотрела. Что особенного в их мужьях, ездящих на дорогих иномарках? Что в них есть такого, чего не хватало мужчинам, с которыми она встречалась? Может, им просто повезло в жизни в нужный момент оказаться в нужном месте: океанский прилив выбросил их чуть подальше, чем остальных? Им повезло, что, когда советские чиновники высших рангов принялись распиливать государственную собственность, эти люди оказались ближе к кормушке, чем остальные. Но достаточно ли для этого только везения? Ведь из сотен тысяч руководителей, в чьей власти было право распоряжаться собственностью, далеко не все смогли этим воспользоваться, далеко не у всех оказались необходимые для этого качества. А кроме того, далеко не у всех, кто сумел организовать свое дело, первоначальный капитал создавался именно таким легким путем присвоения государственного имущества. Кто-то начинал с нуля, как рыжий Муту, копейка к копейке складывая прибыль, путем различных комбинаций и рискованных предприятий добывая деньги.
Ее роман с рыжим Муту, бессарабским румыном, случился после отъезда Германа в Штаты и незадавшегося романа с режиссером документального кино. В то время рыжий Муту учился в каком-то паршивеньком институте, в котором изучали холодильные и прочие установки, и жил в таком же паршивеньком общежитии этого института.
Она никогда не спрашивала, что подвигло этого бессарабского румына сорваться из своей деревеньки и броситься в омут жизни большого города и почему он из сотен различных вузов выбрал именно этот паршивенький вуз холодильных установок. Возможно, единственной причиной было то, что туда сложнее было не поступить, чем поступить, и что там давали общежитие для иногородних. В ту пору, когда она познакомилась с рыжим Муту, у него за душой не было ничего, кроме самоуверенности и наглости. Могла ли она тогда предположить, что из этого наглого и самоуверенного румына что-то выйдет? Такое ей даже в голову не приходило. Могла ли она его тогда удержать? Будь она помоложе, когда ее когти были еще остры, она наверняка бы смогла его удержать, но в ту пору ей было уже тридцать четыре, а он был на четырнадцать лет младше. Впрочем, нет, будь она помоложе, и тогда не смогла бы удержать Муту. Таких мужчин выбирают не женщины, а они женщин. Рыжий Муту смотрел на женщин так, как некоторые женщины на мужчин, дотошно высчитывая, какие дивиденды принесет с союз с ним. Для него она была тем же, чем является красивая брошь на платье модницы: мода меняется – и с брошью расстаются, заменяют на другое украшение. Возможное, единственное, что его привлекало к ней, была ее квартира, но то ли это, ради чего нужно связывать свою судьбу с женщиной, которая на четырнадцать лет старше, при этом уже не самой яркой красавицей. Она, наверное, интуитивно чувствовала, каким будет финал этой короткой новеллы с рыжим Муту. У него появится девушка, которая будет отвечать его требованиям, и встречаться с ней он будет все реже и реже. При этом он будет ей лгать, что загружен на работе и прочее. А потом в один из дней разыграет сцену, скажет, что повстречал девушку, в которую влюбился, а он из тех людей – он это подчеркнет, – которые не умеют и не могут лгать, поэтому они должны расстаться. А потом еще скажет, что он всегда будет помнить ее, что встреча с ней относится к его самым дорогим воспоминаниям. Выскажет все те ни к чему не обязывающие слова, которые обычно говорят при расставании. Она опередила его. Во время одной из встреч она сказала, что всякий раз, когда она встречается с ним, она испытывает неловкость от того, что она, уже немолодая женщина, встречается с молодым человеком. Это нехорошо, сказала она. Мы принадлежим к разным поколениям. Это неправильно – отнимать тебя от твоего поколения, от твоих сверстников. Мне кажется, что с девушкой твоего поколения тебе будет интересней. Между нами слишком большая разница в возрасте, и с каждым годом она будет все более и более ощутима. Неравноценные союзы, заметила она, как правило, распадаются. Ее тогда задело, как легко он все воспринял: не пытался ей возражать, не стал настаивать на продолжении встреч. Может быть, он давно уже вел двойную жизнь: встречался с ней и еще с какой-то молодой девушкой-студенткой. Может быть, там, в студенческом общежитии, подумала она, она давно уже стала предметом насмешек. Может быть, собираясь к ней, он говорит своим друзьям в общежитии: «Пошел к своей старухе». А те, в свою очередь, судачат о красивой старухе, которая бегает за двадцатилетним юнцом. Единственное, что он тогда сказал ей, – что ему с ней было приятно, что она интересная женщина. Он ушел, а ее внутри жгла горечь расставания. А может, она затеяла этот разговор вовсе не для того, чтобы опередить его и расстаться с ним чуть пораньше, чем они бы расстались. Может, ей хотелось, чтобы он в ответ на ее слова решительно сказал: «Нет, нет, я не хочу с тобой расставаться, мне не нужны молодые девушки, мне нужна только ты». Но ничего такого он не сказал. Он ушел легко и просто. Он заверил ее, что они остаются друзьями, что он будет время от времени приходить к ней и звонить ей. Она знала, что за этими словами пустота: он никогда больше к ней не приедет, не будет ей звонить. Такие, как рыжий Муту, всегда идут только к своей цели.
А потом она стала встречать его на уличных рекламных щитах. С баннеров, рекламирующих мобильные телефоны, смотрел на прохожих рыжий Муту. У него был все тот же наглый и самоуверенный взгляд. Совершенно случайно в журнале «Компания» она встретила статью о рыжем Муту, из которой узнала, что рыжий Муту руководит фирмой, которая занимается продажей мобильных телефонов и разработкой различных интернет-систем. В краткой справке, которая приводилась перед статьей, было написано, что его фирма является одним из самых успешных и развивающихся предприятий, занимающихся Интернетом и продажей мобильных телефонов на российском рынке. И после этой справки была помещена фотография рыжего Муту. У него был все такой же наглый и самоуверенный взгляд.
Она была всего лишь малозначительной ступенькой в его жизни, через которую перешагнули и забыли. Теперь она понимала, что у нее не было никаких шансов удержать его.
И после рыжего Муту в ее жизни появлялись мужчины – мужчины-однодневки. Они, подобно тому как ночные бабочки облепляют фонарные столбы, слетались на ее тепло и с рассветом исчезали. Редко с кем из них ее легковесные флирты затягивались дольше, чем на пару недель. Одни бабочки меняли других: для них она была «баба с прицепом», с которой можно покувыркаться в постели, но взваливать на себя ее ребенка никто не хотел.
А потом пришел день, когда она прекратила все эти случайные связи, все эти недолговечные отношения с ночными бабочками-однодневками. Она смирилась со своим одиночеством. Никто не покупал ей цветов, никто не дарил ей подарков по разным праздникам. И в этих условиях она стала чем-то вроде андрогина – мужчиной и женщиной в одном лице; сама для себя устраивала праздники: покупала цветы, коробки конфет, духи – все то, что другим женщинам дарили их любимые мужчины. Ей же все это приходилось делать самой: каждую пятницу после работы она заходила в цветочный магазин и покупала новый букет – розы, гиацинты, нарциссы, а то просто полевые цветы и с этим букетом шла по городу. Она ловила на себе взгляды прохожих и читала в их глазах: «счастливая». Они думали, что вот идет женщина, которой ее любимый мужчина подарил цветы. И вот так, под восхищенные (а может, завистливые) взгляды окружающих ехала она через город в свой спальный район, чтобы дома водрузить эти цветы в вазу – до следующей пятницы, когда очередной букет придет ему на замену.
Сын иногда спрашивал: откуда цветы? Она отвечала: подарили на работе. Даже он не знал ее тайны.
Она часто, когда смотрела на сына, думала, каким он вырастет. Она пыталась разобраться, кого в нем больше: ее или ее любовника – режиссера документального кино. Или он похож на кого-то из родственников?
Она все больше убеждалась, что сын похож на её отца, любимым занятием которого, когда он был трезв, было копаться в металле – чинить свой старый «Москвич-412» или копаться в телевизоре. Только металл был у них разный: у отца автомобиль и телевизор, а у сына – компьютер. Его будущее для нее было ясным, и когда он заявил, что собирается поступать в Институт связи имени Бонч-Бруевича, она это приняла спокойно: «Поступай, куда тебе хочется. Только бы потом не ругал меня».
Она все больше сознавала, что они живут в параллельных мирах, практически не соприкасаясь друг с другом. Если в детстве она была ему самым близким человеком, то теперь она была просто его мамой, с которой он обсуждал только некоторые вопросы. Ее радовало, что он самостоятелен, но его самостоятельность все больше и больше удаляла его от нее. Возможно, такая ранняя самостоятельность развилась в нем, потому что он рос без отца, а в тот момент, когда ему нужна была та или иная помощь, ее мысли бродили в поисках новых кандидатов на роль суженого.
О своей невесте он заговорил только тогда, когда привел ее в дом: «Познакомься, Ира».
Спустя некоторое время ей пришлось поменяться с комнатами с сыном: из большой восемнадцатиметровой комнаты она перебралась в десятиметровую, а сын со своей гражданской женой – в ее комнату. Чем больше она присматривалась к Ире, тем больше приходила к мысли, что совсем не такой представляла свою будущую невестку. Девушка была миловидная, симпатичная, с красивым, струящимся нежным мелодичным голосом. В первый раз, когда она ее увидела, подумала, что, будь она мужчиной, то ухаживала бы за этой девушкой только из-за ее голоса. Она была домовита – без всяких понуканий убиралась по дому, готовила. Но в ней отсутствовала всякая мотивация чего-либо добиться в этой жизни. Она работала продавцом в «Зоомаркете», продавала корма для животных и была довольна своим положением.
– Но это же временная работа, а что дальше? – говорила она своей невестке. – Нужно учиться, чтобы найти какую-то стоящую профессию. Эта работа хороша для студенток, которые хотят заработать немного денег к стипендии, но совершенно не годится для семейной женщины. Это несолидно.
– Я об этом еще не думала, – отвечала невестка. – А вообще, мне работа нравится: хороший график – неделя через неделю. И зарплата неплохая – восемнадцать тысяч. Директор пообещал, что после Нового года еще прибавит. А потом, коллектив у нас хороший. Хорошие девочки подобрались. Мне нравится.
Нет, совсем не такой представлялась ей невеста для сына. Совсем не такой.
Она перестала ее поучать: пусть живут, как хотят. Нравится в «Зоомаркете», пусть до глубокой старости там работает. Ей все равно. Она ведь и сама не лучше. Отучилась в университете, защитила на отлично диплом, написала около десяти статей – и что? Работает в «Аквамире». И теперь ее тоже уже не сдвинуть куда-то: коллектив хороший, меня уважают и ценят, да и в моем возрасте рискованно менять профессию, сказала бы она, если бы кто-то упрекнул ее, что она, человек с высшим образованием, работает в простеньком магазине.
С каждым годом она чувствовала, что все больше и больше стала уставать от города – от этой суеты, от людей, от потока разнообразной информации. Стала уставать от своих молодых. Их воркование, смех ее все больше и больше раздражали. Иногда ей казалось, что она начинает ненавидеть свою невестку. Ее в невестке раздражало всё: как она ходит, как она разговаривает, все эти жаргонные слова, которыми была засорена ее речь: «да это было так классно», «реально, круто»; «не парюсь»; «короче», которые она вставляла чуть ли не в каждую фразу… Иной раз, когда она слышала, как невестка, разговаривая с кем-то по телефону, вставляет свои «короче», ей хотелось подойти и крикнуть ей на ухо: «Короче, короче, короче». «Эта девушка вся пропитана духом мещанства. Оно из нее вылезает из каждой щели. И что мой сын нашел в ней? Возможно, кроме постели, их ничего не связывает, – думала она. – А может, я ревную к сыну? Нет, дело не в этом, – продолжала она про себя свои нескончаемые диалоги. – Она действительно простоватая девушка. Да, добрая, но обыкновенная простушка».
Но однажды в мыслях о невестке, о сыне появился совершенно новый поворот: «Мне надо куда-то уехать – может, на время, может, насовсем, но надо куда-то уехать, иначе я разругаюсь с сыном и с его женой. Надо куда-то уехать». Эта мысль, однажды промелькнув в сознании, теперь уже не покидала ее. Она все настойчивей и упорней обдумывала, как бы это осуществить.
Она стала лихорадочно перебирать газеты с рекламными объявлениями, где каждый заголовок начинался словом: «Требуются». Залезла в Интернет, на Авито. И вот среди этого вороха объявлений, среди всех этих «требуются, требуются», ей попалось объявление, что библиотеке поселка Каменка требуется на работу заведующая. Желательно с опытом работы. Предоставляется служебная площадь. Здесь же указывался телефон местной администрации, куда следовало обращаться по вопросам трудоустройства.











