Читать онлайн ШУРКИНА ТАЙНА
- Автор: Татьяна Северинчик
- Жанр: Современная русская литература
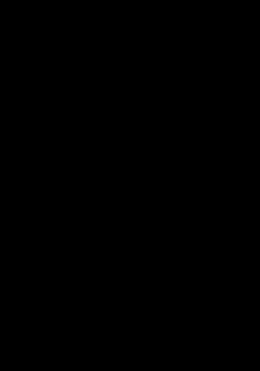
Цена смерти – жизнь,
цена любви – терпение и принятие.
– Шурка, Шурка! – Голос бабы Васюты звал настойчиво и громко. Сначала он прокатился по всем углам избы и отозвался глухим угрожающим звоном в ушах притихшей за печкой девчушки.
Маленькая Шурка, теребя подол лёгкого платьица, которое мать ей сшила на вырост, вжалась всем своим существом в деревянный пол за тряпицей, служившей занавеской и отделявшей кухню от комнаты. Шуркa застыла с открытым ртом, боясь пошевелиться. В животе предательски засосало.
– Да зачем она тебе? – отозвался молодой голос из дальнего угла избы.
– А за тем, чтоб не будить лихо, как говорят, пусть лежит себе тихо. Взрослый разговор не для детских ушей. – Заскрипели половицы под тяжёлой поступью Васюты. Она медленно ходила по комнате.
Чисто побеленную печь с лежанкой из холщёвых мешков, набитых соломой, топили только один раз в день – рано утором. Сейчас, в полдень, она была остывшая, и от неё даже веяло прохладой холодного кирпича. Топить печь два раза в день – утром и вечером – прекращали с наступлением тепла.
***
В то памятное лихолетье тысяча девятьсот сорок первого года из-за затяжной холодной весны и дождей тёплый сезон начался поздно. Гнетущая атмосфера нависла над всей центральной частью страны, включая и Тульскую область. Только к середине июля лето набрало силу, солнечных дней прибавилось, а по-летнему жаркая погода установилась ненадолго лишь в конце августа.
Трудно было представить, что уже осенью немецкая армия продвинется совсем близко к Туле, и враг подойдёт вплотную к селу Куркино, в двух километрах от их деревни Барановки, где начнутся тяжёлые бои.
***
Шурка не выдержала, слегка отодвинула край занавески и с замиранием сердца, почти не дыша уставилась на говоривших.
Шуркина мать – совсем ещё молодая, высокая, с русыми волосами, аккуратно убранными в подвязанную назад косынку. А напротив, у окна с простой занавеской, стояла низкорослая, грузного вида баба Васюта в длинной застиранной юбке и разбитых башмаках. Выглядела она почти старухой.
Баба Васюта озабоченно смотрела в упор на Шуркину мать, нагнувшуюся над люлькой, в которой неистово орал младенец.
– Антонида, сама пойми, это же лишний рот. Как ты выживешь без мужика-то с двумя малыми детьми на руках? Проще будет всем… Пусть орёт, не корми, – настаивала баба Васюта, а ребёнок в люльке надрывался, и мать с опущенной головой в позе провинившейся девочки склонилась над ним ещё ниже.
Васюта, как огромная чёрная птица с раскрытыми крыльями, пугающе нависла над подавленной матерью.
– Тебе скотину чем-то кормить надо, ведь сама знаешь, если лишишься животины… – Пауза поглотила любые возможные отговорки. Антонида хранила молчание, а Васюта гнула своё: – Не будет коровы, сама знаешь, что не протянешь. Шурка тебе не помощница ещё, только что в обузу пока.
Шурка всё ещё стояла неподвижно, как парализованная. Широко распахнутыми глазами она, не моргая смотрела прямо, но не видела перед собой ничего.
– Тоня, Тоня! – вместе с сухим жарким облаком пыли в избу ворвалась Нюрка, соседская баба, влетела с порога в сени без стука и голосила в крик: – Там похоронку опять принесли! Теперь Любаше.
***
Новости с фронта – официальные сводки от Советского Информбюро вещались голосом Левитана, их обычно включали в сельпо по громкоговорителю. Фронтовые письма – вырванные из простой ученической тетради и сложенные треугольником листки приходили почтой. Похоронки же – уведомления на клочках официальной бумаги, иногда смятые и с поплывшими чернилами, так что и имя порой было не разобрать, приносили на дом. Вот тогда уже бабские вопли на всю деревню разносили ужасные вести по всей округе.
***
Шурка незамеченной шмыгнула в проём открытой двери, вон из душной избы на улицу, во двор. Худенькое тельце четырёхлетнего ребёнка трусилось в ознобе, как от мёрзлой непогоды в середине зимы, а на улице стояла августовская жара.
– Кто? Муж, сын? – неслось ей вдогонку из избы.
– Нет. Брат ейный, Петька, а у него баба на сносях в соседней деревне…
В этот момент образовалась пауза, оравший младенец, наконец, успокоился. Шурка знала, что это мать дала ему смоченную в сахарной воде тряпочку, и он, теперь затихнув посасывал её жадно и торопливо.
– Ой, бабоньки, что ж это будет-то? – простонала, прерывая воцарившуюся вдруг тишину, Нюрка.
– Да ты охолонись малёха, – участливо подвинула табурет соседке баба Васюта. – Садись. Я воды принесу. А то прямо ударяешься совсем.
Шурка глубоко вздохнула, и разогретый летний воздух разом заполнил её лёгкие. На выдохе, не раздумывая ни секунды она поспешила к будке, сооружённой из крепких досок, и вползла внутрь.
Будка для огромного пса служила Шурке потайным местом, где она пряталась, спасаясь иногда от окриков грозной бабы Васюты. Хозяин будки, пёс Палкан, признавал только Шуркиного отца, который был теперь на фронте. Поэтому Палкан был всегда на привязи, – не приведи бог, чтоб не напал на кого. Но маленькую Шурку по каким-то своим пёсьим соображениям он не трогал.
***
Александра посмотрела на свои руки. «Какая же я старая…»
Её когда-то ловкие руки летали без остановки над клавиатурой пишущей печатной машинки, как лёгкие бабочки, не тарабаня со спотыканиями и неожиданными паузами, а выстукивая упорядоченный ритм, который просто завораживал, заставляя тех, кто видел это действо, задерживать дыхание, прислушиваться. Буквы укладывались в стройные линейки текста без помарок, листы складывались в стопки готового материала на столе, и довольная своей работой Шурочка горделиво улыбалась.
Молодые офицеры заглядывались на элегантный танец её красивых рук над клавиатурой. Старший лейтенант Щербинин всегда находил причину остановиться возле стола, за которым она сидела очень прямо, и ласково просил: «Шурочка, напечатаешь мне этот рапорт, очень нужно сегодня. – Она утвердительно кивала, не отрывая рук от печатной машинки. А лейтенант продолжал: – Шурочка, не смущай меня своими прелестными руками», – она улыбалась в ответ и молчаливо гордилась собой.
Александра рассказывала много из своего прошлого. Последнее время она всё чаще жила воспоминаниями, напрочь забывая, что было вчера, пару часов назад, пять минут назад. Собеседником мог стать первый встречный, готовый слушать её, даже незнакомец, подсевший к ней на лавочку.
– Я была, между прочим, лучшей машинисткой у нас в отделе, – любила повторять Александра в разговоре при каждом удобном подвернувшимся случае, горделиво поднимая голову. – Деревенская девочка, образование семь классов, а все завидовали. – Александра при этом обычно делала значительную паузу и после скромно признавалась: – Я печатала вслепую и грамотно, без помарок.
***
Штаб флота стал для неё не просто местом работы. Университеты жизни она как раз проходила там. Грамоте училась по орфографическим словарям, которые ей заботливо принёс сам замначальника разведки. Книги классиков по программе старших классов подбрасывали читать другие офицеры. Шефство над ней взяли несколько офицеров, включая молодого старшего лейтенанта Щербинина из разведки. И когда штаб Балтийского флота переместили из Балтийска в Калининград, то в вагоне поезда, на котором они ездили каждый день на работу, Шурочка сидела именно в их компании. Иногда под настроение коротали время за игрой в карты. Играть она не умела, и все с удовольствием учили её, подсказывая правильный ход, при этом все дружно шутили, смеялись.
Шурочка ходила на работу, как на праздник. Она с ужасом вспоминала швейную фабрику, где ей пришлось работать посменно день-ночь. И она, пятнадцатилетний подросток, не выдержала и сбежала к своей родственнице присматривать за ребёнком, не проработав на фабрике и полгода. Мужа родственницы военно-морского офицера вскорости перевели из Ногинска в Балтийск, и они взяли Шурочку с собой. Добрая тётя Нина посоветовала ей пойти на курс машинописи, где юная Шурочка освоила сложную технику печатания «вслепую». По окончании её взяли в штаб флота, по началу в общий отдел машинисток, где она стала воистину виртуозом печатания на машинке.
***
Александра опять погрузилась в свои воспоминание, это всё, что ей осталось, как она теперь говорила, «все дела уже переделала». Она перестала рассматривать свои руки и вопросительно посмотрела вокруг: штора качалась от лёгкого сквозняка, залетавшего в открытую форточку, но всё равно было душно. Комната окнами выходила на солнечную сторону. Там, во дворе, уютный, ухоженный сад благодарно зеленел и цвёл почти круглый год. Глядя в окно, Александра снова задумалась.
После окончания семилетки вышла оказия, и юная Шурка уехала из родительского дома из деревни в город. Родителям в их многодетной семье было, о ком заботиться, и никто не стал особо возражать, тем более, что Шурку забрала к себе её двоюродная сестра Маруся.
Воспоминания рассеивались постепенно, уступая место реальности, о которой было так приятно забыть и забыться. За окном громко, как в рупор, загалдели чайки. От их оголтелых криков Александра встрепенулась и открыла глаза.
«Где это я? Где? Это не мой дом, не мой. Тогда чей?»
Она закричала громко в голос:
– Мама, мама!
И эхом ей откликнулось извне:
– Мама, мама, ты чего застыла? Мама, мамочка, ты меня узнаёшь?
Тася зайдя в комнату небрежно кинула ветровку на стул возле обеденного стола и подошла ближе к матери. Непослушные кудри
мышиного цвета волос падали на бледное лицо, закрывая лоб. Её уставшие голубо-серые глаза уже немолодой женщины смотрели на мать с тревогой. Невысокая и худющая, не по возрасту одетая в потёртые короткие джинсы, Тася выглядела, как «подстреленный воробей».
– Ну да, ты – моя дочь. Чего ты так кричишь? Я не глухая, – ответила Александра и отшатнулась от дочери. – Ты меня совсем за умалишённую принимаешь, чего ты так разоралась? Ну что ты бельмы свои вылупила на меня? И где я, вообще?
– Мам, ты дома. У себя.
– Это не мой дом, – сказала, как припечатала, Александра, и попыталась встать с дивана.
Мягкий, с бархатным покрытием диван, стенку-сервант с зеркалом и подсветкой, да и всю остальную мебель в двухкомнатную квартиру, выбирали специально, чтобы воссоздать обстановку её прошлого жилья в России.
– Мама, ты сюда переехала три года назад, в эту квартиру. Тебе понравилась она, сама говорила, что светлая, чистая, большие окна. Чего ты надулась?
– Помню. Зачем ты мне это всё рассказываешь? Я что, память потеряла? По-твоему, я – дура совсем?











