Читать онлайн Фенечка на запястье Бога
- Автор: Татьяна Трушова
- Жанр: Биографии и мемуары, Современная русская литература
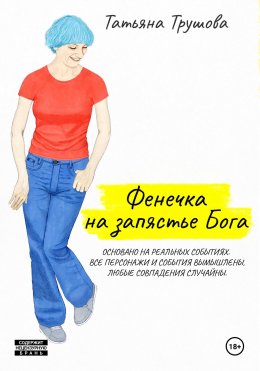
Посвящается моей мамуле
Глава первая
«Напиши, напиши, напиши…» – шептали голоса в голове.
Я любила рассказывать знакомым и друзьям что-нибудь примечательно-увлекательное, жизненные анекдоты, после которых все смеются и настойчиво рекомендуют:
– Тебе нужно непременно написать об этом книгу!
«Напиши, напиши, напиши», – начинают твердить голоса в голове.
Идея, словно вирус, заражает разум, начинает строить города и передвигать горы1. Я опомниться не успела, как превратилась в «автора», который мучительно терзает листок бумаги.
Любая идея представляется простой. Всё относительно. Все врут. Все дороги ведут в Рим.
Я собиралась написать историю своей жизни, про которую «всё знаю». Мне казалось, что сделать это можно легко, быстро и безболезненно. Пока я не начала. Начала и передо мною возник тёмный лес, потом чаща, потом непроходимые топи, таёжные дебри и запутанный клубок событий.
Я бросала. Отказывалась. Утверждала, что мне это не нужно. Возвращалась снова.
… это процесс самопознания … это бесплатная психотерапия… просто «вспомню всё»…
Миллионы причин, чтобы не сделать книгу, и миллионы причин, чтобы она появилась.
Решающий момент – однажды она стала моим спасением, эта история, которая понравится многим, а других разочарует, вызвав зевоту и недоумение. Моя книга дала мне океан сил, мужества и веры. Когда я закончила её, то подумала: неужели всё это случилось со мной? С маленькой провинциальной девочкой, у которой не было никаких шансов на выживание?
Мама называла меня Танечкой или Капелькой – наверное, потому, что всегда считала маленькой и беспомощной. Я родилась в августе 1973 года. Помню себя лет с пяти. Видимо, детство до пяти лет было настолько ужасным для моего сознания, что Бог прошёлся по нему ластиком и всё стёр.
Зато мама запомнила всё: безумные бессонные ночи; кричащего от паралича ребёнка, которого невозможно накормить; я не глотала и выглядела не «как все». Без уродства, но странно.
В момент моего рождения Бог дал мне три вещи: мозги, безудержную фантазию и детский церебральный паралич в тяжёлой форме. Каждый новорождённый получает свой «набор».
Семью я делила на два «клана»: мамин и папин.
Отец был чудовищем – пугающим и притягивающим. Высокий кареглазый брюнет, он носил очки и всенепременно нравился женщинам. По легенде нашей семьи, он переспал со всеми мамиными подругами, соседками и родственницами.
Отец родился в Ростове-на-Дону. В детстве я думала, что Ростов – это человек, предположительно мой дедушка, поскольку своего настоящего дедушку из папиного «клана» я никогда не видела.
То, что отец рассказывал о своей семье, звучало как древний эпос. Например, он описывал свою бабку-казачку, которая могла съесть ведро пирожков на завтрак. Половицы под ней трещали, когда она перемещалась по дому. Моя бабка-казачка, видимо, была разновидностью русских богатырш. По крайней мере, так выходило по словам отца.
Ещё в его эпосе были добрые фашисты во время Второй мировой войны, которые кормили отца шоколадом. Затем в редких рассказах о себе отец переходил к той части своей жизни, когда он юношей выучил наизусть всего «Евгения Онегина» и устроился в церковный хор петь на клиросе. У отца был бас.
Потом славная Советская армия призвала его в стройные ряды, и отец стал прапорщиком. Не сразу, конечно, – он «дослужился». Что означало слово «дослужился», я тогда плохо понимала, но по чёрно-белым фильмам моего детства решила, что отец красиво курил, одетый в военную форму, вместе с такими же, как он, доблестными бойцами, а потом бросал гранату в добрых фашистов, которые кормили его в детстве шоколадом. И вот так – «дослужился».
Дослужившись до прапорщика, отец познакомился с моей мамой, которая тоже дослужилась, но только до ефрейтора. Как «дослуживались» женщины, я представляла с ещё бóльшим трудом, потому что женщин в военной форме в кино показывали мало. К тому же мама никогда не курила, как военные, и ничего не знала про добрых фашистов – она рассказывала только про военный голод и босые ноги своего детства.
Моя мама в молодости была прехорошенькой и флиртующей. В армии она работала на коммутаторе, то есть была радисткой. Сразу вспоминались советские радистки – особенные женщины, которые никогда не плачут и умеют открывать канализационные люки без помощи рук, как советская разведчица Кэт из фильма «Семнадцать мгновений весны».
Образ разведчицы вполне соответствует характеру моей матери. После армии она устроилась работать на переговорный пункт телефонисткой. Вскоре её фото, как ударницы коммунистического труда, вывесили на всю стену единственного в городе Монино переговорного пункта. Моя мама была секс-символом Подмосковья: бабетта на голове, нейлоновые чулки, блестящие карие глаза на огромном чёрно-белом постере.
Она вспоминала, как ей на работу названивали всяческие молодые люди и приглашали на свидания. Мама выбрала отца, не подозревая, что он чудовище.
Когда мать и отец поженились, у них родилась Леночка – моя старшая сестра. Потом отец демобилизовался, и они приехали жить на мамину родину – на Алтай, в город Бийск. Тогда моей маме было 34, а отцу 32 года.
Отец устроился работать строителем, и молодой семье дали комнату в частном секторе. Он виртуозно владел разнообразными «мужскими навыками» – маме завидовали все подруги, хором повторяя:
– Люся, у твоего Юры золотые руки!
Никто не догадывался, что отец-чудовище издевается над матерью. Сначала он был образцово-показательным мужем, но через год ему стало скучно – отец стал уходить в загулы, запои, скандалы, массовое уничтожение посуды и психики матери. Когда она поняла, что вышла замуж за чудовище, ей нужно было бежать прочь от него со всех ног, спасая себя и свою дочь, мою старшую сестру. Она, возможно, убежала бы, но моё рождение нарушило её планы.
Когда мама родила меня, у неё появилась миссия: «вылечить Танечку». Она поглотила всё – всё было брошено в этот костёр. Мать стала одержима этой мыслью. Все – врачи и родственники – отговаривали её от безумной затеи, утверждая: ничего не получится. Но она упрямо твердила:
– Танечка будет ходить!
Она в это верила. Я была её религией, а она – моим абсолютным божеством. Мама понимала меня без слов. Её речь, её забота (как она меня кормит, как она со мной гуляет) – всё было наполнено светом материнской любви, которая сметает любые препятствия на своём пути. Рядом с мамой я чувствовала себя абсолютно защищённой, чувствовала, что она меня не стесняется и радуется каждому моему шажку под названием «Танечка это сделала». Неважно что. Может, я сложила узор из мозаики или выучила стихотворение за несколько минут – мама радовалась и обязательно хвалила. Постепенно её похвала стала для меня сильнейшим наркотиком. Всё моё поведение подстраивалось под мамино одобрение. Я хотела, чтобы она находилась со мной постоянно. В ней сосредотачивалась вся моя жизнь.
Часто, как молитву, мама внушала мне:
– Мы должны вылечиться! Я хочу, чтобы ты стала такой, как все, чтобы ты была лучше здоровых детей!
Я верила маме во всём и хотела, чтобы исполнилось её желание. Наше желание.
В пять лет я уже не «тряпочка» – я уже немножко напоминала нормального ребёнка. Мама, обеспечивая семью, умудрялась возить меня со старшей сестрой, которую не на кого было оставить, по всем городам и весям нашей необъятной советской родины – по больницам, санаториям и знахаркам в надежде на исцеление.
Отец в моём лечении участия не принимал. Он ни в чём участия не принимал, а жил своей обособленной жизнью, зарабатывал много денег и тратил их на свои мужские удовольствия. В такой ситуации большинство мужчин уходят из семьи – и тогда женщины, поднимающие ребёнка-инвалида, становятся матерями-одиночками. Но отец продолжал жить с нами, со своими жертвами, паразитируя на нашей семье, словно мы были его пищей, его прислугой.
В пять лет я – интеллектуально развитый, живой и смешливый ребёнок. Я научилась ползать. Ползать тогда для меня было всё равно, что владеть какой-нибудь сверхспособностью, такой как телепортация или чтение мыслей. Для того чтобы я могла ползать, мама потратила столько сил, нервов и денег, что «Танечке» был присвоен статус супергероя. Я – «девочка–из–Спарты», всегда коротко стриженная, всегда в колготках, ведь в платье много не поползаешь. А ещё «девочка–из–Спарты» никогда не плачет. Часто суперспособности появляются, когда об этом не мечтаешь и не просишь, но они появляются, и приходится с ними жить.
Ползала я собственным, изобретённым моим телом способом: сначала выбрасывала обе руки вперёд, а потом подтягивала попу. Из-за того, что равновесие удерживала не всегда, часто врезáлась головой в пол. Мне не было больно, но лоб был почти всегда синий от шишек, а колготы на коленях порваны до дыр. Словом, я тянула на жертву жестокого обращения с детьми. Но ювенальной полиции в СССР нет. В СССР и инвалидов нет, поэтому и дела до нас нет, и мама очень поздно узнает, что мне полагается пенсия – шестнадцать рублей в месяц. Щедрость нашего государства не знает границ.
Моя бабушка по материнской линии, которая всю жизнь проработала в колхозе, получала пенсию – тридцать рублей. Я помню, как она просила почтальонку выдать ей пенсию рублями. Бабушку звали Евдокия, баба Дуся, Дуня-тонкопряха (так о ней дедушка пел). Она окончила четыре класса церковно-приходской школы. В колхозе за работу бабуля денег не получала, а когда переехала в город, стала получать пенсию. Зная, что у неё всего тридцать рублей, она поделила их на количество дней в месяце. Так моя хозяйственная бабушка знала, сколько она может потратить в день. Рубль.
Бабушка из «клана» мамы пришла на Алтай пешком из Петербурга. Тогда Столыпин обещал всем землю в Сибири – вот они и двинулись: она и её дедушка Иван Кузьмич. Они шли и просили милостыню, и так дошли. Это ещё одна часть моего семейного эпоса.
Баба Дуся поселилась с семьёй на хуторе и там познакомилась с Васей. Но влюбилась она в другого соседа – Серёжу. И как-то ночью собрала узелок и вылезла ночью в окошко, убежала с любимым. Их поймали, и бабушку тут же выдали замуж за Васю – моего дедушку. Он был кузнецом и завидным женихом, бабушке было четырнадцать лет. Она родила девятерых детей, но в живых остались только шестеро.
Бабушку я беззаветно любила и проводила с ней много времени. Ведь она со мною «сидела». Мне с ней было интересно, она знала неисчислимое количество русских жалобных песен. Мы часто с ней лежали на диване и распевали: «прощался со мной милый», «не быть тебе, дева, замужней женой…», «сказали, милый помер…». От бабушкиных песен у меня – мороз по коже. Они страшные, жуткие своей несчастливой бабской судьбой и при этом затягивающие. Я думаю, от них пошло выражение «затянуть песню» – это песня тебя затягивает и не отпускает, пока не допоёшь.
Бабушку поражало моё умение запоминать всё с первого раза. Ей достаточно было однажды спеть мне песню – и всё, «информация» оставалась в моей голове, поэтому она считала, что у меня в голове спрятан магнитофон. Она часто говорила маме:
– Таня умная, как Ленин!
Помню, как-то она шёпотом доверила мне стишок: «Отче наш, иже еси…». Убедившись, что я всё запомнила, велела его никому не рассказывать.
– Он волшебный? – прошептала я.
– Да. Когда у тебя что заболит, произнеси его потихоньку – и сразу всё пройдет.
– А почему?
– Он про Боженьку. Боженька – это Никола Угодник. Видела его у меня на кухне?
На кухне в буфете у бабушки жил старичок в коробочке с добрыми и печальными глазами. Так я узнала, кто такой Бог.
Бабушка тоже была добрая и печальная. А дедушка Вася – весёлый, всё время смеялся. Он тоже знал, кто такие фашисты, потому что они оторвали ему ногу. Вместо ноги дедушке дали деревянную культю.
Я спросила дедушку:
– А что же ты себе ножку не пришил у доктора Айболита?
– Так я её потерял и не нашёл, – засмеялся дедушка.
На культе он ходить не мог – она натирала ему ногу до крови и валялась под кроватью. Я просила её достать и начинала наряжать в бабушкины платки. Представляла, что она девочка и её зовут Культя. Остальные внуки её боялись, а для меня она – любимая игрушка-подружка.
Ещё у дедушки Васи были серебряные зубы и нос картошкой, как у меня.
Дедушка умер, когда мне исполнилось шесть лет.
Сначала мы все жили в частном секторе, в скромном одноэтажном домике, который отец получил как работник строительного треста. Самым важным объектом в доме была дверь, которая вела из кухни в сени. Она была тяжёлой и массивной – шириной сантиметров десять, обитая внутри и снаружи чем-то утепляющим. Дверь напоминала бастион.
Я часто оставалась с бабушкой, и помню, что она то и дело, в силу своего возраста, хотела вздремнуть, а я играла на полу с ужасными куклами. Меня тянуло на улицу. На солнышко.
За «бастионом» были сени и обычная деревянная дверь, которая не запиралась, вела на высокое крыльцо. Такое крылечко – уродливый гибрид террасы. А вниз – семь ступенек.
За бастионом были деревянные, прогретые солнцем доски крыльца; перила, за которые я могла подтянуться и повиснуть на них; трасса Бийск – Барнаул, по которой мчались машины, особенно фуры. Наш дом стоял рядом с трассой, а ещё у дома находилась колонка, притягивавшая дальнобойщиков заправить канистры водой. За «бастионом» шуршал целый мир.
Если я сидела на крыльце – дальнобойщики мне улыбались, махали рукой, угощали конфетами и пряниками. Я воображала, что, когда вырасту, выйду замуж за дальнобойщика в джинсах и с золотыми зубами.
Но пока я просто хотела попасть на крыльцо, куда меня не пускала бабушка, для которой в силу её возраста дальнобойщики были уже не актуальны.
Помню, я сижу на полу и играю в куклы, а точнее – произвожу над ними зверские манипуляции. Все мои куклы скальпированы, а их глазные механизмы подвергнуты тщательному исследованию. Это увлекательно, но сейчас я только делаю вид, что забавляюсь куклами, на самом же деле чутко жду, когда бабушка начнёт дремать, еле слышно похрапывая.
Дождавшись нужного момента, я тихонько подползаю к двери и там жду ещё несколько минут, не окликнет ли меня бабушка. Если она меня не зовёт, я встаю на четвереньки и начинаю таранить дверь головой. Делаю я своё подлое дело почти бесшумно и не бьюсь в дверь со всей дури. Тут главное – упорство. Я пристально слежу за тем, как щель между дверью и косяком расширяется от каждого упрямого толчка. Иногда останавливаюсь, чтоб передохнуть и послушать, не проснулась ли бабушка. В конце концов бастион побеждён, и я оказываюсь на крыльце.
Солнышко, тёплые деревянные доски, ветерок – я счастлива, но ненадолго: приходит бабушка, уносит меня в комнату, и всё повторяется сначала.
Только мама удивляется, когда возвращается с работы: отчего у меня лоб в синяках? Бабушка рассказывает о моих «подвигах». Мама качает головой. Лоб и правда болит. На несколько дней бастион заброшен.
Когда мне исполнилось шесть лет, мы с мамой впервые поехали в санаторий, чтобы вылечиться, чтобы я стала здоровой и нормальной.
Глава вторая
В санаториях я столкнулась с ведьмой, от которой мне досталось: седая старуха в белом колпаке с золотыми зубами – нянечка. Её звали тётя Валя. Мне кажется, это она хотела съесть всех детей в лесу, в пряничном домике, в мрачной сказке братьев Гримм, потому что пряники были ей не по нраву – она предпочитала есть детей. Когда она улыбалась, мне становилось страшно.
Попасть в вожделенное медучреждение можно было, только дав взятку в горздраве, который распределял путёвки. В ту пору мама работала то кассиром, то диспетчером бийского аэропорта, она могла помочь купить любой авиабилет – дефицитный товар. В СССР билеты на самолёт стоили недорого, но купить их в Москву, или Ленинград, или Сочи было практически невозможно.
Поэтому за авиабилет маме предлагали какой-нибудь востребованный товар: ткань, посуду, продукты. Все эти сокровища она несла в горздрав знакомой тётеньке, а потом волшебным образом на меня в поликлинику приходила путёвка, и мама, прихватив сестру, отвозила меня на лечение. Мне повезло: мама ухитрялась достать путёвку дважды в год, отправляя меня в санаторий: один раз в Барнаул и один раз под Курган. Из-за моей реабилитации семья была лишена многих земных благ: сервизов, сапог, люстр и других приятных сердцу вещей, которые мама бросала на жертвенный алтарь лечения. Меня в этом никогда не упрекали. Разве что вскользь.
Тогда курс лечения в санатории продолжался три месяца, и родители с больными детьми не оставались – такие правила. Поэтому дома шутили, что я еду, как юный Ленин, в ссылку. «Как Ленин» – потому, что наше наивное советское сознание не подозревало о других ссыльных людях.
Конечно, в «ссылках» бывали исключения – «счастливые мамаши», мужья которых работали, и поэтому такие мамочки могли снять квартиру и устроиться нянечками или работницами на кухню, чтобы приглядывать за своими чадами. Но таких «благополучных» было крайне мало. В основном все были, как я – оторванными от семьи один на один с персоналом и сверстниками.
В санаториях я узнала, что больные дети делятся на… ходячих, неходячих и лежачих. Все мы были оставлены на попечение нянечек, воспитателей и медперсонала. Ад был ещё тот. Но меня спасал Боженька. С ним всегда можно было поговорить, и он на меня никогда не ругался. Иногда ночью я рассказывала сама себе бабушкин стишок «Отче наш» и представляла себе дедушку, который жил на кухне в шкафу у бабушки. Представлять маму я боялась, потому что от этого хотелось плакать, а плакать мама не разрешала.
Санаторий – это распорядок дня плюс жёсткое выживание. Нужно всё делать самому – иначе накажут. Именно там я поняла, что колготки нужно надевать двумя швами назад, потому что так обозначается попа. Самым убийственным для меня стали пуговицы и шнурки, поэтому мама старалась покупать мне одежду без них. Со шнурками помогали ребята постарше, а если обуться не смогла, так и ходила в одних колготах.
Всю одежду нужно было подписывать, потому что грязная сгребалась в одну кучу в банный день, а потом её, постиранную, выдавали воспитатели, ориентируясь на фамилии, написанные на подолах, воротниках, поясах брюк и колгот. Если твою одежду «потеряли», то выдавали казённое – то, что осталось от предыдущих заездов. Когда я «потеряла» в санаториях несколько красивых платьев и костюмчиков, мама отказалась от идеи отправлять со мною туда приличные вещи, всё равно я большей частью ползала по голому полу, поэтому гамаши и свитера решали вопрос, во что меня одеть. Ещё меня коротко стригли всегда: во-первых, опасались вшей, а во-вторых, я не умела заплетать косички. Левая рука у меня получилась неудачной и бóльшую часть своих обязанностей саботировала, поэтому из меня вышла жизнерадостная и озорная пацанка.
Первый раз в санаторий мама привезла меня в Барнаул. Старинное купеческое здание, больше похожее на дворец, выглядело солидно и деловито на фоне плоских пятиэтажек. Мы спустились в цокольный этаж. Мне понравились разноцветные бумажки, приклеенные на форточку, – они забавно шуршали от ветра и отгоняли мух.
В цокольном этаже располагалось фойе, заставленное длинными столами и скамейками. Повсюду суетились мамаши с больными детьми, иногда даже попадались папаши. Всех нас по очереди принимал невропатолог, а потом старшая сестра-хозяйка, которая смотрела, нет ли у детей вшей, делала опись вещей, одежды, привезённых с собой. Так происходил заезд в санаторий.
После всего этого незнакомая женщина – нянечка – взяла меня на руки и понесла в «группу». Мама сказала:
– Не надо плакать.
Хотя она сама была готова заплакать: в тот момент я впервые в жизни с ней рассталась и осталась одна среди чужих людей. В шесть лет.
На каждом этаже санатория находились две спальни (одна для мальчиков и одна для девочек), игровая комната, столовая, зал для лечебной физкультуры и туалет. Всё здание было трёхэтажным. Мы были «первой группой», а этажом выше находилась «вторая группа». Ещё выше был этаж, отведённый под школу. Грязелечебница и физиотерапия находились в других зданиях, куда ходячие ходили сами, а неходячих таскали нянечки.
Мы, дети, между собой сразу сдружились, и со сверстниками я редко конфликтовала. Каждый «взрослый» ребёнок старше десяти лет (который мог сам себя обслуживать) награждался «подшефным», ребёнком помладше, которому требовалась посторонняя помощь. «Подшефным» помогали одеваться на процедуры или водили умывать после еды.
Моим шефом в один из заездов стала девочка Зина со светлыми тугими косичками. Ходила она «уточкой», переваливаясь с боку на бок, медленно, но уверенно. Её руки – ловкие, подвижные – быстро справлялись с моими пуговицами, шнурками и колготками, а ещё она умела рассказывать сказки. Нет, не рассказывать – сочинять! Вечерами после отбоя она присаживалась ко мне на кровать, подтыкала одеяло и негромким голосом начинала придумывать про принцесс, их прекрасные наряды, великолепные кареты и умопомрачительных принцев. Её сказки изобиловали множеством подробностей и однообразным сюжетом, я ждала их нетерпеливо, предвкушая время отбоя. Каким-то образом понимая, что Зина сама придумывала сказки специально для меня, я чувствовала себя особенной, чувствовала, как мне повезло с ней.
Основной моей проблемой было то, что я не умела ходить. Мне приходилось перемещаться по санаторию ползком или с помощью нянечек; если не удавалось куда-то доползти самой, то приходилось долго ждать посторонней помощи. Тогда я включала в голове пластинку про принцесс или про Боженьку.
Больше всего мне не нравилось просить нянечек посадить меня на горшок. На горшок могли посадить в любом месте: в «группе», в школе. Среди мальчиков и девочек, и взрослых. Где нянечке удобнее. С меня просто снимали колготы и сажали на горшок, как будто я была существом без пола. Так поступали не только со мной – со всеми неходячими.
Так в пять лет я поняла разницу между мальчиками и девочками. В санатории мы вообще узнавали все прелести жизни быстрее, чем «домашние дети».
Наш культурный досуг сводился к тому, что мы не только рисовали и лепили, нам ещё давали такие методические пособия: специально сшитые имитации петель и пуговиц или дырочек, сквозь которые нужно было продёрнуть шнурок. Ещё нас развлекали мозаиками и конструкторами. Иногда воспитатели читали нам книги. В принципе, советские санатории давали общее развитие и образование детям-инвалидам.
Еда в санатории не отличалась от больничной. Всё, что можно украли, ешь, что дали. Когда я была в Барнауле, мама часто привозила мне что-нибудь вкусненькое. У нас в «группе» стоял холодильник, туда складывались пакеты с фруктами и конфетами, которые привозили родители. Каждый пакет подписывали фамилией ребёнка. Потом воспитатели выдавали нам понемногу каждому из своего пакета.
Однажды в школе на третьем этаже на уроке я захотела в туалет «по-большому». Какать я захотела. У каждого человека есть эти классические истории, когда главный герой описался или обкакался. Все они случаются в детстве, и всем от них немножко смешно и трогательно.
Другое дело – когда вместо конфуза происходит унижение.
Итак, я захотела на горшок и стойко терпела до конца урока, глупая первоклашка. Потом пока позвали тётю Валю, пока пришла тётя Валя… Дело было сделано. И когда тётя Валя явилась с горшком, мне пришлось признаться, что в этом забеге выиграла я:
– Я обкакалась, – сказала я тихонько, надеясь, что никто не услышит, – была перемена, и все дети бесились.
– Что ты сделала? – громко переспросила тётя Валя.
Можно подумать, что эту сцену я содрала из классического голливудского фильма, где злодей нарочно издевается над главным героем и переспрашивает то, что и так понятно, чтобы сильнее унизить. Но как ни странно, вся эта сцена с горшком происходила на самом деле, и я до сих пор не понимаю, зачем немолодой и, может быть, незлой женщине захотелось унизить больного ребёнка. Возможно, она работала в санатории миллион лет, и её уже выбешивали все дети – и здоровые, и больные.
Я озвучила свой позор ещё раз. Так громко, как могла, и заплакала, хотя мама просила всегда быть сильной.
– Ну вот, говнюшка! Теперь мне придётся тебя тащить вниз и мыть! – прошипела тётя Валя, сверкая золотыми зубами.
Класс замолчал и посмотрел на меня. Я не испугалась, мне просто было больно оттого, что кто-то укусил, оторвав частичку меня. Ни за что. Просто так. Я не могла себя защитить, могла лишь заплакать. При всём могуществе взрослого человека тётя Валя не смогла заткнуть мне рот.
Как бывает в традиционных историях, санаторий населяли не только чудовища, но и добрые персонажи. Я помню другую нянечку – кареглазую тётю Таню (почему-то всех нянечек звали тётями и только врачей и воспитателей по имени-отчеству), добрую и проворную. Она работала всегда в ночные смены. Поговаривали, что у неё девочка тоже больная. Почему-то я ей понравилась.
После отбоя, когда по чёрно-белому телевизору, стоящему в нашей группе, начинали показывать «взрослый» фильм, тётя Таня приходила за мной (при этом она заранее заговорщицки предупреждала меня, что придёт, чтобы я не спала), брала на руки, закутывала в одеяло и уносила из спальни в группу. Там она сажала меня, укутанную, как куколку бабочки, на стол перед телевизором, сама садилась рядом. Так мы смотрели фильмы про Чапаева и другую героическую фантастику тех лет. В такие моменты я чувствовала себя взрослой и избранной, ведь остальные дети оставались в спальне. С этим сладостным чувством я засыпала на середине фильма.
Ещё помню воспитательницу Зою Петровну – полноватую, миловидную. Мы были на прогулке. Стояла сладкая осень. Неожиданно приехала мама. Я, считаясь «неходячей», сидела вместе с подобными мне на лавочке. И вот мама просит Зою Петровну, чтобы та разрешила ей погулять со мной возле детской площадки. Воспитательница разрешает, хотя мама приехала в неположенное для свиданий с родителями время.
Мы с мамой гуляем возле детской площадки. При этом я повисаю на её левой руке, но довольно уверено перебираю ногами. Ходить сама я не могу – теряю равновесие, – а зацепившись за маму, становлюсь прямоходящим приматом.
Мне уже семь. Наш обычный разговор, который будет повторяться миллион раз: «Ты хорошо кушаешь? Тебя не обижают? Надо ходить на все процедуры!» Потом мама оставляет меня и пакет с фруктами и конфетами на совесть Зои Петровны и, сдерживая слезы, спешит на автобус в Бийск. А в голове моей воспитательницы происходит взрыв! Оказывается, Таня Трушова может ходить – кривовато, с поддержкой, практически повиснув на своём «ведущем». Но может! И Зое Петровне не всё равно!
После того случая она начинает меня «выгуливать». При этом мы с ней о чём-то беседуем, я отчего-то вызываю у неё симпатию до такой степени, что Зоя Петровна начинает меня «подкармливать», принося домашние пирожки, конфеты, – словом, всё то, что делает ребёнка в санатории чуточку счастливее. Всю домашнюю контрабанду, завёрнутую в газету, воспитательница оставляет под моей подушкой, и после отбоя я сладко шуршу сокровищами под завистливые взгляды и перешёптывания соседок. Мне завидуют недолго – я умею делиться.
Потом мама узнала ещё об одном санатории в Курганской области – «Озеро Горькое». Железнодорожная станция, до которой нужно было доехать, называлась Алакуль. Мы поехали туда на «прямом» поезде без пересадок втроём: мама, сестра и я. «Озеро Горькое» имело статус санатория всесоюзного значения, но поезд на станции стоял одну минуту. Родителям с детьми-инвалидами приходилось спрыгивать на платформу за эту одну минуту. С вещами.
Мама была прыткой и бесстрашной – мы как-то ухитрялись «выгрузиться», «выкинуться» из поезда вместе с чемоданами. Потом шли на крохотный вокзальчик и долго сидели, ждали, пока из санатория придёт специальный ПАЗик и заберёт прибывших на лечение. Автобус ходил два-три раза в день, по расписанию в дни заезда – видимо, к приходу поездов. От самой станции санаторий находился в десяти километрах, и обычный транспорт там попросту не ходил. Несколько раз мама с сестрой не успевали на этот ПАЗик и шли обратно пешком, сдав меня медперсоналу. Конечно же, гостиницы для родителей в санатории всесоюзного значения не было.
В Барнаул и в «Озеро Горькое» мама возила меня каждый год до тех пор, пока мне не исполнилось четырнадцать лет. То есть всё это время – с шести до четырнадцати – я по полгода не жила дома.
Можно воспринимать санаторский быт как трагедию, но благодаря тому, что маме удавалось за взятки доставать путёвки и отправлять меня лечиться, я научилась самостоятельности, смогла лучше передвигаться и обслуживать себя.
«Озеро Горькое» было большим санаторием. Длинное прямоугольное двухэтажное здание. Много групп, разделённых по возрастному признаку. Первый раз я попала в младшую группу. В «Озере Горьком» тоже были грязелечебница, водолечебница, физиокабинет. Всё это было разбросано по территории и находилось далеко от жилого корпуса. Нас, неходячих, возили на знакомом уже санаторском ПАЗике. Загружал нас в него вечно пьяный грузчик дядя Лёша, он всегда ходил в огромных сапогах, как кот из сказки. Дядя Лёша – добрый, хитро улыбающийся. Мы его обожали. Он закидывал нас, «маломобильных», в ПАЗик, а потом выкидывал возле грязелечебницы или физиокабинета. За всё время пьяный дядя Лёша не уронил ни одного ребёнка.
В «Горьком» случилось первое чудо в моей жизни. В плане реабилитации. Невропатолог Мансур Нургалиевич показал мне устройство, которое сравнимо с современными ходунками. Удивительная конструкция представляла собой полуовал с довольно длинными поручнями, сваренными из металлических труб небольшого диаметра. Сбоку имелись бортики, на которые я могла навалиться, повиснуть всем телом и держаться руками. Всё это чудо было оснащено колёсиками. Гениальное изобретение неизвестного «кулибина»!
Повиснув на «ракете» (так я её про себя называла), я могла перебирать ногами и передвигаться самостоятельно. «Ракета» вызвала у меня восторг и бурю эмоций. Теперь вечерами после ужина (мы проходили все процедуры до обеда, потом был тихий час, потом школа, потом ужин), когда начинались игры с мозаиками, шашками, шахматами и прочей дребеденью, я «гоняла» на своей «ракете» по длинному, как казалось в детстве, коридору. Метров сто или сто пятьдесят в одну сторону, затем разворот и обратно. Я упоённо «гоняла» по нему, пуская слюни от удовольствия.
До «Горького» мама доехать с передачей, конечно, не могла. Вся дорога туда и обратно занимала пять дней. Поэтому из дома мне приходили посылки и письма. В санатории предусматривался специальный «посылочный день», который мы все ждали.
До «ракеты» в «Горьком» меня впервые в жизни посадили в инвалидную коляску, принадлежащую санаторию, – довольно громоздкую и страшную. Управлять этим устройством самостоятельно я не могла, ведь у меня рабочая рука была только правая, крутить колёса самой не получалось. Поэтому я стала подшефной: меня прикрепили к мальчику Руслану из Ташкента. Оба смуглые, кареглазые, черноволосые и хохочущие, мы сходили за сестру и брата, жили в одной группе, нам было по семь лет. Руслану вменялось в обязанности возить меня по главному корпусу, когда наша группа двигалась в столовую или игровую, сомкнув ряды. Катал он меня на монстре советской промышленности довольно охотно, я бы даже сказала с азартом. Руслан был здоровый мальчик, но «ослабленный»; его родители за взятку купили ему путёвку в санаторий – подлечиться.
Однажды, когда группа собиралась на прогулку и все дети уже ушли с воспитателем, я задержалась – никак не могла застегнуть пуговицу на меховой шапочке. Задержался и Руслан – ведь ему нужно было везти меня на массовые гулянья. Пуговица упрямо не хотела застёгиваться. В это время подошла нянечка и стала мне помогать. И вдруг Руслан меня поцеловал в щёку – неожиданно, по-детски открыто и совершенно не смущаясь.
– Руслан, что ты делаешь?! – воскликнула я.
Он засмеялся.
– Наверное, ты ему нравишься, – предположила нянечка. Она уже одолела пуговицу и, улыбаясь, смотрела на нас.
– Да, я же тебя люблю! – радостно сказал Руслан.
Чистая детская душа – всё просто. Вот трава. Вот солнце. Вот любовь.
– Я тоже тебя люблю, – ответила я совершенно искренне и удивилась: мир такой большой и прекрасный!
Скоро все в группе знали о нашей любви – воспитатели и нянечки улыбались, никто не осуждал и не говорил, что наше поведение плохое. Руслан очень ревниво относился, если кто-то другой возил меня на коляске. Помню, как однажды меня в столовую повёз другой мальчик, – тогда они чуть не подрались. Мы с Русланом ещё пару раз по-детски целовались.
Сейчас я думаю, что настоящая любовь даётся людям с чистой детской душой, потому что такого потрясающего мужчину, как семилетний мальчик из Ташкента, я больше в своей жизни не встречала.
Как и любому нормальному ребёнку, мне были доступны свои радости, горести и страхи.
В детстве я мамина любимая дочка. Девочка-цветочек. Капелька. С безусловным правом на её любовь. Но по мере того, как мы ездим по санаториям, а я становлюсь старше, мама заражается вирусом исцеления – она верит, что исцеление всенепременно, как обетование, как крупа с неба придёт. Моё исцеление. Тогда я многого не понимаю и многому верю. Маме – безоговорочно. Так из девочки-цветочка я превращаюсь в «девочку–из–Спарты».
Для меня начинается период пыток.
– Ты сделала зарядку? Тебе же показывали на ЛФКа в санатории! Чем ты занимаешься целыми днями?!
Она не замечает, как кричит на меня, потому что так они всегда на протяжении долгих, как сибирские реки, дней и ночей, всегда-превсегда кричат друг на друга. Папа и мама.
А чем я занимаюсь вместо зарядки? Обычным детским ничегонеделанием. Я достаточно умна, чтобы, учась на дому, практически не учиться. Всё, что говорят учителя на уроках, прочно и без усилий оседает в моей голове. Карие глаза не по годам умной девочки лукаво горят. Я так хочу оставаться девочкой-цветочком, динь-дон!
Этот цветочек хочет играть в любимые игрушки: машинки, пистолетики, конструкторы. Мой бог, как я любила конструкторы! Я была конструкторозависимой. Все мои достижения – возведённые башни, подъёмные краны, машинки и танки, собранные из кирпичиков и деталек, – я гордо демонстрировала маме.
Она не была безучастной, она меня хвалила. Но на уме у мамы были китайские пытки. Много-много китайских пыток.
Если вам показывают ребёнка, с восторгом занимающемся ЛФКа:, – либо вас обманывают, либо это не человеческий детёныш.
Мама вываливала передо мной бочонки лото и заставляла складывать левой больной рукой в мешок. Долбаные коричневые пластмассовые бочонки! Целых девяносто штук! Как же я их ненавидела! Моя левая рука так и не разработалась, так и не стала счастливой нормальной рукой. Бог пошутил, и ожили лишь те клетки мозга, которые отвечают за мою правую руку.
Но это не аргумент, потому что я слышу до сих пор и буквально:
– Ты плохо старалась.
Этот шлейф вины будет тянуться за мной долгие годы, пока я, став взрослой, не пойму сущность своего заболевания: ДЦП не лечится.
Мама осознать «неисцеление» не сможет никогда. Она всегда будет мечтать, чтобы я стала здоровой, «такой-как-все».
Девочка-цветочек многого не понимает, но точно не хочет быть девочкой-из-Спарты. Она убегает в книжки и своё воображение, пока папа-чудовище кричит на маму-жертву. Сестра то ли плачет на своей кровати, то ли учит что-то – я не уверена ни в том, ни в другом.
После лото я обязана собирать пуговицы в шкатулку. Затем приходит черёд мозаики – сложи три цветочка. Три ромашки непослушными спастичными2 пальцами. Под занавес – приседания как апофеоз пыточной системы. Не десять и не двадцать – их должно быть как минимум пятьдесят, а лучше сто. При этом никто из родителей не соорудил в нашей большой квартире хотя бы шведскую стенку. Никто не хотел заниматься ЛФКа вместе со мной. «Девочкам-из-Спарты» нельзя помогать.
Папе было некогда – чудовищам несвойственно заботиться о детях или жёнах. Мама работала на двух-трёх работах, чтобы прокормить себя, сестру и меня и отвезти меня (неблагодарную) в санаторий.
Какой немыслимый ужас: я не стала Павкой Корчагиным и Александром Мересьевым, я плохо тянула на Зою Космодемьянскую. Из меня не получились гвозди, как мечтал Николай Тихонов. Мой первый смертный грех состоял в том, что я была «девочка-цветочек». Какой ужас!
Ключевое слово – «была».
Мамин фанатизм и жернова санаториев перемололи хлипкие травинки детства – я стала спартанкой.
Глава третья
В семь лет я «пошла» в школу. Об инклюзивном образовании мы с мамой даже не мечтали, поскольку для детей-инвалидов советское государство предлагало только надомное обучение. Сначала полагалось пройти комиссию и доказать, что я обучаема.
Помню, как мы поехали на «собеседование». Мама обрядила меня в красно-синее платье-шотландку и повязала нелепый бант, норовивший свалиться с коротких волос. Помню, как она долго несла меня на руках от автобусной остановки, как мы мучительно долго сидели в коридоре. Новые шерстяные колготы раздражённо чесались. Мама взволнованно инструктировала меня:
– Ничего не бойся и не торопись, главное – говори спокойно, чтоб тебя все поняли.
Я улыбалась и кивала. Представить грозные вопросы комиссии я не могла, но волнение мамы передалось мне. Однако девочка-из-Спарты была слишком наивной и жизнерадостной, чтобы испугаться, и, когда нас пригласили в кабинет, стала охотно отвечать на вопросы, совершенно забыв о своей нечленораздельной речи.
Вопросы были глупыми:
– Как тебя зовут?
– Таня Трушова.
– Это какой цвет?
– Красный.
– Сколько будет пять плюс два?
– Семь….
Происходившее воспринималось довольно сюрреалистично, но мы с мамой совершенно не хотели учиться во вспомогательной школе. В санатории я однажды видела девочку, ей было десять лет – в её учебниках жили ягодки и птички. Поэтому на дурацкой комиссии мы с мамой бились за первую социальную ступень – среднее образование. Мы победили – облечённая властью комиссия постановила: ко мне на дом будет ходить учительница начальных классов. Комиссию пришлось проходить ещё и потому, что ДЦПшники часто бывают умственно отсталыми. Мой интеллект сохранился. Повезло.
Наша семья жила в нагорной части Бийска – окраине города. Район назывался «витаминка». Вокруг простирались первозданная земля, на которую ещё не ступила нога садовода-захватчика. Городской транспорт сюда не ходил, сюда и Макар телят не гонял. Моя сестра ходила в школу пешком – два километра туда-обратно. Ко мне на дом, на «витаминку» – забытое богом место – учительница вряд ли бы стала ходить регулярно. Так перед мамой встал жилищный вопрос.
Мой отец к тому моменту окончательно превратился в зомби. Навсегда. Он только и делал, что покупал зелье и питался матерью. Внешне отец ещё не потерял человеческий облик. Даже ходил на работу и зарабатывал вполне приличные деньги. С семьёй своими баснословными заработками он не делился: тратил всё исключительно на свои собственные нужды. Прежде всего на любимое зелье – водку, затем на водку, и снова на водку. Вокруг него всегда кружила стая собутыльников. Отца часто не было дома, а когда он являлся домой «вечно молодой, вечно пьяный», то принимался откусывать «куски плоти» от моей матери. Делал он это упорно и безжалостно до тех пор, пока она не начинала «истекать кровью». Сначала мама упорно молчала, слушая его пьяный зомбический бред из слов, которые кромсали, как бритва. Потом теряла терпение, выходила из себя, кричала и истекала кровью, как тысячи других женщин на её месте, как все жертвы зомби-алкоголиков. От зомби нельзя защититься. От них можно только убежать. Или убить их.
Искромсав мать до полубессознательного состояния, отец заваливался спать. Мама никуда не могла сбежать – жилья не было, на квартиру с больным ребёнком не пускали. Она не могла убить отца – есть люди, которые не могут убить, даже если гибнут сами.
Так продолжалось изо дня в день до тех пор, пока мама не осознала два факта. Первый: мне пора в школу, и из нашей хибары нужно куда-то выбираться. Второй: оказывается, мне, как ребёнку-инвалиду, положено благоустроенное жильё.
Тогда-то мама узнала, что есть женщина, которая «сидит на квартирах» и берёт взятки. В эту сторону потекли молочные реки и кисельные берега. Все те дефицитные артефакты, за которые мама «доставала» путёвки в санаторий, теперь переправлялись к «квартирной тётеньке». Мама была настойчивой, тётенька – жадной. Словом, все эти танцы с волками, с жилищной комиссией закончились получением ордера на однокомнатную квартиру, на восьмом этаже девятиэтажки. Лифт, конечно же, ни разу не работал.
Вот, казалось бы, шанс для окончательного триумфального бегства от чудовища: мама, сестра и я переехали в «благоустройку», отбив у отца немного неказистой мебели.
В «небесной квартирке» мы прожили почти год.
Отец испугался потерять своих жертв, испугался остаться один и утратить остатки своей личности. Он совершил невозможное и перевёз нас в трёхкомнатные хоромы, объединив свою неблагоустроенную халупу и нашу благустроенную однушку. При этом он доплатил какие-то бешеные деньги и нашел 80-метровую квартиру на первом этаже (чтобы Танечке было удобно гулять) в приличном районе.
Мама купилась. Ей хотелось пожить в хорошей квартире. Отец обещал измениться. Не кусаться, не пить, обеспечивать. Мама поверила. Квартира превратилась в мышеловку.
Мы переехали. Хоромы стояли полупустыми – оказалось, что у нас мало мебели, – и соблазнительно отдавали гулким эхом необъятности. Позже прямо на побеленных стенах сестра будет рисовать дивных сказочных персонажей, срисовывая их с советских открыток, мама будет выбивать советскую мебель, ковры, хрусталь – все прелести обычной жизни, а папа будет оставаться зомби: он будет всё так же пить, нападать на маму и тратить зарплату на себя, любимого, правда, теперь в собственной отдельной комнате, что создаст иллюзию мнимого благополучия. Зверь затаился…
Житейских проблем я тогда не могла постигнуть – они шли мимо меня, по касательной. Тогда «девочка-из-Спарты» снаружи, но девочка-колокольчик внутри нашла свою дорогу. Сначала дорога была лишь едва заметной тропинкой в белохалатной, врачебной череде моих будней, когда наша прекрасная семья переехала в хоромы на улицу Мерлина. Кстати, Мерлин оказался не волшебником, а боевым большевиком-офицером. Здесь я впервые открыла портал в другой мир.
Моей тропинкой, моим спасением, моим убежищем стала библиотека.
Она притулилась в соседнем доме на первом этаже длинной девятиэтажки, которую мы прозвали «клюшка». Тогда город изобиловал библиотеками и другими очагами культуры, особенно в приличных районах. Мама обожала читать и молниеносно записала меня в библиотеку.
Я бегло читала лет с пяти, но дома обитало штук десять книг, выученных наизусть. Часто я прижимала их к груди, как лучших друзей. В библиотеке у меня случился взрыв мозга. Я не подозревала, что книг может быть так много, все они казались мне прекрасными, и каждую я жаждала прочесть. Поскольку дворец книг располагался в шаговой доступности, мама или сестра водили меня в него, и я самолично выбирала сокровища.
Мне понравилась библиотекарша Валентина Васильевна. Она выписала читательский билет – звучало волшебно – и выдала одну книгу. По законам библиотекарского мира читатель сначала доказывал свою ответственность к переплетённым реликвиям.
– Прочтёшь и выберешь новую книгу, – ласково сказала Валентина Васильевна. – Книги мы выдаём на десять дней.
Дальше началось сплошное волшебство. Никакие конструкторы, никакие мультфильмы – ничто не могло сравниться с удовольствием читать. Я влюбилась в тексты, каждая буква казалась объёмной, 3D-шной, каждый персонаж – живым, каждое слово – персонажем. Раньше я не подозревала, что существует так много слов и насколько они магические.
До времени, когда я начала писать свои тексты, было ещё очень далеко. Да и в тех книгах, которые я читала «запоем», я мало что понимала.
Никогда не любила сказки про вундеркиндов, которые сочиняют с трёх лет, в пять понимают Дон-Кихота и покоряют небоскрёбы университетов в двенадцать.
Я испытывала физическое наслаждение от процесса чтения, от возможности убежать в другой мир, с красноармейцами, фашистами и партизанами. В страшные немецкие сказки братьев Гримм, в сладкие непонятные тексты Шахерезады, в холодные истории сдержанной шведской тетеньки – мамы Карлсона – и, конечно, в Пушкина.
Все книги рождали вопросы, на которых не было ответов.
Почему витязи выходят из воды?
Как дяденька живёт с пропеллером? Дяденька с пропеллером – карлик? Дяденька-карлик с пропеллером, который бомж?
Почему странная английская девочка упала в дыру, стала бегать за кроликом и жрать всё подряд?
У меня – ребёнка истории боевых партизан-разведчиков и других советских героев вызывали больше уважения, чем странные поступки странных персонажей. Удовольствие от сказок я стала получать, став молодой женщиной.
Впрочем, понятности и непонятности не имели большого значения, потому что я до умопомрачения влюбилась в тексты, и библиотека стала моим храмом, моей Меккой, моим святилищем.
Когда я наконец научилась потихоньку передвигаться по улице самостоятельно, то начала ходить туда каждый день. Я подружилась с библиотекаршами. Хорошо помню одну из них – Елену Сергеевну, жену офицера, которую нелёгкая занесла в Бийск. Я ходила к ней поболтать о жизни. Странно, но все тётки-библиотекарши любили общаться со мной. Жалели девочку-инвалида, наверное.
Кроме библиотекарш в моей жизни появились учительницы.
Не люблю, когда их называют училками, – в моём идеальном детстве учителя воспринимались как полубоги, к ним относились с уважением и почтением.
Мою первую учительницу звали Алевтина Николаевна. Она приходила ко мне два раза в неделю. Алевтина Николаевна пахла сиренью. Очень поразилась, что я уже умею читать, знаю цифры, сложение и вычитание. Мы с сестрой постоянно играли в «школу», и Леночка обучила меня «грамоте».
К первому классу я прошла «подготовительную школу» с помощью сестры. Единственное, чего я не умела, – писать. Только печатными буквами и медленно. Писать я ненавидела. Злилась на скользкие ручки и карандаши, которые не подчинялись моей спастичной правой руке. Буквы, я так любила вас читать и так возненавидела вас писать!
На «уроках» я внимательно слушала Алевтину Николаевну. Я всегда внимательно слушала учителей. Если внимательно слушать, можно сэкономить время, не зубрить и слыть отличницей, не прилагая особых усилий. Просто на следующем уроке я пересказывала то, что мне излагали на предыдущем, плюс демонстрировала неподдельный интерес к какому-нибудь факту.
Моё любопытство и отличная память создавали у педагогов иллюзорное представление обо мне как о прилежной девочке, которая долго и упорно готовится к урокам. На самом же деле я только и делала, что читала библиотечные книжки.
Выводить на бумаге буквы я терпеть не могла. А у моей мамы был пунктик по чистописанию, поэтому русский и математика стали для меня дополнительной пыткой, вдобавок к гимнастике. Мама была неуклонна и неумолима. Если я делала помарку, она выдирала лист и заставляла всё переписывать. Таким образом, тетради худели, но к ним добавлялись новые листы – мама отгибала скобы и вставляла в середину чистые. А когда моя писанина переваливала за половину тетради, мама её сшивала и расшивала, сшивала и расшивала.
К слову, в санаториях, где я пребывала с сентября по ноябрь и с января по март, отличницей я совсем не считалась. Всё из-за того же чистописания. А в целом обучение мне нравилось – я любила учиться, и люблю до сих пор.
После четвёртого класса вместо одной учительницы я получила целю обойму преподавателей. В этом плане моя система образования ничем не отличалась от обычной средней школы. Каждый день у меня был урок – моя жизнь стала более разнообразной. Плохих учителей я не встретила – все интересно рассказывали о своих предметах, о своей жизни и относились ко мне с симпатией. Прилежную девочку педагоги любили. Некоторые даже хотели повлиять на моё мировоззрение.
Однажды учительница геометрии увидела на мне крестик.
Я думаю, бабушка принесла его из храма. Она иногда ходила в храм. До этого случая я носила крестик постоянно под одеждой. Даже в санатории, я помню, никто не обращал внимания. Крестила меня мама, мы с ней окрестились в один день.
Мне не было и года, когда мама пошла в храм. Там священник спросил её, крещёная ли она сама. Мама ответила:
– У нас в селе был храм. Его построил мой прадед. Потом, после революции, большевики его разрушили. Некрещёная я…
Священник оттопырил карман и сказал:
– Давай три рубля.
Так нас с мамой окрестили.
В тот злосчастный день на уроке геометрии крестик неожиданно выскользнул из-под ворота платья и явил себя миру, то есть учительнице.
Сие очень возбудило её, и она, вроде как бы желая застегнуть верхнюю пуговку у меня на платье, ловко подхватила латунный крестик на чёрной верёвочке и спросила:
– А что это у тебя?
– Бог, – честно ответила я.
Мы снова переключились на прямые и косые углы. После я ничего не сказала маме – а что такого?
На следующем уроке учительница геометрии принесла мне книжку, далёкую от изучения пространственных структур. Книжка была с картинками про пионеров и про вред ношения нательных крестов.
– Вот, почитай, а на следующем уроке мы с тобою про это поговорим.
– Хорошо, – согласилась я, не чувствуя подвоха.
Почитала и показала домашним.
Мама разозлилась, бабушка начала упрашивать крестик снять:
– Люда, снимите от греха подальше, а то заклюют девчонку!
Я заплакала.
В результате мы сняли крестик и убрали распятие, которое хранилось у нас в серванте «от чужих глаз». По настоянию бабушки – она боялась. Её деда и отца сослали на «беломорканал» за строительство маленькой деревенской часовни. Бабушка испугалась учительницы геометрии.
Красивую книжку про пионеров мама взяла и пошла в школу. На следующей неделе преподавать плоскости и фигуры ко мне пришёл стеснительный молодой человек, выпускник педвуза.
На почве школы у меня было два «помешательства».
Первое – я хотела носить школьную форму. У всех она была – ужасная, коричневая, колючая и неудобная, да ещё с черным фартуком – эстетический кошмар всех советских детей и моей сестры. А у меня её не было, и я её вожделела.
Когда Леночка по утрам собиралась в школу, я с завистью смотрела на её «наряд» и так хотела выглядеть, как сестра. Постоянно думала о том, чтобы моё надомное обучение хоть как-то стало похожим на обычную школу. Благодаря телевизору я знала, как выглядят классы, как дети бегают на переменах – веселятся и кричат. Всё это я не могла получить, и мне хотелось хотя бы школьную форму.
Конечно, с житейской практической точки зрения она была нафиг не нужна, потому что школа не обязывала учеников-надомников носить форму, она стоила недёшево, и её нужно было каждый год покупать новую. Словом, так мне её ни разу и не купили, но перед уроком я часто мечтала о школьной форме. В санатории дети в школу носили гамаши и свитера – что было, то и носили. Никто не заморачивался.
Второй моей навязчивой идеей было желание вступить в пионерские ряды. Я фанатела от книги и фильма «Тимур и его команда», а ещё в санатории всем повязывали красные галстуки и ставили на торжественные линейки. Вдобавок к этому в группах проводили час политинформации, нам читали вслух пионерскую газету про буржуинов-империалистов и советских соколов. Тлетворное влияние извне сделало своё чёрное идеологическое дело. Дома я заявила в ультимативной форме, что «иду в пионеры».
Мама отговаривала, но если Танечка что-то вбивала себе в голову, капитуляция была наилучшим исходом. Кстати, когда мама хотела стать комсомолкой, бабушка её просто сильно выпорола.
Помню, как учила пионерскую клятву:
… перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин…
Потом пришли классная руководительница и четыре испуганных ребёнка – мои одноклассники, которые прежде никогда не видели девочку-инвалида.
Я разволновалась, и, когда читала клятву, думаю, никто не понял ни слова. Мне повязали галстук, и все мы стали пить чай с маминым печеньем. Дети лопали сладости и могли уткнуться в чашки, испытав огромное облегчение оттого, что могут не смотреть на меня. Потом все ушли, и больше я своих одноклассников не видела.
Своё детство я воспринимала как идеально-счастливое. Не страшное. Не трагичное. Оно светлое и радостное. Оно понятное. Школа и книги. Мама и сестра. Скоро я вылечусь и стану «такая-как-все». Нормальная. Как и мечтали мы с мамой.
Глава четвёртая
Сестра Леночка старше меня на четыре года. Мы совершенно не похожи. Леночка – замкнутая и импульсивная, а я – общительная. Прежде чем отрезать – всё перепроверю семьсот пятьдесят пять раз и вынесу всем мозги.
Однажды мама купила сестре пижаму: брючки и кофточку. Обнаружив обновку, Леночка тут же надела её и отправилась к маме на работу в центр города. Пешком. Конечно, все мамины сослуживцы, увидев восьмилетнего ребёнка в таком виде, попáдали со смеху.
Мне кажется, «пижамная история» ранила сестру, но все её эмоции прятались в потаённых местах. Внутри Леночки хранилась коробочка, коробочка – в ларчике, который запирался на ключик, а ларчик – в сундучке. Её чувства скрывались так глубоко, что до них невозможно было добраться, и вместе с тем они всегда лежали на поверхности. Сестра прятала их от себя. Она прятала всё плохое, что происходило с ней, или то, что она воспринимала как плохое.
Когда я была ребёнком, Леночка постоянно возилась со мной. Она научила меня читать, считать и писать печатными буквами. Прописи мы с ней так и не одолели. Мои спастичные руки забастовали. Мы играли в девчачьи игры. Потом, когда меня стали отправлять в санаторий, мы скучали друг по другу. Она приезжала с мамой навестить меня в Барнаул.
В школе у неё появилась склонность к рисованию. Вернее, Леночка могла скопировать любую картинку.
В то время почтовые письма были на пике популярности. Все со всеми переписывались. Я обзавелась подружками по переписке из санаториев.
Леночка отправляла мне послания из дома. Каждое письмо она щедро украшала героями из мультфильмов и сказок. Так сестра хотела поддержать меня, посылая капельку тепла из дома. Её цветные рисунки являли собой шедевры!!! Они становились предметом зависти моих одногруппников. Сейчас я жалею, что не сохранила эти нетленки, эту бесценную роскошь нашего детства. В санаторий Леночка писала под диктовку мамы. Мама крутилась как белка в дурном колесе жизни. Так сложился наш семейный эпистолярный жанр: слова матери + рисунки сестры.
Я в ответ сочиняла послания совершенно дебильного характера. Все они начинались одинаково:
Привет из города такого-то!
Пишет вам ваша дочь Таня!
Как будто они не знали, кто им написал и кем я им прихожусь.
Дальше шёл длинный список вкусностей, который мог придумать только ребёнок, находящийся вне семьи и вечно хотящий жрать:
Дорогая мама, у меня всё хорошо. Пришли мне, пожалуйста…
Пять или десять наименований сладостей, которые видела у других детей. Я перечисляла абсолютно всё, что попадало в поле моего зрения: кукурузные палочки, мармеладки, зефирки, ириски «Золотой ключик», сгущёнку и многое другое, что присылали другим детям.
Конец писем тоже был стандартным:
У меня всё хорошо. Я хожу на все процедуры.
Целую. Таня.
В ответ я получала тоже стандартные письма: «Как ты себя чувствуешь?», «Мы скучаем», «Скоро приедем».
Несмотря на всю незамысловатость содержания, писем ждали с нетерпением обе стороны, словно мы жили в условиях Второй мировой войны и обменивались заветными треугольниками. Я в санатории внутренне подпрыгивала и делала кульбит, когда воспитательница говорила: «Трушова, тебе письмо».
Когда же я приезжала из санатория, мы с сестрой дня три жили мирно, обнимались-целовались, а затем начинались наши разборки.
Помню, как мне хотелось почитать Леночкин учебник по биологии. Зачем он мне сдался, я не знаю. Там красовались прикольные картинки с цветочками. В ответ на мою просьбу сестра сказала: «Ты дура и ничего не поймёшь».
Между прочим, «дура» в переводе с латыни означает не «глупая», а «смелая». Древние римляне называли своих современниц dura-femina.
Леночка засунула учебник на верхнюю полку книжного шкафа, откуда я ничего не могла достать. В наказание за вредность сестра была немедленно укушена за руку (я тогда только ползала, но кусалась молниеносно, как дитя гадюки), а она, в свою очередь, тут же отвесила мне звонкий подзатыльник. Тема была исчерпана. Родители ничего не знали. Мы никогда не стучали друг на друга. Примерно в таком режиме мы с ней жили.
Леночка владела не только «миниатюрными формами живописи». Наша большая трёхкомнатная квартира из-за отсутствия мебели изобиловала пустыми стенами, и сестра могла нарисовать что-нибудь монументальное. Комнаты, побеленные папиным секретным составом (в результате чего известь не осыпáлась и не оставалась на одежде), просто взывали к росписи. Поэтому Лена могла найти интересную открытку, например «Царевна-лягушка убивает своего сына», и, вооружившись гуашью, украсить подобной картиной одну из стен нашей комнаты.
Благодаря таким проявлениям её живописного гения мы жили среди бабочек, сказочных принцев, оленят и цыганок. Я стала искренней поклонницей её таланта.
Мама отдала Леночку в художественную школу, но сестра вскоре бросила её. Я прекрасно понимала Лену: за три месяца ей разрешили нарисовать лишь несколько кубиков, шар и синий кувшин. Преподаватели не оценили размаха её творческой натуры.
Хотя Леночкина учительница из художки приходила к нам домой и просила маму, повторяя такие слова, как «Уговорите! Способности! У нее прекрасно получается!», моя сестра упёрлась рогом и бросила художественную школу.
Checkpoint. У нас есть общее: мы обе упрямы.
Кроме живописи, сестра любила убираться в квартире. Как только мама уходила на работу, а Леночка приходила из школы, мы с ней начинали «наводить порядки». Меня она тоже приучала к общественно полезному труду. Я вытирала пыль, сама она намывала полы, а потом мы торжественно шли на кухню готовить ужин к приходу мамы. На кухне я была незаменимым помощником, потому что помнила наизусть все рецепты, все последовательности приготовления блюд и всегда знала ответ на самый важный вопрос всех времён и народов: «солила – не солила».
Я самостоятельно не готовила еду. Мне никогда не разрешали пользоваться ножом, ножницами и другими колюще-режущими предметами. Мама и сестра дико боялись, что я поранюсь из-за моего ДЦП. Я обижалась, но не протестовала. В детстве мне была недоступна эта форма гражданской активности.
Когда мне исполнилось лет двенадцать, я жадно ждала, когда все уйдут из дома, и начинала хулиганить на кухне. Например, я научилась включать газовую конфорку. Для этого сначала зажигала спичку и клала её на конфорку около сопла, а потом пускала газ. Когда он загорался, то ножом убирала горящую спичку, чтобы на конфорке не оставалось следа. Потом я осторожно двигала спичку ножом к краю плиты, где могла её извлечь и выбросить в ведро. Конечно, сначала я научилась зажигать сами спички, которые брала у курящего отца, а у него спичек было видимо-невидимо.
Такой способ пользоваться газовой плитой казался мне максимально безопасным. Но когда я показала его маме – у неё была истерика. Она сказала, что я спалю себя, квартиру, дом, всю планету, и категорически запретила мне подходить к плите.
Мама уходила на работу – я продолжала в своём духе.
Потом я научилась жарить яичницу. Это тоже оказалось довольно весело, поскольку рабочая рука у нас с Богом получилась только одна. Я намастрачилась потихоньку стучать сырым яйцом о ребро сковороды, чтобы оно слегка треснуло, а потом уже выдавливала его на дно. Было некрасиво (поскольку желток раздавливался и терял свою божественную круглую форму), но вкусно. Я собой безумно гордилась.
Следующим этапом стала «дрессировка» картофеля, так как он был основным продуктом нашего семейного рациона. Оказалось, что его необходимо чистить. Ножом. Блюда из нечищеного картофеля, например картофель в мундире, я не признавала кошерными.
Картофель можно почистить двумя способами. Первый – отварить в кожуре и почистить рукой, тогда нож не нужен. Но это было как-то не комильфо. Поэтому я решила научиться чистить сырой картофель. «Человеческим способом» я этого сделать не могла из-за левой руки: скользкая картофелина падала в раковину, и я часто резала себе пальцы. Но однажды меня осенило: я взяла тёрку и стала на ней сдирать кожуру картофеля.
Так у меня получилась чистая картофелина, правда, с неровной поверхностью. Вот такой экстравагантный способ почистить картофель я изобрела. Мои способы готовки были инвестициями в будущее. Ведь я жила с сестрой и мамой – моими «кормящими матерями». Словом, мои кулинарные усилия тогда, когда они во мне зарождались, не были востребованы. Кстати, почистить морковь оказалось гораздо легче из-за её продолговатой формы.
Меня «отпустило», когда я доказала себе, что смогу зажечь газовую плиту и приготовить элементарное. Я не останусь голодной! Поэтому я как-то охладела к кулинарии и прекратила издеваться над продуктами.
Сестра очень любила готовить. Особенно ей рвало крышу от выпекания тортов. К нам часто заходил такой персонаж, как Саша Артемьев, который учился в моём классе, – наши мамы приятельствовали. Саша был нестандартным по советским меркам мальчиком. Он любил вязать, шить и готовить. Мечтал стать поваром, а не слесарем. Неудивительно, что в школе одноклассники его избегали либо он их избегал. Не суть важно – в один прекрасный момент Саша стал захаживать к нам. Мы втроём устраивали кулинарные пиршества.
Мама всегда набивала холодильник продуктами. У неё были свои серые схемы и подпольные трафики, с помощью которых наша семья обеспечивалась «халявными припасами». Поэтому мама нас никогда не ругала за те горы переведённых продуктов, которые превращались поначалу в несъедобные коржи и кремы. Так мы втроём учились делать безе, бисквиты, шарлотки – словом, всё, что могли изобрести наши пытливые, не ограниченные рамками умы. Однажды мы растопили гору ирисок и сделали из них начинку для торта. Мне поручили почётную должность «разворачивателя ирисок».
Я думаю, мама радовалась нашим кулинарным экспериментам просто потому, что мы были заняты чем-то полезным, а я общалась со своим сверстником – Сашей.
После кулинарных безумств сестра шла к зеркалу и видела каждый грамм торта на своей фигуре. Моя фигура хранила железное алиби, словно я ничего не ела. Никогда. Ни одного кусочка торта. В то время как фигура моей бедной сестры вопила из зеркала: «Виновна!» Леночка вздыхала и шла делать зарядку. У неё был хулахуп – артефакт любой приличной девушки того времени. Она его крутила вокруг талии, пыталась качать пресс. Но всё это не помогало, конечно же.
Потому что сестра изначально была крупной девочкой, потом она переболела «боткина» и стала ещё более крупной, и, наконец, любовь к сладкому и мучному довела её фигуру до «совершенства». По мне, так никакой катастрофы с ней не происходило. Она была симпатичной, подвижной девушкой с чувством юмора. Но Лена хотела быть такой же худышкой, как я, поэтому её переживаниям не было конца.
Помню, как она перетащила из прихожей в зал огромный трельяж и простаивала перед ним часами, мучая меня вопросом:
– Я поправилась?
– Конечно нет. Зачем ты всё время об этом думаешь?
На мой взгляд, она излишне комплексовала, зациклившись на своей полноте и вещах, которые не могла себе позволить. Ей хотелось всякого: модных джинсов, сапог и золотых украшений – обязательного статусного аксессуара провинциальной сибирской девушки. Без всех этих вещей жизнь в понимании сестры не считалась полноценной и успешной.
У Леночки был ещё один талант: она умела устраивать праздники.
Когда случалось какое-нибудь торжество, всё наше многочисленное семейство – бабушка, тёти, дяди и их дети – собиралось в наших «хоромах».
Мы с сестрой придумывали культурную программу. За репертуар отвечала я; поскольку тогда не было интернета, все «номера» я привозила из санатория, где было очень развито устное народное творчество. Весь этот культурный багаж я демонстрировала сестре. Леночка отметала часть, где попадалась ненормативная лексика, или переделывала её. Потом мы начинали готовиться. Сами делали костюмы из тех вещей, которые мама разрешала использовать. А потом, когда все собирались за столом, мы начинали вести «корпоратив». Наша родня охотно смотрела сценки и сольные исполнения, сопровождая их бурными и восхищёнными овациями. При этом все гораздо меньше пили. А потом наш репертуар расширился и до конкурсов. Мы определённо имели успех.
А ещё Леночка рассказывала мне, что ей снились сны, в которых она приходила к маме. Беременной маме. Во сне сестра брала её за руку и вела в больницу, чтобы маме сделали «кесарево». Я рождалась здоровой и красивой. Мы жили долго и счастливо.
Мечты сестры были несбыточными, но мне становилось приятно, что она переживает и заботится. Сестра, как и мама, так хотела, чтобы я стала нормальной. Такой, как все.
Глава пятая
Мне исполнилось четырнадцать лет, когда умерла бабушка Дуся. Я плохо помню смерть дедушки, она не ощущалась как потеря, словно он был частью целого – баба-деда. Я никогда так не говорила, но так чувствовала, и когда дедушка умер, ушла одна половинка, но другая – бабушка – осталась. Потом я попала в водоворот санаториев, и смерть дедушки не превратилась в душевную рану.
Смерть бабушки я почувствовала иначе: меня будто меня отрезали от пуповины, умерла важная часть моей жизни – наши песни, наши игры в «дурака», где я всегда проигрывала, наши посиделки под радио и телевизор. Она больше никогда не принесёт мне слипшихся дешёвых конфет, которые я так любила, не расскажет хитрую деревенскую сказку «про белого бычка», не спросит, глядя в телевизор: «Таня, это кто? Мужик али баба?», потому что все актёры отрастили длинные волосы и подслеповатой бабе Дусе было трудно отличить их по половому признаку. А я никогда-никогда не приду к ней в гости в её однокомнатную квартиру, чтобы играть под столом, накрытым скатертью, и висеть на перилах железной кровати. Перед смертью бабушка долго болела, и мы все знали, что она скоро уйдёт, но смерть пришла неожиданно и абсолютно нечестно. Как обычно. Вчера ещё мы с ней разговаривали, а утром её не стало.
Тогда, именно в четырнадцать лет, у меня в голове что-то щёлкнуло. Не знаю, что это было, но точно помню звук – резкий и пугающий. Словно кто-то внутри меня сказал: «Кто я?», «Где я»? «Что со мной происходит?» Банальные вопросы нервного подростка. Мне представилось, как я буду жить дальше с мамой, телевизором и диваном. Мне стало плохо. Как будто из меня вынули кусок мяса, показали и сказали: «А это, деточка, твоя душа», – потом повертели в руках и выбросили вон.
Я увидела картинку так явно, что меня стошнило.
Меня затрясло, и я поняла, что должна что-то сделать. Что угодно.
На Эверест не пошла и на фашистский дзот тоже.
Я влюбилась. В образ мужчины, к которому никаким боком близко не стояла. Если скажу, что было всё равно в кого влюбиться, то это будет почти честно. Может быть, моя душа хотела переживаний. А может, просто «пришла пора, она влюбилась».
Мы отдыхали в одном санатории, я провожала его испуганными взглядами, не совсем понимая, зачем мне этот дядька лет тридцати. Обычно я вожделела его в столовой – голубоглазого блондина в красном спортивном костюме. Полубог! Потом на столе, на посту медсестры я подсмотрела его имя и фамилию: Юрий Жданов. А когда приехала домой, в газете «Бийский рабочий» прочла, что он спелеолог, женатый спелеолог, и у него там, в далёкой вселенной, есть ребёнок.
Словом, я любила и страдала просто так, без претензий на действительность. И вдруг написала стих. Внезапно. Про собак – как им холодно зимой. Тема была далека от любовной лирики, но каждого нервного ребёнка выворачивает по-своему. Стих был очень жалостливый: «…они поджали мёрзлые хвосты». Два четверостишия я показала маме. Естественно, она сказала:
– Ты не могла его написать. Ты где-то списала.
Я оскорбилась.
– Тогда напиши про мою родную деревню, про Куреево.
Мама часто и подробно рассказывала мне про свою родину. И я написала. И стала официально признанным мамой поэтом.
В сентябре ко мне пришла новая учительница по русскому языку и литературе. Её звали Татьяна Николаевна. Она вплывала в комнату – её янтарные бусы и серьги тихо переливались. Учительница была полной, носила очки и тоже любила книги. Благодаря ей у меня появились литературные вкусовые рецепторы, с ней я научились читать хорошую литературу и понимать прочитанное. Наши уроки зачастую затягивались на лишний часок-другой. Именно она стала мне приносить и самиздат, и Мопассана, и Флобера. Именно ей я показала первую тетрадку со стихами. Она не стала её читать на ходу, а попросила разрешения взять домой. Татьяна Николаевна была очень деликатной. Через неделю она вернула мне тетрадь и сказала, что ей всё понравилось, а затем предложила:
– Давай возьмём несколько стихотворений и ещё напишем небольшую заметку о тебе, и пошлём в нашу газету «Бийский рабочий».
Мы так и сделали.
Через некоторое время ко мне пришла молодая девушка Элла – студентка четвёртого курса Алтайского госуниверситета. Она училась на факультете журналистики. В Бийске Элла гостила то ли у бабушки, то ли у родственников. Она родилась и выросла в Вильнюсе, но её семье пришлось переехать в Барнаул. В Литве они жить не могли – вынуждены были бежать от прибалтийской ненависти к русским.
Элла выглядела совершенно не бийской, не провинциальной. Ко мне она пришла, потому что проходила журналистскую практику и ей требовалось написать заметку в любую газету. Видимо, ей хотелось написать что-то необычное, интересное – и история девочки-инвалида, пишущей стихи, привлекла её внимание.
Она пришла и просто поговорила со мной, а через неделю в газете вышла заметка «про нашу девочку». Элла написала и про моё одиночество, и про мою любовь к литературе, и про провинциальность жизни в целом.
Статья получилась трогательной, а местами и мелодраматичной. Благодаря ей обо мне узнали в местном литобъединении «Парус», ведь в то время нашу местную газету в четыре страницы читал весь город.
В литобъединении «Парус» собирались местные поэты и прозаики. Одна из них – поэтесса Ида Фёдоровна – работала в моей школе и была коллегой моей учительницы по литературе Татьяны Николаевны. Поэтесса, как человек, имевший авторитет в бийской литературе, после статьи в газете возжелала взглянуть на мои стишочки.
Стихи, по правде говоря, были дурные, однако они множились в геометрической прогрессии. Порядком исписанная тетрадь через Татьяну Николаевну поплыла к Иде Фёдоровне. Стихотворная дама бесцеремонно тетрадь поисчеркала и на обороте написала пространный совет, чтó мне надо читать (список поэтов) и куда мне надо идти (адрес литобъединения).
Я жутко обиделась. Даже не на поправки и советы дамы, а на то, что написала она всё это прямо в заветной тетради. За короткое время тетрадка стала чем-то личным, и чужой почерк в ней… будто он осквернил моё божество. Я была нервным, экзальтированным и обидчивым подростком. Мне пришлось переписывать свои вирши в новую тетрадь. Я злилась – ведь писала я очень медленно, и кроме старых стихов нужно было успеть записать новые.
Мы с мамой пошли в литобъединение. Мне было любопытно, а мама потакала любым моим затеям. Тем более что обо мне написали в местной газете – весомая причина. Мама была горда.
Оплот бийской литературной богемы располагался в ДК Котельного завода, расстояние до него от нашего дома равнялось двум трамвайным остановкам и одному марш-броску по переулкам. Собиралась богема раз в неделю после 18:00, поскольку приходили туда взрослые, работающие тёти и дяди. Мы нанесли литобъединению «Парус» несколько визитов, а потом мама решила, что зимний вечер не лучшее время для поздних прогулок с плохо ходящим подростком. Словом, решили отложить дальнейшее общение до весны.
Кроме того, богема оказалась скучной. В первый мой приход какой-то мужчина долго читал вслух рассказ про колхоз. Рассказ показался мне нудным. Потом Ида Фёдоровна делала ему замечания. Она делала толковые замечания всем, но тактом не отличалась. А разве так можно с творческими людьми? Они же чуть что – и в обморок. После замечаний все разошлись. Особого восторга я не испытала, однако Ида Фёдоровна меня представила и прочла какой-то мой стих. Было приятно.
Но когда мы с мамой перестали ходить в «Парус», то литобъединение пришло ко мне.
Так я познакомилась со Светланой Козловой. Коротко стриженная, с дерзким носом и зелёными глазами, она стала моей первой взрослой подругой. Козлова пришла ко мне домой. Оказалось, что, когда мы с мамой посещали богему, она не смогла прийти. Потом ее братья и сёстры по перу рассказали ей про девочку-инвалида, которая пишет стихи. Она заинтересовалась моим необычным культурным феноменом. В то время инвалиды не ходили в народ, а скромно сидели по домам. И когда я явила себя миру, многие «парусники» приходили на меня поглазеть. Козлова тоже решила со мною познакомиться. Мы сразу нашли общий язык – она читала мои стихи вслух и задавала правильные вопросы:
– Что это значит? Почему такой образ? Что ты хотела сказать?
Козлова много хвалила и много объясняла про стихосложение, делилась знаниями, которые я нигде не могла почерпнуть – с её помощью мои скромные слагательные способности быстро расцвели и заколосились. Кроме стихов у нас оказалось много общего в жизни. Мы обе любили своих матерей и обе их побаивались. Обе были одинокими «девушками»: мне тогда исполнилось пятнадцать, а Козлова вовсе уже не была девушкой, у неё в багаже болтался весьма взрослый сын – примерно мой ровесник. И обе были довольно бедны.
Кроме Козловой разные творческие личности заходили ко мне на чай и чтобы продекламировать свои высокохудожественные произведения. Квартира превратилась в проходной двор, и сестра, любившая уединение и покой, пошла на крайние меры.
Она не только умела покрывать стены росписью и устраивать праздники – сестра также была прирождённым дизайнером интерьера. Леночка обожала делать разные перестановки с мебелью; иногда она передвигала мебель сама, иногда просила отца, который, к моему удивлению, послушно выполнял её приказы. Мама не терпела никаких перемен, поэтому все пляски с мебелью происходили в её отсутствие. Как бы она приходит с работы, а всё уже переставлено. Смирись, мама!
Когда мне начали регулярно наносить визиты, сестру посетила идея разгородить нашу большую двадцатидвухметровую детскую пополам. В первой половине комнаты Леночка поставила две кровати (как ни странно), затем она сделала перегородку из трёхстворчатого шифоньера и книжного шкафа, поставив их поперёк комнаты так, чтобы получился проход между ними. Во второй части комнаты, где было большое окно, она поставила письменный стол и кресло, а задние стенки шкафа и шифоньера Леночка заклеила кусками обоев с огромными кричащими розами. Их происхождение так и осталось тайной.
Получилось нечто, напоминающее кабинет. Наверное, сестра так сделала ещё и потому, что я часто читала ночами и вела безрежимный образ жизни. Тогда я записывала всё, что приходило мне в голову, и могла вскочить посреди ночи. Наверное, Леночка отгородила мне келью, чтобы я просто не мешала ей спать.
В этом кабинете я принимала своих гостей. Поэты и писатели полюбили мамины булочки с викторией и мятный чай. В литобъединении было нудно, а у меня дома каждый мог почувствовать себя великим.
Однажды Козлова привела странного парня Олега: вытянуто-худого, начитанного и несчастного. Он писал четверостишия, жаловался на общую несправедливость мироустройства вообще и злобность судьбы, направленную на него, в частности. Олег нигде не работал, был свободным художником. Он считал себя непризнанным гением и сидел на шее у родителей.
Так у меня появился круг общения, где я была чем-то важным. Мы читали друг другу свои «нетленки», обменивались книгами и мнениями о них. Меня стали всё охотнее печатать в местной прессе и разных литературных альманахах. Хотя стихи мои с трудом можно было выдержать нормальному человеку, поскольку в них всё было мрачно, темно и запутано, но отдельные образы, как манифестации, прямо скажем, завораживали.
Я могла написать, например, такое:
Когда вселенная состарится,
Распавшись мякотью плода,
И млечный сок тихонько скатится
К весам, где чаша, как звезда,
Тогда, переполняясь временем,
Придёт сквозь звёздную траву
Кентавр. Он не признает стремени.
Сплетёт из гривы тетиву.
И выпьет сок. И чаша треснет.
Став полубогом наконец,
Кентавр поймёт, лишившись шерсти,
Что он не зверь, а лишь Стрелец.
Кроме появления литературного кабинета огромным событием в тот год стало приобретение пишущей машинки, которую мама выменяла у одной из своих многочисленных подруг за две бутылки коньяка. Думаю, мама рассматривала машинку как ещё один тренажёр для моих спастичных рук3, а может быть, её грело то, что ко мне ходят разные литературные личности, и ей хотелось поддержать меня.
Машинка была старой женщиной-инвалидом германского происхождения. У неё не было двух кнопок от букв, поэтому она пользовалась протезами – какими-то пластиковыми пробками, на которых выжгли буквы и натянули на рычажки. Ленту она мотала только в одну сторону. Ещё она была миниатюрна – это не какая-то там «Башкирия». Моя любимица тут же заняла почётное место на письменном столе.
Поскольку мама когда-то работала в Подмосковье на телеграфе и телетайпе, она меня всему обучила: и как двигать каретку, и как вставлять бумагу, и как менять ленту.
Пишущая машинка затмила всё!!! Я никогда не видела устройство, у которого были бы рычажки, от стуканья по которым на бумаге появлялись бы буквы! Это был экстаз!
И понеслось…
Перво-наперво я напечатала все свои стихи. Бумага была жуткая, тогда за «Снегурочку» я бы просто убила! Бумагу приносила мама; не представляю, где она её доставала, – это были стопки серо-жёлтого цвета под названием «Для пишущих машинок», что, конечно, было наглой ложью, бумага годилась только для туалета. Но! Альтернативы не было, и я радовалась тому что есть. Ещё мама доставала фиолетовую копирку, но её она выдавала «под учёт» – смотрела убитость предыдущего листа.
Копирка понадобилась жутко, поскольку мои товарищи по литобъединению встали ко мне в очередь, как к первопечатнику Ивану Фёдорову. Любую машинку раньше ставили на учёт в КГБ, и их даже не продавали, а уж тем более в нашей провинции. К счастью, когда машинка появилась у меня, господам из КГБ было уже неактуально бороться с самиздатом. Они боролись за собственность.
Поэтому я стала резко популярной среди бийского бомонда, ибо бомонд в количестве пятнадцати человек хотел видеть свои нетленки в приличном, отпечатанном виде. Мы же с машинкой имели с бомонда копеечку, которую истребляли на шоколадки.
Печатание стихов было только половиной наших с машинкой развлечений. Мы зажигали по полной. Однажды я придумала, что если страницу сложить поперёк, то получится маленькая книжечка, пусть и без переплёта.
Невозможно представить, насколько крутой я ощущала себя в тот момент! Я же только что «изобрела колесо», мои ноги сами понесли меня в библиотеку и руки сами вцепились в Блока! У меня дома не было Блока ни в каком виде, но с помощью машинки и сложенных вдвое листочков он у меня появился – «Блок. Избранное». Я даже сотворила обложку книжечки: карандашом отметила середину на листе и, отстукивая букву «б», выбила большое БЛОК. Самиздат рулил.
Цветаева, Ахматова, Есенин, Пастернак… Всё, что попадало в мои цепкие ручонки, – всё пополняло мою коллекцию. Я даже выписала одну треть фразеологического словаря. На Ожегова у меня не хватило духу. Ожегова я просто прочла. Я читала не только книги – словари оказались не менее увлекательными. Там было «много букв», т.е. «много слов», о существовании которых я даже не догадывалась. После Ожегова я хотела почитать Даля. Но тут…
С моим организмом стали происходить «странные вещи», и мне стало немножечко не до стихов. Помню дикую боль и судороги – мама вызвала скорую. Так в четырнадцать лет у меня появились «проклятые женские дни», и я стала превращаться в кого-то другого, словно я была уже не я. Боль и тошнота раз в месяц стали моими «лучшими подругами».
Мы начали ожесточённо спорить с мамой – часто и по любому поводу. Раньше я всегда соглашалась с мамой и сестрой, старалась быть послушным и беспроблемным ребёнком, который всё терпит, понимает, молчит и читает свои бесконечные книжки.
Но теперь я вдруг заявила:
– Я уже взрослая и всё знаю про эту жизнь. – Мне было четырнадцать.
Конечно, мама разумно заметила:
– Что ты можешь знать?
В меня словно кто-то вселился. Мне нужно было непременно ей доказать свою самостоятельность.
Потому что мама категорически заявляла, что самостоятельно мне не прожить. Мысль, что я всю свою жизнь буду унылым инвалидом, превращала меня в фурию.
– Я могу быть самостоятельной! – вызывающе кричала я.
– Вот представь, что ты оказалась в тайге, – что ты будешь делать? – так же вызывающе спрашивала мама.
Дальше начинались сюрреалистические разговоры про шалаши из веток, силки для поимки птиц и способы разведения костров. Мама опиралась на свой реальный опыт деревенской девочки, которая исходила алтайскую тайгу вдоль и поперёк. Я парировала тем, что вычитала в книжках. И я ни разу не сказала маме:
– Мамуля, я обычный городской житель и собираюсь прожить свою жизнь в городе, почему мы говорим о какой-то тайге?
Не сказала маме так, потому что у меня, действительно, не было жизненного опыта. Но у мамы-то он был. Она родила меня в тридцать четыре года, а когда у меня начался пубертат и «время восстаний», ей было уже сорок восемь. Но она не сказала: «Давай попробуем адаптировать тебя к жизни здесь, в этом районе, этой квартире, чтобы ты могла обслуживать себя сама». Нет! Вместо этого она всячески ограничивала мои попытки стать самостоятельнее, «нести доброе и вечное» в наведении уюта и чистоты.
Мне приходилось всему учиться самой, пока мама была на работе или на садовом участке. Когда она приходила и видела, что я, например, что-то пропылесосила, то хвалила меня. Но если я хотела пылесосить при ней, она отбирала «орудие труда».
Всё это было немного анекдотично, но на самом деле гиперопека мамы приносила ужасные плоды. Я стала скрывать от неё разные вещи – те, в которых не было ничего тайного, но если мне нельзя пылесосить, может, мне нельзя что-то ещё?
Я надеялась, что в один идеальный момент перестану быть гиперэмоциональной и грубой. Надеялась, что стану прежней девочкой, доченькой. Но однажды всё стало только хуже. Помню, как мы всей семьёй сидели и смотрели обычный советский фильм про любовь, весь такой девственный и невинный, и тут главный герой начал целовать главную героиню. Сцена с поцелуем длилась секунд двадцать, но я её едва пережила, вся покраснела, и у меня начались гиперкинезы4.
Мама спросила:
– Танечка, что с тобою, тебе плохо?
А я не знала, что ответить. Вся семья смотрела на меня, и я почему-то чувствовала себя неправильной и плохой.
После этого всё стало регулярно повторяться, и в присутствии других людей тоже. Я не знала, что мне делать с собою. В то время коллективные просмотры фильмов были обычным делом, и мне приходилось в них участвовать. Я хотела проводить досуг вместе со всеми, но внезапные «любовные сцены» превращались для меня в пытку. Тогда я придумала обнимать ноги руками: так я не тряслась и не качалась. Но долго сидеть так было трудно, поэтому я старалась предугадать по ходу фильма, кто когда будет «заниматься этим», и заранее свернуться калачиком.
Но я подозревала, что все всё понимают. А вскоре обнаружила, что мне сложно находиться в присутствии незнакомых мужчин, – я вся краснела, зеленела и не смела смотреть им в лицо. Когда же мы с мамой или сестрой шли мимо каких-нибудь ребят, на меня нападал ступор, я не могла сделать и шага. Сестре я говорила, что у меня свело ногу: у меня не было сил признать своё стеснение. Так мы тупо стояли и ждали, пока парни пройдут мимо.
Это был неописуемый ужас.
Однажды я спросила свою подругу Козлову:
– Что же мне делать? Я не понимаю, что со мною… и с мамой я не могу поделиться… мне так плохо от вида мальчиков… моё тело мне не принадлежит…
– Ты же видишь, как к тебе тянутся люди! Однажды к тебе придёт твой человек. Конечно, лучше бы тебе выйти замуж.
Мне показались дикими её слова. Мысли о замужестве не помещались в моей голове, поскольку впереди маячил выпускной класс и я думала только о том, куда смогу пристроиться после школы.
Глава шестая
С четырнадцати лет я мечтала о работе. Мне в голову приходили разные профессии. Сначала я хотела стать невропатологом – тётенькой в белом халате с длинной белокурой косой. На шее у меня будет висеть стетоскоп, а в руках буду держать медицинский молоточек. Мой муж будет дальнобойщиком с золотыми зубами, в импортных джинсах. И будет у нас дочь Даша.
Потом мне объяснили, что инвалидов не берут в медицинские институты. К тому же ближайший медвуз находился в Барнауле. А я прекрасно понимала, что мне «светит» обучение только в родном городе.
Затем я стала грезить о карьере водителя трамвая. Мне казалось, что трамвай не может сойти с рельсов и поэтому я смогу совершенно уверенно возить пассажиров. Я стала готовиться и запоминать названия остановок. Мне казалось это очень важным, будто бы знание маршрута – это уже гарантия поступления в ПТУ.
Я была благовоспитанной барышней, не материлась, читала поэтов и вела себя как героиня романтических фильмов. Но когда речь шла о заработке – была готова на всё. Однажды я увидела, как трамвай сломался и вагоновожатая в красном грязном жилете с ломом в руках, на которые были надеты не менее грязно-замызганные рукавицы, сама, с-а-м-а начала чинить трамвай – ковырять под железным брюхом этого кита-чудовища. Я испугалась. Моё богатое воображение шептало: «Трамвай, как кит, может поглотить всех пассажиров и не выпустить из своего железного чрева. Он может взорваться или пойти под откос».
С тех пор я, любившая трамвай и его мерное дребезжание надёжности на рельсах, вдруг как-то быстро к нему охладела и поняла, что водительницей китов-чудовищ я быть не хочу совершенно. Категорически.
Следующим этапом поиска места в пищевой цепочке, которое я решила занять, была продавщица в киоске. Собственно, меня привлекала не столько сама профессия, сколько культурное наполнение пресловутых киосков. Несколько из них стояли возле нашей пятиэтажки, и разглядывать их витрины было моим главным развлечением. Самыми ценным артефактами были шоколадные батончики и магнитофонные кассеты. На их покупку я тратила свои карманные, настуканные на машинке денежки. Особенно бесценными я считала кассетные сборники-солянки, где была записана поп-музыка 90-х годов.
Конечно, ни о каком роке я тогда и не слышала, но не сказала бы, что отсутствие «продвинутой» музыки доставляло мне массу душевных страданий и делало мой мир блёклым. Ничего такого я не чувствовала – некультурная девочка из провинции. Я приходила домой, вставляла кассету в магнитофон и наматывала круги по комнате под «Любе» или «Иванушек» и чувствовала себя абсолютно счастливой.
Вот такая мешанина процветала тогда в моей голове: мечты о работе + серебряный век + русская попса + желание иметь кровать с бархатным покрывалом.
Решение о профессии пришло неожиданно от моей подруги из библиотеки – именно она поселила в моей голове вирус, он назывался «библиотекарша».
Елена Сергеевна сказала, что хорошо бы мне поступить в ПТУ на «библиотекарское дело». Тогда, проучившись два года, я смогу работать в детской библиотеке рядом с домом. Конечно, не в читальном зале, где нужно постоянно выписывать книги, а писать быстро я не могла. Но в библиотеке три штатных единицы, и работы много: нужно ремонтировать книги, искать должников, проверять фонды, оформлять читальный зал и выполнять другие магические действия. Тогда, до перестройки, всё казалось таким незыблемым, словно вся огромная сеть библиотек, кинотеатров, санаториев – всё-всё будет всегда-всегда.
План Елены Сергеевны казался рассудительным и исполнимым, но…
– Елена Сергеевна, так библиотечное ПТУ же в Барнауле, – печально констатировала я. – Там я учиться не смогу.
– Так поступай на филфак в пединститут. Учиться придётся дольше, но ты же любишь читать, а с высшим образованием тебя возьмут в любую библиотеку, – резонно заметила Елена Сергеевна.
Перспектива получения не только образования, но и трудоустройства стала греть мою душу.
После выпускного класса мне домой принесли аттестат. Мама устроила чаепитие, на которое мы пригласили учителей. Все желали мне здоровья, успехов и дарили книги.
Помню, что накануне выпускного мама мне предложила поступить на курсы бухгалтеров, но я была категорически не согласна. Я чётко знала, что мне нужно стать «библиотекаршей» – начитанной, умеющей заполнять формуляры и вести картотеку таинственной девой, владеющей искусством бесшумного перемещения между стеллажами и мгновенного обнаружения любой книжной единицы.
Я заявила маме, что решила поступать в наш Бийский пединститут на филфак, потому что это образование может открыть мне двери к работе в библиотеке. А ещё я поняла, что хочу узнать, как устроена литература, – для своих эгоистических поэтических целей. Поступление в вуз было первым моим самостоятельным и важным решением, и с тех пор я все время стремилась делать всё сама, дабы избежать даже лёгких намёков на упрёки «мы тебя кормили, мы тебя поили». Для меня такие намёки были очень болезненны.
И тут судьба улыбнулась мне, а потом я улыбнулась судьбе и мы обе сделали книксен.
Зависать в библиотеках бывает полезно, возможно, они – порталы в другие миры, через которые можно попадать в свои мечты и заветные желания.
Именно там перед поступлением я нашла статью в газете «Аргументы и факты». Газета нахальным образом утверждала, что существует закон, по которому инвалиды первой группы могут поступать в вуз вне конкурса. Я сопоставила себя: инвалид; сопоставила филфак: вуз; сопоставила факт: вне конкурса, и совершила «великое открытие» – я могу гарантированно поступить! И тут я впервые с «восторгом» подумала: «Как хорошо быть инвалидом!».
Я потащила маму подавать заявление о поступлении. Пединститут находился в двух остановках от нашего дома, мы шли по скверу, я объясняла маме, что уже практически поступила, а она не понимала почему, – в льготы на поступление для инвалидов она тогда упрямо не верила.
Вот и приёмная комиссия. Я заполняю заявление – публика в шоке, хотя старательно этого не показывает. Кульминация разворачивается в тот момент, когда я к положенному списку документов прикладываю бесценную газету с выдержкой из закона.
Начинается, конечно, переполох, все куда-то стали выходить и заходить, потом пришёл проректор и сказал, что да, что «вне конкурса», что проходной балл значения не имеет. Проректора звали Осип Давыдович. Кто б знал, что я ему буду звонить ровно через неделю!
Мама не была потрясена, ведь я ещё не поступила, а её мозг работал по принципу «пока не увижу – не поверю». Мы с ней списали расписание вступительных экзаменов и пошли домой. И тут она сказала:
– А кто тебя будет водить на занятия? Ты же поступаешь на очное отделение. Я работаю, Лена работает, отец – чудовище. Как ты будешь учиться?
Я призадумалась. Позвонила в приёмную комиссию, где мне объяснили, что заочное отделение на филфаке существует, но приём на него окончился за месяц до того, как мне выдали аттестат о среднем образовании.
– А вы приходите на следующий год, – беспечно посоветовала девушка из приёмной комиссии.
Я призадумалась. Терять год я не хотела.
И стала звонить Осипу Давыдовичу напрямую в кабинет. Меня неделю не соединяли. Наконец…
– Здравствуйте, Осип Давыдович. Меня зовут Таня Трушова, я к вам на филфак поступаю…
– Да, я помню.
– Вы понимаете, я поступаю на очное отделение, а мне надо на заочное, потому что я не смогу каждый день ходить на лекции – меня некому водить…
– Ну так приходите через год.
– Да, но так год не буду учиться – я всю школьную программу забуду! А вы не можете меня после поступления перевести на заочное отделение? Например, по причине болезни. У меня есть справка ВТК.
Инвалиды жестоки и безжалостны. Они всегда-превсегда хотят пролезть без очереди и ущемляют права здоровых людей. Особенно я.
– Могу, могу… Таня, а зачем вы вообще поступаете?
– Ну, я хочу учиться, а потом работать в библиотеке.
– Ну добро. Я вам помогу.
Осип Давыдович оказался классным дядькой.
На вступительное сочинение мы с мамой опоздали на час, но меня всё равно запустили. Я писала Гоголя. Не важно, что пишешь из Гоголя – ключевые слова: «гипербола, разоблачение, сатира». Я писала как под копирку: «ярко изображает чиновничий мир», «первым смог описать в литературе такое явление, как…» … Шаблоны, шаблоны, шаблоны. В школе за сочинение у меня всегда было «пять»/«четыре». Злобное «четыре» – за орфографию, пунктуацию и стилистику.
Вступительное я написала на «четыре»; на сочинении «убило» больше половины абитуриентов, и проходной балл снизился до двенадцати.
Устную литературу я «откатала» блестяще, без единой запинки. Я просто вытянула билет и начала вещать. Вещать про литературу я могла долго и упорно. На моём лице большими сверкающими буквами было написано: «я знаю всё и даже больше». Поэтому приёмная комиссия не выдержала и семи минут. Она послушно закивала, убаюканная мной, и нацарапала «отл.».
Я к маме в коридор. На свою беду, по тому же самому коридору шёл Осип Давыдович. Окрылённая и обнаглевшая, я протянула ему зачётную ведомость и выпалила:
– Вот, смотрите, Осип Давыдович, у меня уже девять баллов. Даже если я Историю Отечества сдам на «три», то уже прохожу по баллам. Может, я не буду её сдавать? Это же всё равно не профильный предмет!
Осип Давыдович взял у меня вступительную ведомость, улыбнулся и сказал:
– Хорошо, я сам тебе «три» поставлю.
– Спасибо большое!
Так я поступила на филфак.
А потом оказалось, что там ещё нужно учиться…
Посреди всей этой «вступительной карусели» я пропустила установочную сессию для заочников, где педагоги рассказывали, как готовиться к сдаче экзаменов зимой.
В деканате меня быстро утешили, выдав список литературы, зачётку и справку для зачисления в библиотеку пединститута, бодро напутствовав:
– Ты иди читай пока…
Собственно, так мы с мамой и поступили. В библиотеке нам выдали какое-то несметное количество учебных пособий, словно мне предстояло не прочесть их, а готовиться к зачёту по перетаскиванию тяжестей. Филфак! И я начала читать, попутно делая конспекты. Конспекты ужасно раздражали, потому что тетрадей в клеточку не было в продаже, а тетради в линию меня доводили до исступления – я ещё на стадии прописей первого класса могла вписывать буквы только в клетки. На листах в линию они валились набок, становились то худыми, то слишком толстыми. А мне так хотелось аккуратных конспектов! Почему я не делала конспекты на пишущей машинке, не помню: может, ленты не было или бумаги. Ведь я поступила учиться в «прекрасно-счастливом» 1990 году, в эпоху пустых полок и продуктов по талонам. Словом, я пыталась больше запомнить наизусть. Благо память тогда была моим несомненным достоинством.
Из первого семестра чётко помню, что дико бесила античная литература: все эти «о боги! Агамемнон умер!» – и так по сорок раз, и плюс хор. Там у них всё время все дохли, хотя рядом разгуливали боги, но они сомневались: «оживить – не оживить». Все со всеми спали, ели детей и воевали, а если становилось скучно, могли свалить в отпуск лет на двадцать пообщаться с циклопами.
В целом учиться было весело.
Потом пришла зима, и мы с мамой отправились на «филфак-кудыкины горы» узнавать про экзамены. Туда надо было ехать тупо через весь город на тупом автобусе, расписание которого не поддавалось вразумительному описанию и никто его не придерживался. Этот подарок судьбы случился потому, что приёмная комиссия и ректорат находились в новом здании возле моего дома, а филфак – на «кудыкиной горе», на другом конце города.
Мы приехали. И обнаружилось… что первый зачёт у меня по истории КПСС.
Вежливая тётенька в деканате предложила нам с мамой пройти к определённой аудитории, откуда должен был явиться повелитель истории КПСС. Мы стали прилежно ждать, и он явился.
Преподаватель всем своим обликом напоминал сморчок. Меня передёрнуло. Сморчок сказал:
– Вот вам пособие к зачёту, почитайте его, а потом мы с вами побеседуем.
Он протянул мне стального цвета книжку, на которой позолоченными буквами было написано «Краткий курс истории КПСС». «Краткий курс» явно страдал ожирением. Я подумала: а как же тогда выглядит «Полный курс»?
– Спасибо, – сказала я Сморчку, а сама подумала: «О боги! Агамемнон умер!»
На самом деле я подумала: «нахуй, нахуй». Просто тогда я не материлась и была приличной девочкой… да я бы просто свихнулась, если бы попыталась сдать этот «зачёт»!
Словом, желание учиться оставило меня. Некоторое время я занималась блаженным ничегонеделанием. В пединституте решила не учиться. Совсем.
Моя сестра Леночка после школы не знала, куда пойти учиться. Пединститут, политехнический, курсы поваров – всё в равной степени раздражало её, как раздражали непрестижные наряды, отсутствие мехов и золотых украшений. В старших классах Леночка устроилась на работу к маме мыть полы, на заработанные деньги она покупала желанные «магические вещи».
Ещё когда мне было лет девять, мама уволилась из бийского аэропорта и нашла другую работу. Возле бабушкиной пятиэтажки выстроили новый современный кинотеатр «Алтай», туда набирали кассиров, и мама устроилась на новое место, которое было ближе не только к дому бабушки, но и к нашему. К тому же там кассиры работали по шесть часов, а не по двенадцать, как в аэропорту. Такой график позволял маме встречать моих школьных учителей, но денег она получала меньше.
Вскоре мама научилась инкассировать, то есть собирать и сверять денежную выручку с касс, которая накопилась за день, и сдавать её бравым ребятам с автоматами и зелёным банковским мешком. За инкассацию мама получала прибавку к зарплате, но ей приходилось задерживаться на работе.
В кинотеатр мама стала частенько брать меня, чтобы я посмотрела новый фильм. Я обожала кинотеатр и смотрела всё подряд, а мамины сослуживицы всегда угощали меня мороженым в вафельном стаканчике и прохладным соком.
Начальница кассиров Эльвира Семёновна, увидев, что у мамы больной ребёнок, предложила ей ещё мыть кассовый зал после продажи билетов на последний сеанс. Мама согласилась – она всегда бралась за любую работу.
Итак, в старших классах Леночка стала помогать маме мыть полы в кассовом зале. Они с мамой договорились, что на эти деньги сестре будут покупать наряды и другие женские артефакты. А потом они ещё устроились дворниками при «Алтае».
Внезапно школа окончилась и большой сияющий мир распахнул свои объятия перед Леночкой. Жестокая реальность получать образование открылась моей сестре. Она хотела поехать в Новосибирский художественный институт, но мама не могла высылать ей деньги для сносного проживания в чужом городе.
– Я не смогу помочь тебе: Таня больная, я одна работаю. Проси отца.
Если бы сестра попросила, отец бы ей помог. Конечно, он был чудовищем-эгоистом, его мало что волновало в этом прекрасном сверкающем мире. Но Леночку он любил, это чувствовалось, и шансы на то, что отец помогал бы сестре учиться, не вызывали сомнений.
Я думаю, она просто испугалась трудностей и прикрылась мною как щитом:
– Кто тебе будет помогать с Таней? Как вы справитесь без меня?
Поэтому Леночка поступила в медицинское училище, которое ненавидела всей душой. К тому моменту, как я поступила и бросила пединститут, сестра уже стала фельдшером и устроилась работать в детскую поликлинику: она сидела на приёме с врачом, а потом ещё ходила «по участку». Участок ей достался в частном секторе – с собаками, цыганами и иными ужасами, о которых знают только участковые фельдшеры. Обувь на ней горела, работа ей не нравилась, а душа её хотела замуж.
Была у моей сестры подружка Нелли. Как-то раз подходит ко мне Леночка и говорит:
– Подруга приглашает меня в гости, хочет познакомить с парнем. Его зовут Костик, только он старше меня на двенадцать лет. У него была жена, но он с ней развёлся, правда, у них есть сын, но он уже большой. А ещё он сидел в тюрьме. Что мне делать?
Сестра выстрелила в меня скороговоркой. Взгляд был панический. Я её понимала: ей было двадцать лет, а она ещё ни разу не была на свидании.
– Иди, познакомься. Тебе же хуже не будет. Может, он нормальный, тогда сходишь с ним куда-нибудь ещё, – благословила я.
У нас с сестрой были маленькие женские секретики от мамы.
И Леночка пошла к Нелли «на день рождения», и не пришла ночевать домой. Не пришла и не пришла, но потом она оказалась немножко беременна, и ей пришлось открыть маме шокирующую правду о «Костике-отце-будущего-ребёнка-который-сидел-и-почти-старик». Мама, конечно, была в «восторге», она стыдила Костика, который соблазнил невинную девочку, и вела долгие разговоры с сестрой на тему «аборт – не аборт». После недолгих кровопролитных стычек сестра заявила:
– Я люблю Костика, и мы решили пожениться. «Аминь», – сказала мама, и Леночке устроили достойную пьяную свадьбу, традиционно трёхдневную, со сбором всех родственников. Гулянья проходили в нашей квартире и оставили у меня ощущение разгрома и тихого ужаса.
Никогда, никакой свадьбы… лучше застрелиться…
Леночка переехала жить к любимому мужу, который проживал в двушке со своей мамой. Поначалу всё казалось прежним: работа сестры находилась рядом с нашим домом, и она каждый день заходила на обед, а когда Костик работал «в день» на ТЭЦ, то оставалась до вечера – ей явно не нравилась свекровь. А потом Леночка вполне логично ушла в декрет, и мы стали реже видеться. Было непривычно – я скучала по сестре.
Внезапно моё «никакой свадьбы» переросло в намерение посвататься к Олегу Кузовлеву. Нервный поэт из литобъединения «Парус» продолжал упорно ходить ко мне в гости. Он был старше меня на десять лет. Кузовлев был умным и мягким. Общались мы с ним легко и свободно. При этом друг казался совершенно не приспособленным к жизни, Нас объединяла бедность – он не работал, меня работать никуда не брали из-за инвалидности. Ещё Олег хотел съехать от родителей, но не знал, куда и как. В тот момент у меня тоже возникло непреодолимое желание уехать от пьющего отца.
Собственно, именно этот факт и поселил во мне дикую идею: мы с Олегом могли бы пожениться, и тогда мои родители разменяли бы наши хоромы на двух- и однокомнатную квартиры. Мама осталась бы с отцом, а мы с Олегом стали бы жить отдельно от родителей, как брат и сестра, и нас бы никто не доставал. Я бы перестала слышать оскорбления отца и постоянные замечания мамы.
Мысль была дикой, но мне она казалась реальной и воплотимой. Я изложила свой план подруге-поэтессе Козловой. Та сказала:
– Думаю, это сработает. Надо сказать об этом Олегу.
И я стала ждать, когда придёт Олег. Мы почему-то решили, что не стоит его сватать дома, – пусть лучше отведёт меня к Козловой. Наверно, в глубине души я боялась, что мама может войти в мой «кабинет» в неподходящий момент и всё испортит. Ещё я уповала на деликатность подруги, которая сумеет правильно «донести мысль». Не знаю, кто был безумнее тогда: она – взрослая женщина или я – упрямое и бесстрашное существо, которое, действительно, ничего не понимало в жизни.
Одним словом, когда день сватовства наступил, я уже мысленно поделила всю родительскую мебель. В своих мечтах я даже представляла, что мы будем жить в квартире бабушки Дуси, хотя эта недвижимость уже отошла к одной из моих бойких двоюродных сестёр.
Олег пришёл, и мы отправились к Козловой. Я до сих пор не понимаю, зачем он пошёл в эти «странные гости». Мы ехали в трамвае, он улыбался и разговаривал со мною, не только не стесняясь моей инвалидности, но словно не замечая бесцеремонно разглядывающих меня пассажиров. Мы могли бы и дальше просто дружить с ним долго и упорно, но ….
У Козловой мы пьём чай и ведём светскую беседу. Мне, конечно, страшно, но я не привыкла отступать. Поэтому, когда моя подруга заговорщицки уходит на кухню, я излагаю Олегу свой блестящий план. Он несколько минут молчит, а потом тихо отвечает:
– Не думаю, что у нас получится.
Мне показалось, что меня ударили мешком по голове. Я почувствовала дрожь и вышла на кухню.
Сообщила подруге, что наш великий план побега «из курятника» успешно провалился. Мы втроём ещё посидели, попили чаю, и Олег повел меня провожать. На остановке он спросил, почему я решила посватать его у Козловой дома.
– Она – моя лучшая подруга, и мне нужна была поддержка.
Больше Олег не появился на моём горизонте. Так я в первый раз не вышла замуж.
Историю со своим неудачным замужеством я переживала неделю, много плакала и ходила по стенам и потолкам, а потом продолжила писать стихи и зависать в библиотеке.
Помню, как однажды увидела там огромный фолиант «История мирового изобразительного искусства» – огромную книгу с бомбическими иллюстрациями. Меня потянуло рисовать. Поскольку понятие перспективы и мои умственные способности никак не пересекались, то я рисовала акварельные абстрактные пятна.
Что-то в них определённо было, потому что Козлова показала мои «шедевры» одной своей знакомой – Наталье. Это дама была предпринимательницей или мошенницей. Терминология значения не имела. Одним словом, как-то вечером мы втроём – я, мама и Козлова – получили приглашение к богатой даме на званый ужин.
Собственно, наверное, Наталье очень хотелось продемонстрировать свою дорогую обстановку, молодого мужа и жилет из чернобурки. Тогда люди ходили друг к другу в гости легко и непринуждённо.
Мы полюбовались и мужем, и жилетом, и откланялись. Впрочем, Наталья заявила, что ей нравятся мои рисунки. Особенно долго она смотрела на акварель «Влюблённая пара», и я нервно гадала, нравится ей или нет. Наконец Наталья заявила, что скоро откроет в Бийске выставку и будет продавать предметы искусства, в том числе и мои «шедевры».
Немного спустя подруга передала от Натальи подарок – китайские краски. В них оказалось больше оттенков чем в постсоветских наборах акварели и цвета были более яркие. Я с энтузиазмом бросилась рисовать. У меня будет выставка!
Внезапно. Ох уж это моё «внезапно»…
Внезапно пришла Козлова и слила важную информацию в неокрепшие уши несчастной и нервной меня.
Если ты знаешь чьи-то секреты, молчи. Лучше хранить тайны и не открывать ящики, но подруга не умела этого делать.
Оказалось, что прелестная Наталья разъезжала по городам развалившегося СССР и объявляла конкурсы прикладного и изобразительного искусства. Доверчивые граждане отдавали ей свои бесценные творения, а она собирала их в котомку. После чего Наталья объявляла победителя, вручала ему почётную грамоту и условно-денежный приз и благополучно ехала в следующий город, где снова объявляла конкурс, параллельно продавая конкурсные работы, полученные на предыдущих гастролях. Так она обрела несметные сокровища Тадж-Махала и где-то подцепила молодого помощника-мужа.
Я до сих пор не поняла зачем. Зачем всё это Козлова рассказала мне и почему она не умела хранить секреты. Она думала, что я – «зайка», сижу, никуда не хожу, ничего не понимаю? Всё имеет свою цену, и заблуждения тоже.
Я нервная, тёмная и накрученная неудачным сватовством, которое мне сулило отдельное проживание, красивую мебель и «сбычу-всех-провинциальных-мечт». Я была хищницей, которая поймала антилопу, и в последний момент её у меня вырвали из зубов. Конечно, увидев вблизи красивую Наташину антилопу, я захотела такую же. И не придумала ничего умнее, чем шантажировать прелестную Наташу.
И я ей позвонила домой:
– Я всё знаю про ваши махинации с конкурсами.
– И что же ты знаешь?
– Что вы продаёте конкурсные работы. Если вы со мною не поделитесь, я напишу в газету. В «Комсомольскую правду». – Мне казалось, что я говорю как героиня фильмов Тарантино.
– Что ты хочешь?
– Я хочу двадцать тысяч.
– У меня нет таких денег. И ничего ты не получишь.
Наталья положила трубку.
Я включила телевизор, мои мечты разбились.
…я навсегда останусь бедной… навсегда…
Но Наталья перезвонила и сказала, что даст денег и чтобы я приезжала. Дома был только отец.
– Папа, отвези меня на «табачку», мне надо по делу.
И он согласился. И я взяла пакет для денег. И мы поехали на автобусе.
Дома Наталья спросила, откуда я знаю про конкурсы.
– Знаю. – Я не стала сливать информатора. – Давайте деньги, или я пойду. Мне некогда.
И тут из соседней комнаты появились и Козлова, и корреспонденты «Комсомольской правды», и муж-помощник. Все они смотрели на меня. И подруга тоже. Смотрела и молчала.
И я испытала стыд. Не оттого, что меня обманули, не оттого, что они смотрели на меня с презрением. Мне было стыдно, что я совершила дурной поступок. И мне было больно, что моя близкая подруга не заступилась за меня. Она просто смотрела, словно видела меня впервые.
Наталья что-то говорила мне, что она меценат, а я подлая и гадкая. И корреспонденты «Комсомольской правды» тоже что-то говорили.
В конце концов, когда это безумие закончилось, я спросила:
– Вы меня арестуете? Или я могу уйти?
Меня отпустили.
Отец ждал на лестничной площадке. Я ему ничего не сказала, но когда мы вышли во двор, я разрыдалась, а он начал меня успокаивать.
Но это был ещё не финал.
Позже тем же вечером пришла Козлова. Она рассказала, что во время моего «террористического акта» она была у Натальи, и журналисты там были. А пришла подруга, потому что госпожа меценат попросила её забрать у меня китайские акварельные краски. При этом презрение Козловой не знало границ. С тех пор я её тоже больше никогда не видела.
Думаю, в мире есть такое особое гетто, и оно называется «Бывшие друзья Трушовой». Великая комбинаторша… У каждого есть такое гетто.
Я потеряла подругу и не знала, как жить дальше, не знала, как писать стихи дальше. До инцидентов со сватовством и шантажом меня навещали и Олег, и Козлова, и другие персонажи из литобъединения. А теперь я, уже подсаженная на иглу творчества и восхищения, ходила кругами по квартире в ломке и нелюбви к себе. Всё пропало, всё пропало! Я себя не просто не любила – ненавидела. Это была не депрессия. Просто я не знала, что делать дальше, а жить без цели не умела.
Однажды в поисках моих новых стихов мне позвонили из «Бийского рабочего». Я что-то небрежно собрала, сунула в конверт и отнесла на почту.
Стихи напечатали. И неожиданно наша соседка со второго этажа Татьяна Леонидовна зашла к нам «за солью» (все же бесконечно ходят друг к другу за солью) и сказала:
– А ты у нас, оказывается, стишки пописываешь! Приходи кофейку попить…
«Стишки пописываешь» мне жутко не понравилось, но до этого момента я ни разу не пила кофе, и меня не так уж часто звали в гости.
Татьяна Леонидовна была детским невропатологом, а её муж – анестезиологом.
Супружеская пара бездетных врачей. Муж часто дежурил и часто ездил к отцу в деревню. Татьяне Леонидовне часто было скучно. Она любила читать хорошую литературу, попивать кофеёк с конфетами, которые ей дарили благодарные пациенты, шмотничать и сплетничать. Мы подружились, потому что поболтать со мною было интересно. Мы могли говорить обо всём на свете, и я знала, что она не сольёт меня маме, и я не солью её никому. А ещё у Татьяны Леонидовны был видеомагнитофон. Она покупала фильмы или брала на обмен. Так что часто наши посиделки перерастали в посмотрелки.
Отец к тому времени перешёл все сплошные черты, и часто с ним невозможно было находиться в квартире. Поэтому я убегала к Татьяне Леонидовне, чтобы «подышать». У неё я была счастлива. Много ли надо нищей девочке с ДЦП…
Публикация в газете познакомила меня ещё с одним персонажем. Однажды в нашу дверь позвонили, за ней стояли два парня с камерой. Одного из них звали «журналист Женя Осколков», а другого – «безымянный оператор».
Осколков учился в Барнауле в АЛТГу на факультете журналистики. Сам он был бийчанин, и, конечно, ему нужен был сюжет для практики. Какой же может быть сюжет в провинции круче меня: инвалид, который пишет стихи, да ещё и разговаривает!
И Бийск узнал меня. И сделалась Таня Трушова звездой. И увидел Бог (о котором я толком ещё не знала), что это хорошо весьма.
С Осколковым мы подружились. Я общительная – это мой второй смертный грех. Женя мне приносил продвинутые «барнаульские книги» – Бродского, Довлатова, Набокова.
Он жил с мамой и восемью кошками. Часто приходил. Мы разговаривали, и я влюбилась. Трудно не воспылать страстью к ровеснику, который читает умные книжки и умеет смешить. Я снова начала писать стихи. Про любоff.
Пока мать с сестрой не решили изменить мою жизнь.
Мама вышла на пенсию в пятьдесят лет. Тогда приняли указ: родители детей-инвалидов имеют право выходить на пенсию раньше. Кинотеатр «Алтай» – мамину работу – начали растаскивать на куски, организовывать видеосалоны, киоски. Прежний трудовой коллектив был новым хозяевам как кость в горле, и маму уволили как почётную пенсионерку.
Поэтому мама заявила:
– Ты должна возобновить учёбу в пединституте. Теперь у меня есть время – будем ходить туда.
Сестра всецело поддержала идею матери.
Прошёл год, как я бросила пединститут, и мне ярко помнилось, насколько сложно туда добираться. Я вспомнила «сморчка», историю КПСС, пригорюнилась и пошла в библиотеку.
Там знакомая библиотекарша, выслушав моё горе-печаль, сказала:
– А ты напиши заявление сдавать экзамены экстерном.
Конечно, когда я узнала о таком новом явлении, как «экстернат», я несказанно обрадовалась. Более «мудрого совета» мне никто не дал. Но мне казалось, если кто-то сказал бы мне, не стоит торопиться. Не надо учиться экстерном. Лучше просто восстановиться на очное отделение. Твоя мама всё равно на пенсии. Зачем же ты лишаешь себя лекций преподавателей, может быть, друзей-однокурсников, интересной вдумчивой учёбы, стипендии? Зачем ты бежишь впереди паровоза?
Тогда я всего этого не понимала, и даже если мне бы дали такой совет, вряд ли бы я услышала сию мудрость. Я была слишком своевольна и упряма; с годами, конечно, я стала более рассудительной, но вряд ли менее своевольной.
Так или иначе, я пошла к маме и заявила:
– Хорошо, я окончу пединститут, но по-моему! Экстерном!
И мы пошли в деканат, и я написала заявление, и мне выдали новую зачётку и пять ведомостей на пять лет.
В перечне сдаваемых предметов уже не значилась история КПСС. Был 1992 год. Я вздохнула и начала готовиться к первому экзамену – по истории русской литературы XVIII века.
Потом мы с мамой поехали на филфак. Он находился в частном секторе, в деревянном двухэтажном здании бывшего ДК «Октябрь». Экзамен принимала декан кафедры русской литературы. Она сказала:
– Сейчас у меня начнётся пара, и я вас приму. Подождите в коридоре.
Мы стояли напротив аудитории, мне было страшно. Немного. Через несколько минут декан открыла дверь:
– Заходите.
Я вошла в аудиторию. За партами сидели студенты и усердно писали неведомые мне вещи. Парта возле стола декана была свободна – за неё меня и усадили. Декан взяла мою ведомость и зачётку и… поставила мне «три».
– Вы свободны.
От неожиданности я потеряла дар речи, но декан не дала мне опомниться и под ручку проводила из аудитории. В коридоре стояла мама. Я показала ей «удв.» и расплакалась.
– Не плачь. Ты что, не смогла ответить?
– Нет… она даже ничего не спросила, – давясь словами и обидой, проговорила я. – просто поставила «три», и всё.
Мама открыла дверь аудитории:
– Наталья Николаевна, можно вас на минуточку? – Декан вышла опять. – Почему вы поставили моей дочери тройку? Она всё знает! Вы ей даже не задали ни одного вопроса!
– Она хочет отвечать? – как бы в ужасе спросила декан.
– Да. Я готовилась, – шмыгая носом, я начала отстаивать право угнетённых инвалидов.
– Ну хорошо, – согласилась декан. – Пусть проходит, я её спрошу.
И я снова пошла в аудиторию и села за парту.
– Давайте поговорим о Сумарокове. Вы знаете, кто это?
Непрерывные пулемётные очереди ответов на вопросы.
– Тредиаковский?
Я перезарядила обойму и продолжила. Мой дзот декан была не в силах одолеть. Ей пришлось исправить «удв.» на «отл.». В коридоре она, извиняясь, произнесла:
– Я думала, вам просто нужен для чего-то диплом. Я и подумать не могла, что вы действительно пришли учиться!
После сдачи экзамена декану учёба пошла на лад, преподаватели стали воспринимать меня всерьёз, а во мне проснулся азарт покорить эту вершину. Поначалу мы с мамой сдавали примерно один экзамен в месяц, но внезапно я решила ускориться. Мы приезжали на филфак, я подходила к расписанию на неделю и смотрела на него, как Кутузов на военную карту. Я выискивала «окна» нужных мне преподавателей и выбирала удобный день, чтобы нанести удар – сдать экзамен и пару зачётов. Начав учиться в сентябре, уже к декабрю я поняла, что смогу в мае идти на «госы».
План был авантюрный, но я ничего не теряла. Поэтому решила попробовать. К тому же мне не терпелось получить диплом и устроиться в библиотеку. Год назад отвращение к экзамену по истории КПСС затуманило мой разум. Когда же я осталась без друзей – Олега и Козловой, – возвращение к учёбе наполнило мою жизнь смыслом. Я снова загорелась мечтой работать в храме книг, мне так захотелось получать зарплату. О, это сладкое слово – зарплата!
Внезапно в моей жизни появилась новая знакомая – Елена. Она была болезненной, бледной, немного нервной. Лена очень хотела ребёнка, но у неё не получалось. Познакомились мы с ней на «целительных» сеансах. Тогда «кашпировские-чумаки» мелкого разлива расползлись по стране и собирали в кинотеатрах страждущих, исцеляя их своим присутствием на сцене.
Естественно, мама обожала ходить по таким сеансам. На одном из них, ведя сложную дискуссию болящих всех времён и народов «помогает – не помогает», мы и познакомились с доброй, нервной Леной, которая однажды произнесла судьбоносную фразу:
– Я хочу тебя познакомить с одним интересным человеком. Мы к вам в гости придём, можно?
Так я познакомилась с Леонидом Пугачёвым.
Он был «целителем» и лечил руками. Благо по телевизору показали, как это делается. Конечно, мы свято верили, что у него «дар», который помогает. Леонид приходил к нам на дом и непосредственно в квартире устраивал свои «сеансы». Ещё он меня учил танцевать. Требовал включить музыку, брал меня за руки и делал со мною какие-то танцевальные движения. Это было весело. Я смеялась. Мои глаза горели. И он решил, что я в него влюблена, о чём и сообщил моей маме.
Пугачёв жестоко ошибался, ибо я страдала по Жене Осколкову. Тихо и безнадёжно, как я обычно это делала. Разочаровывать Пугачёва я не стала.
Мужчины в моей жизни по умолчанию считают, что мне свойственно в них влюбляться. Несусветная глупость!
Он приходил, мы танцевали, потом пили чай, я кокетничала. Однажды Пугачёв узнал, что я пишу стихи, и попросил почитать. Когда я прочла, он спросил:
– Много у тебя стихов? На книгу хватит?
– Не знаю…
– Если наберёшь на рукопись, я издам твою книгу.
Сделав сногсшибательное предложение, Пугачёв уехал распахивать другие, нетронутые его «целительством» регионы России. Я понятия не имела, как готовить рукопись, и не знала, к кому обратиться. Ответ сам нашёл меня в образе милой журналистки Хвостенко. Она предпочитала, чтобы её называли по фамилии.
Хвостенко пришла ко мне домой познакомиться. Сейчас я думаю: какое странное было время! Всем нравились мои дурные стихи, и все шли ко мне домой, словно я была «меккой». Журналистка выпускала женский альманах «Бийчанка» и хотела опубликовать обо мне заметку. Она меня и проинструктировала по поводу рукописи: что всё считают в знаках и авторских листах.
Мне немного не хватало знаков, и я за один день написала пьесу в стихах.
Потом ко мне пришла знакомая художница. Она страдала от невозможности рисовать пейзажи. Ей казалось, что с появлением цветных фотоаппаратов изображать Алтайские горы и тайгу на холсте уже неактуально.
Я предложила ей сделать иллюстрации к моей рукописи. «Книга с иллюстрациями» – это звучало безумно круто.
Через неделю художница принесла пять иллюстраций и обложку к книге. На скале стояла юная девушка, явно намереваясь сброситься вниз. Рукопись называлась «Зеркальный снег». Я бережно сложила рисунки и стихи в папочку и пошла дальше штурмовать пединститут.
Экзамены я сдавала с различной степенью эпичности. Преподаватель психологии пятнадцать минут объяснял мне, что изучить его предмет самостоятельно я не смогу. Посмотрев, как он носит себя по коридорам и аудиториям, я подумала: да, не смогу. И согласилась на «удв.» – мне было лень ему что-то доказывать.
На экзамене по старославянскому языку было страшно. Преподавательница – седая, горделивая, строгая – питалась студентами на завтрак, обед и ужин. Закрыла меня на кафедре на полтора часа. Я старательно выводила «ять» и «кси» дрожащей рукой. Старославянская дама поставила «отл.».
Где-то между битвами «Таня vs пединститут» приехал Пугачёв, потанцевал со мною, забрал заветную папочку и уехал.
Неужели у меня, двадцатилетней, выйдет реальная книга? Я стану звездой? Я раздарю её друзьям и знакомым? Торжественно отнесу в литобъединение «Парус», где у взрослых дядь и тёть нет своих книг?
Война с пединститутом двигалась к своему логическому завершению – моей победе и безоговорочной капитуляции системы образования, которая смотрела на меня и всплёскивала руками: «Зачем ей учиться, она же инвалид!» «Затем, что я не буду сидеть на диване», – смеясь и отстреливаясь, отвечала я.
Весной декан факультета русской литературы предложила мне писать дипломную работу. Тогда дипломные писали не все, а только суперстуденты. За написание филологического исследования они сдавали один госэкзамен вместо двух. Я выбрала «Лолиту» Набокова. Это было смело. Тогда. Помню, что написала за две недели и легко защитила. «Гос» по русскому я тоже сдала быстро и безболезненно. И институт был готов выдать мне «акт о безоговорочной капитуляции» – диплом.
Дипломы вручали в июне, но на вручение я не пошла.
Выходить перед строем и видеть все эти взгляды… оно мне надо?
Мне претило ковылять перед толпой выпускников и получать «корочку», стесняясь своего ДЦП. Мы с мамой пошли в секретариат и по-тихому забрали мой диплом.
Однажды я проснулась – тогда, бывало, спала часов до двенадцати, – кто-то пришёл к нам. Заливистый громкий звонок разбудил меня, но я решила сделать вид, что ещё сплю. Полежать, помечтать любила.
Услышала, как мама вошла в мою комнату и что-то положила возле подушки, погладила меня и вышла. Я открыла глаза… на кровати лежала стопка моих книг. Я была уверена в этот момент, что на меня кто-то смотрит сверху и улыбается. Побежала на кухню:
– Мама, моя книга! Моя книга!
– Поздравляю, я горжусь тобою!
Мы обнялись.
Выпускной мама мне всё-таки устроила.
Собрались все, кто мог. То ли мама, то ли сестра заказали мне поздравление на местном телевидении. Была такая замечательная передача «По вашим заявкам» – там ежедневно за несимволическую плату поздравляли именинников и другой честной народ, рассказывая, какие они замечательные. Им читали стихи и ставили песню.
Меня тоже поздравили с окончанием пединститута и изданием книги, и затем Серов спел «Я люблю тебя до слёз…» – было приятно и сюрреалистично.
Я держала в руках диплом и книгу – тонкую брошюру из пятидесяти страничек. Мои сокровища. Мои победы. Мне удалось покорить «вершину социального успеха». В двадцать лет у меня уже были диплом о высшем образовании и книга. Для Бийска – супердостижение! Но я всё ещё мечтала «быть-такой-как-все». Вместе с тем понимала, что уже «не такая» – «женщина с ДЦП» и талантом, которая хочет и дальше писать стихи и работать в библиотеке.
Глава седьмая
После окончания вуза я свято верила, что жизнь изменится. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте, и… меня возьмут в библиотеку, а Женя Осколков поймёт, что я «лучшая женщина в СССР», полюбит меня, и у нас начнётся «долго и счастливо».
Мы с мамой пошли в центральную библиотеку им. Шукшина осуществлять мою мечту о работе.
Фраза «мы с мамой пошли» – рефрен моей жизни.
В библиотеке я хотела попросить аудиенции с заведующей, которой предстояло решить мою судьбу. Злые языки говорили, что она ведьма в чистом виде, без примесей. Злые языки – мои подружки-библиотекарши.
Наивная, я полагала, что если одолела всех педагогов пединститута, то ведьму одолею тоже.
Мы зашли в библиотеку, и я заявила, что мне нужна Нина Трофимовна.
На меня посмотрели косо и предложили пройти в читальный зал на второй этаж. Мы с мамой поднялись и подошли к работнице читального зала. Она в ответ на мою просьбу поговорить с заведующей тревожно произнесла:
– Что случилось?
– Я по поводу трудоустройства.
Трудоустройство и мой вид явно никак не монтировались в предложенной вселенной.
Библиотекарша на минуту потеряла дар речи. Я же была молода и нетерпелива:
– Могу пройти к Нине Трофимовне? Мне нужно с ней поговорить.
Мама молчала, словно её не было рядом.
– Сейчас я её позову. – Библиотекарша превращается из статуи в обычную женщину и исчезает.
Я начинала нервничать. Я ожидала, что меня пригласят в кабинет и там будут подробно беседовать. Но чуда не произошло.
Нина Трофимовна, увидев меня, отпрянула, посмотрела на мою маму с микровыражением «но вы-то здоровая женщина, кого вы привели?!». Когда она услышала: «Здравствуйте, Нина Трофимовна. Меня зовут Татьяна Трушова, я окончила пединститут и хочу у вас работать…», то замахала руками и сказала ведьминским голосом:
– Какая работа? У вас какая группа?
– Первая…
– Первая! Вы что, хотите, чтобы меня в тюрьму посадили?! Не занимайтесь глупостями!
Владычица библиотек безоговорочно развернулась и исчезла, оставив нас с мамой, как недостойных крепостных с жалкой челобитной.
Я была готова зарыдать и сделала это, как только мы покинули здание.
– Не плачь, я знала, что так будет, – утешала мама.
Мама понимала, что меня не возьмут, но всё же пошла со мною, чтобы я сама убедилась в дикости мира. Мама утешала, но ничто не могло меня утешить – моя мечта выпала из моих рук и разлетелась на миллион осколков, и один попал в сердце. Но я не заледенела, просто там появился ещё один шрам. Их будет много.
Тем временем сестра родила девочку, которую назвали Людмилой – в честь нашей матери. Когда дочке моей сестры исполнилось восемь месяцев, Леночка решила выйти на работу. Сидеть с ребёнком обязали нас с мамой, «потому что мама на пенсии, а Танюшка не работает». Простая житейская логика.











