Читать онлайн Свиток
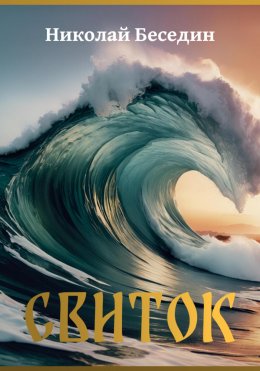
Я пойду за порог в звездопад
И увижу, как выплачет небо
На дождями омытый закат
Сладкий запах крестьянского хлеба.
Как на реках и в росной траве
Отразится живыми огнями
То, что мы, сознавая вполне,
Разрушаем своими руками.
Николай БЕСЕДИН
Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего Лица.
Александр БЛОК
Сегодняшний день предъявляет поэзии требования, о которых вчера и помыслить было невозможно. Новые заботы с неизбежностью пронизывают ткань стиха – пусть это будет поэт зрелый или молодой, наследующий творческие достижения советской эпохи или обраща-ющий взгляд в модернистское начало XX века. Власть и народ, нравственный закон и вседозволенность, равно-душие к прошлому и тлетворное настоящее, природа, со-творенная Богом, и цивилизация, выкованная человече-скими руками, – и еще множество уточнений, которые упомянутые противостояния переводят в режим почти кровавой борьбы. Только кровь эта не льется наглядно, но постепенно исчезает из жил русского человека, унося с собой жажду жизни и продолжения рода своего.
На фоне разных поколений, вошедших в литературный процесс в последние десятилетия, стоит обратить взгляд на феномен, которому нет аналога в отечествен-ной поэзии. Кумиры Серебряного века, оказавшись в стане советской словесности, с годами, за редким исклю-чением, наглядно утрачивали как прежние формальные и интонационные наработки, так и способность к художе-ственному прозрению. Напротив, на рубеже XX—XXI столетий поэты минувшей, социалистической эпохи удиви-тельным образом смогли преобразовать классическую прозрачность строк, столь поощрявшуюся критикой и цензурой в годы их молодости, – в ясный философско-лирический слог, отчетливо отражающий и уродливую реальность, и страдания русской души. Теряющая свою опору как в природе, так и в житейском укладе, из которого насильственно «вынута» категория справедливости, эта душа сегодня находится в духовных сумерках. Из них есть только два выхода: во тьму, накрывшую западный мир, или в светлый окоем, до времени свернутый, будто в коконе, в понятии «Святая Русь».
Изображая действительность, до предела искаженную отсутствием повседневной нравственности и духовного закона, эти поэты, наследники советской литературы, с поразительной ясностью сводят в одном ли-рическом высказывании прежнее и нынешнее, должное и неподобающее, красоту, еще не ушедшую из нашей жизни окончательно, – с «мусорным ветром» современной цивилизации. В этом контексте поэзия Николая Беседина отличается замечательной искренностью и представляет собой русский голос, сохраненный в стесненном состоянии в советские годы и свободно льющийся в наше время, уже почти лишенное идеалов, однако не способ-ное заглушить ни благородную ярость сердца, ни память о Большой эпохе.
У Беседина есть одна поразительная по точности строка, определяющая, кажется, едва ли не всякий шаг России на ее историческом пути. Беспредельный порыв и житейская разбросанность, сокровенный источник высоты и тяжкая доля страдалицы – эти приметы сконцен-трированы в «крестьянском облике» родной земли и сжа-ты до словесной формулы: «Столько не сжала, сколько посеяла…»
Внимательный глаз и традиция русской пейзажной лирики, когда движения и предметы отчетливо видны, а сам автор незримо присутствует в картине, – одно из важнейших свойств поэтики Беседина. Берущее начало в давних акмеистических установках, такое творческое правило – разумеется, в самом общем виде – было чрезвычайно распространенным в советской литературе. Конечно, каждый автор претворял подобные качества стиха в узнаваемые читателем образы по-своему, однако именно эта художественная тенденция позволяет определить поэзию советских лет как прямую наследницу «золотого века» русской поэзии. Одним из первых об этом упомянул Борис Сиротин, говоря о творчестве Ярослава Смелякова.
Предметность слога не позволяет современным стихам окончательно провалиться в модернистские схемы, где за словами не угадываются ни вещь, ни глубокое пе-реживание, а есть лишь отпечаток авторского «я» – при-мечательный знак эгалитарного общества.
У Беседина природа очеловечена, олицетворена, и в том – его внутреннее желание чувствовать себя в единстве с отчей землей, родным краем. В свою очередь, живой окружающий мир, наполненный щебетом птиц и шу-мом листьев, вечерней зарей и волнами колышущихся колосьев, способен поведать о человеке многое. Еще и потому он так дорог открытому сердцу лирика-песно-певца.
А что же за нами?
А кто же за нами
Затеплит поля и цветы?
Какую любовь осенит небесами
Во имя земной красоты?
Железная поступь компьютерных буден
Пройдет, как Батыева рать.
И некому будет, и некому будет
Правду о нас рассказать.
Человек без Бога в душе – это также и человек вне природы, удаленный за ее пределы и воспринимающий свой природный дом лишь как объект приложения соб-ственных рациональных усилий. Примечательно, что такие координаты существования почти однозначно предполагают катастрофическую потерю жизненного смысла, в особенности для русского самосознания. И тогда бедняк становится разбойником, богач превращается в средоточие животного начала, гедонистического и смертельного – как в духовном отношении, так и в биологическом.
Надлом современной эпохи сказывается почти во всех стихах Николая Беседина. Свидетель великих собы-тий, в современности он чувствует себя лишней фигурой, попавшей во времена мелкие и бесплодные: «Мои старомодные вещи // Полны молчаливой гордыни…»
Живущий
<…> на обломках идей,
На развалинах Божьего храма.
В государстве усталых людей,
Посреди многоликого срама, —
он всей кожей воспринимает самоубийственное движе-ние России по навязанной ей исторической траектории: «…Мне на память приходят киты, // Что выбрасывают-ся на берег».
Даже в картине поздней осени у поэта очевидны черты сегодняшнего дня: «На теплохладные поля // Снега ложились по-хозяйски». Земля не вспомнила весенние «за-веты», «не растопила, не сожгла опустошительную силу», но лишь убрала в белый саван «свою могилу». Здесь клю-чевые (выделенные) слова филигранно определяют два противоположных действующих лица: бесцеремонный и беспощадный пришелец и равнодушный хозяин, за-бывший свой род и покорно принимающий собственную бесславную кончину. Таков образ современной России, приходящий на ум в горькую минуту почти каждому, кто любит свою родину. И ему соответствуют отчетливые приметы «теплохладного» современника:
То ли паперть, а то ли перрон.
Молчаливо народ суетится.
То ли свой ожидая вагон,
То ли батюшку ждет помолиться.
В каждом слепленном наспех лице
Было что-то тупое, покорное.
Пьяный мальчик рыдал об отце,
И шептал кто-то Слово Нагорное.
<…>
Не жалея минувших потерь,
Каждый в счастье грядущее верил.
И открылась за папертью дверь.
И никто не вошел в эти двери.
Говоря о текущем дне, Николай Беседин касается темы памяти. Во многом именно она определяет его отношение и к настоящему, и к будущему. Советский период истории теперь оболган, мифологизирован и предан анафеме. Несмотря на дежурные слова власти о позити-ве тех лет, отряды олигархического агитпропа изо дня в день марают грязью достижения наших дедов и отцов, говоря, что тогда не было «высот» – одни только «про-валы». Действительно, советское время крайне противо-речиво, в нем есть черные пятна и светлые страницы, однако не гиене вести речь о биографии льва. И если ты чувствуешь Россию своей родной страной, а не местом временного пребывания, то принимаешь и горечь ее поражений, и славу ее побед. А уж как уместить все это в одном сознании, в одном сердце… В том-то и состоит достоинство или скверна нашего нынешнего русского современника.
Что случилось с тобой, моя Родина?
Зашаманили душу твою,
Обольстила змея-подколодина,
Обещавшая жизнь, как в раю.
Мне ответили сытые граждане,
Свысока озирая народ:
– Мы возмездья давно уже жаждали
За поганый семнадцатый год.
И сказали довольные граждане:
– Нам хватает достатка вполне,
Мы теперь никому не обязаны —
Ни отцам, ни великой стране.
…Мне ответили нищие граждане:
– Лишь бы не было только войны.
Да, мы голь, но не суки продажные,
Нет пред Родиной нашей вины.
И пошел я один косогорами,
По путям, где ни зги не видать,
По лесам да равнинам, с которыми
Так легко обо всем забывать.
Решенный в сказовом стиле сюжет совершенно чужд публицистике с ее ораторскими интонациями, но замечательно точен в портретном отношении, когда художником схвачен сам тип человека, о котором идет речь. Кроме того, alter ego автора поставлено перед необходимостью не только ответить на вопросы о прошлом, но и определить духовно своих нынешних собе-седников.
Говоря о «великой и грешной», ушедшей в вечность стране, поэт не делит ее народ по формальному призна-ку на православных праведников и всех остальных – грешников разного разряда. Воинский подвиг, трудовой, материнский – таких вершин человеческого духа было много в то время, они хорошо вписываются в определе-ние «практический христианин». В подобном смысле Зоя Космодемьянская и Александр Матросов кажутся святы-ми мучениками. «Вера сумасшедшая» и «праведная вина» тех грозных лет у Беседина обозначены образно, однако интуитивно он нашел единственные слова, которые при-менимы к эпохе и ее людям, потому что сказаны они с любовью и уважением, с чувством принадлежности к русскому роду: «И прости ее, Боже, что каялась // Не у тех, к сожаленью, икон»; «Но над всеми смертями и бедами //
Было что-то, что небу сродни».
И когда-нибудь праздные гости
Спросят новых вселенских святых:
– Что за звезды горят на погосте?
И услышат:
– Молитесь о них.
Заметим: не «новоначальные» скажут финальные слова стихотворения. Истинно святые, в числе которых и православные новомученники советских лет, произне-сут: «Молитесь о лежащих под обелисками».
Тогда как вдохнувшие ветры «оттепели» все-то будут показывать миру язвы «великой той державы».
Мы думали, что мы молились
И за живых и за распятых,
А мы смертельно простудились
На сквозняках шестидесятых.
И мир запомнил не победы,
Оставим в стороне лукавство,
А наши жалобы и беды
В том, неподвластном злату царстве.
Исключительно важная характеристика Советского Союза: «неподвластное злату царство». Пожалуй, на сегодня в этом словесном абрисе сосредоточено наиболь-шее «портретное» сходство наших представлений о стране и времени, в которых жили отцы и деды, – с реально-стью, что ушла под воды истории более двух десятилетий тому назад.
Но что же связывало воедино тех людей, которые все вместе составляли великое государство, идеи которого теперь, в капиталистической России, куда живее, чем на закате СССР? Стремление к правде и справедливости в настоящем и способность к жертве во имя будущего. В те годы образ завтрашнего дня во многом был окра-шен в почти религиозные тона, хотя собственно религия была изгнана идеологией из повседневности. Сейчас сокровенный русский человек не мыслит жизни своих потомков без православной веры, и все идеалы минувшего обретают уже небесный отсвет.
Способность к жертве и таким образом утверждение личности героя – отчетливая черта поэзии Николая Беседина. Проявляясь то мимолетно, то развернуто, она являет собой, по существу, максиму: таким должен быть мужчина на Руси – воин ли, крестьянин, мыслитель…
Не в смерти Истина.
Но не распявший плоть
На крестной дыбе самоотреченья
Не прикоснется к имени – Господь.
Земного царства мимолетный гость,
Он не постигнет истины значенья.
Поэт, соединяющий слова в строки и скрепляющий их таинственным чувством, что берет начало то ли в его сердце, то ли в мистических небесах, в обыденном рас-порядке – колеблющийся человек. Он сетует, что устал от потерь, безропотно отдав «любовь свою, заветные могилы, //Свой край родимый, горестный и милый, // И дух побед, что дед мне завещал»… За дверью – смерть, при-шедшая за ночной птицей, олицетворяющей душу певца, его вдохновенный дар.
– Не открывай ей дверь!
Я знаю, ты не сможешь одолеть,
Ты не спасешь и сам себя погубишь.
Ты ни во что не веришь и не любишь.
Ты не способен жертвенно сгореть.
Смерть только кровью можно превозмочь,
Чтоб новый день в огне зари родился.
Но ты не воин.
В сегодняшнем обществе эти доводы куда как убеди-тельны, их транслирует ТВ, они пронизывают страницы либеральной литературы, напитывают, словно ядовитые соки, Интернет. Однако способность к самопожертвова-нию не покинула душу нашего современника, она дрем-лет и ждет чистого и властного веления совести, которая, как известно, есть эхо Гласа Божьего.
Но ты не воин.
Я перекрестился
И дверь открыл.
И расступилась ночь.
Таков странный нищий, одетый в камуфляж, со словами военного приказа на ремне и надписью на картонке: «Подайте на патроны!» А также тени советских солдат, лежащих в братских могилах по всей Европе. Погибший на Шпрее комвзвода поднимается из земли и обходит высотку, где «русские парни лежат», и снова зовет их в бой за поруганную Родину. Безногий солдат, «беззлобно ругаясь, спросил», зачем он тревожит их прах, какая вина корежит его пробитое сердце…
И тихо комвзвода ответил,
Сдержав то ли боль, то ли злость:
– Мы вроде с тобой не в ответе
За то, что с Россией стряслось.
И жизнь не была нам дороже
Отчизны. На том и сошлись.
Чиста наша совесть.
И все же
С тобой мы в ответе за жизнь.
И поднялись павшие, и зашагали «незримые миру» войска:
Десантники шли и пехота,
Штрафных батальонов ряды,
И черные дьяволы флота,
Поднявшись из темной воды.
Бросая свои пьедесталы,
И пушки и танки ползли,
Все те, кто в войне той кровавой
От гибели спас полземли.
Безногий солдат неумело
Все полз на культяпках впотьмах, И Знамя Победы горело
В его беспощадных руках.
Перед нами второе возвращение солдат домой: в 1945-м на родину-победительницу – с радостью; теперь на родину, втоптанную в грязь, – со стальной решимо-стью. В этом «Марше павших» потрясает последователь-ное включение в поход все новых и новых солдат и ору-жия и эпитет в самой последней строке стихотворения: «в беспощадных руках». Непреклонность суда мертвых геро-ев не кажется эмоцией экзальтированного современника-патриота: это святое право подкреплено жертвенным подвигом русского солдата («жизнь не была нам дороже Отчизны»). Здесь присутствует та «ярость благородная», которой насыщена песня «Священная война».
У Беседина не один сюжет решен в жанре поэтического размышления, который был чрезвычайно развит в советской литературе. Интонационно автор выступал от лица своих современников, хотя словесно это нигде не оговаривалось. Само рассуждение предполагало, что его итог становится общим достижением поэта и его читателя, стихи неявно «дарились» всем, кого волновали вопросы, звучащие в душе певца, ставшего на короткий срок философом. В сравнении с поэзией текущего дня контраст разительный: огромное множество лирических опусов повествуют только о коллизиях в сознании эгои-стичного сочинителя и совершенно не становятся актом взаимопознания поэта, читателя и общества.
В одном из упомянутых стихотворений Николая Беседина есть очень важная мысль о бытийном союзе веры и рода, что так важно для русского человека сегодня:
Кто чужд истокам, чужд и небесам,
Проклявший семя будет проклят сам.
Возмездие судьбы неотвратимо
Над тем, кто делит то, что неделимо.
Кто чужд истокам, чужд и небесам.
И автор обращается к древней русской истории, ска-зовым сюжетам, видениям, соединяющим современность с Русью. В «Стоянии на Угре», полном предчувствий и воспоминаний, «вызревает печаль над лугами в туманах. // И рождаются тени на том берегу // В малахаях, со стрелами в желтых колчанах».
Прозвучал колокольный призыв вдалеке
И умолк.
Русь, как в сон, погружается в небыль.
Никого. Только мальчик стоит на песке
Возле самой воды, отражающей небо.
Тут и надежда на новое поколение, и на очищение («возле самой воды»), и на небесную силу – все те же упования исподволь характеризуют и наше время. В «Братине» изображена картина житейского и духовного разорения родной земли. Мать попросила утолить жажду «влагой зоревой», но не стала пить «росы луговые» ни из серебряного ковшика, ни из туеска березового, а по-дала сыну братину:
Людям отнеси.
Что нальют, насыпят ли —
Все приму я, грешница.
Мало ли наварено яства на Руси?
Здесь слышатся ритмические и образные отголоски великой некрасовской поэмы, однако сюжет баллады сжат символическим отображением реальности и решен в духовном ключе. Собрал сын в братину «горе горькое», «слезы да пожарища с кровью пополам», «голод и позор», вкупе с усталыми надеждами и темным похмельем «злобу и раздор», «горсть золота: – Подавись ты, мать!». Все матушка «выпила, не охнула» и потом «родимая, как травинка сохнула. // И стояла братина около икон».
Заметим, что мать назвала себя грешницей и приняла все людские беды и зло как свои. Перед нами еще один пример жертвенного пути грешного человека. Только жертва и молитва спасительны для Руси – как много веков тому назад, так и сейчас.
В «Братине» показано русское «лихо» (причем только в какой-то степени предметно, в основном – через жи-тейские явления, но очень узнаваемо). А благо – или то, что русскому человеку стоит беречь в окружающем мире и в себе самом, – представлено на редкость ассоциатив-но и выглядит скорее правилом либо наставлением в стихотворении о страннике («Шел по свету странничек…»). Его удивительный «посох тоненький крепости невиданной» был сотворен не из «дуба крепкого» или «камня лепого», а из «рокота речек», «лесного шороха», «травы печалицы», «ржаного зернышка», «веселой радуги в росах подорожника», «кровинки отчей»…
Деревянный или каменный посох скорее свойствен западной мифологии и умонастроению – в таком поход-ном атрибуте есть нечто инструментальное с набором функций.
Тогда как перед нами – опора, соединившая в себе звуки и картины, чувства и приметы, а также творящую руку – с землей-кормилицей. Для рационального ума тут присутствуют неуловимые для практического приме-нения атрибуты мира и жизни, за которые и сегодня по-рицают «неправильного русского человека». А ведь с таким посохом странник легко преодолевал горе и беду, перед ним склонилась «вся земля широкая от горы до колоса», «поклонилось звездами небо предрассветное», потому что он дарил им мистически необъятную «надежду вечную в доброе и светлое».
Вспомним упования человечества на Россию. Они звучат достаточно отчетливо в этом поэтическом мифе Николая Беседина. Баллада-видение о княжеском гонце, заночевавшем на берегу реки Оскол, пронизана тревогой. Еще звенит ночная тишина, пламя костра спокойно, а «медлительная Русь спит в теремах и огнищах былинных». Только «мать склонилась над уснувшим сыном, // Предчувствуя всем сердцем смертный груз», и старый воин, «в забытьи тревожном, // Культяпой кистью проводя по ножнам, // Все смотрит неотрывно на восток». Но вот костер догорел, и «горизонт взметнулся от пожара». Гонец сгребает тлеющие угли, «идет к лодье и доста-ет багор»: оттолкнувшись от берега, по течению реки он «дальше понесет беду»…
А ведь в самом начале стихотворения автор, видя отблеск у речной воды, задается вопросом: «Кто у костра? Турист ли отдыхает, // Или уставший княжеский гонец?» И стягивает времена тем самым, напитывает древними приметами настоящий день. Мастерски прописывая де-тали, будто живописец, погруженный в историю, он соз-дает перед глазами читателя картину былого нашествия и словно говорит: общая на всех беда может быть пре-одолена лишь совместными усилиями.
В лирике Николая Беседина словарь, обнимающий собой традиционную предметность мира – семейную, крестьянскую, природную, воинскую, – составляет фун-дамент его стихотворной речи. Соединяясь с душевными коллизиями автора и публицистикой, этот словарь, будто якорь, удерживает поэта в пространстве важнейших тра-диционных понятий, которыми поверяются новые реа-лии.
В поэтической интонации Беседина есть ноты стис-нутого волей страдания – угадываются и безмерная печаль, и внутренние душевные скрепы, что все еще держат ее на полувздохе рыдания. Для русского жития это узнаваемое состояние. В нем затаенно присутствует вера в то, что сегодня все не кончается. А также сосредоточена сердечная надежда на Промысел и на милосердие Божьек мужественному, смиренному и терпеливому человеку.
И очнутся поля от сиротства, безверья и горя, И о верности отчей земле возгласят небеса.
Вячеслав ЛЮТЫЙ,
г. Воронеж











