Читать онлайн Марсианский проект
- Автор: Александр Загорков
- Жанр: Современная русская литература
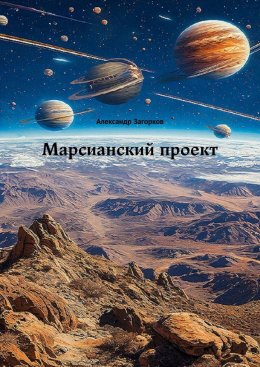
© Александр Загорков, 2025
ISBN 978-5-0065-7134-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
В 2006 году на пленарном заседании Королевских чтений по космонавтике в МГТУ имени Баумана Б. Е. Черток, не моргнув глазом, сообщил, что в Советском Союзе еще в прошлом столетии была осуществлена пилотируемая экспедиция на Марс.
Зал поднапрягся, делая скидку на 90-летний возраст академика. Встряхнув задремавшую публику, Черток уже не давал ей расслабиться.
Речь шла о фильме Якова Протазанова «Аэлита», который Борис Евсеевич, с его слов, смотрел по молодости несколько раз.
С грустной иронией излагалось, как под саундтрек «Вдоль по Питерской» шло освоение марсианских просторов посланцами Страны Советов, и как бойкий красноармеец Алексей Гусев разъяснял простодушной марсианке очевидные земные истины:
«Хочешь любишь, хочешь нет, а у солдата денег нет!»
Этой неутешной аллегорией Борис Евсеевич подчеркивал плачевное состояние нашей космонавтики в начале нулевых, о чем много и публично говорил в то время.
У докладчика были основания на такую оценку, потому что было с чем сравнивать.
Он представлял уже далекое для участников чтений поколение с девизом пионеров ракетной техники «Вперед на Марс!».
Глава 1. О Циолковском
«Остаются две вещи, что не перестают тревожить мое воображение – безграничность звездного неба и загадочность человеческой души»
Иммануил Кант
У истоков философской и технической идеи межпланетных полетов стоит общепризнанная фигура Циолковского, мировой фено́мен которого ассоциируется с выдающимися достижениями отечественной и мировой космонавтики.
К. Э. Циолковский (1857 – 1935)
(istmira.com /опубликовано в интернете)
Имя Циолковского почти сакральное, писать о нем следует осторожно и бережно. Или вообще не писать.
Но писать надо.
Выдающийся российский историк Василий Ключевский в публичной лекции на 500-лктие со дня кончины Се́ргия Ра́донежского задался для себя и почтенной публики Московского университета вопросом:
– Отчего со всех концов Русской земли уже пять веков идут поклониться гробу Преподобного старца люди разных сословий: иноки, купцы, вельможи и просто на селе живущие?
– Редко кто из этих людей, – добавлял он, – дал бы вразумительный ответ на вопрос, когда жил Се́ргий, что он сделал для православной Руси XIV века и чем он был для своего времени?
Но то, что Преподобный благословил Димитрия Донского на Куликовскую битву, знал всякий.
На этой волне вырастали поколения, освобождающиеся от комплексов унижения и страха перед татарином, готовые, как писал неизвестный автор «Слова…», переломить копье о край степи половецкой дабы, испить шеломом Дону!
В этих обстоятельствах имя и дело Преподобного Се́ргия вышло за временные рамки его жизни. Оно захватило сознание других поколений и превратилось в народную идею.
– Деяния Старца, – как сообщил Ключевский, – из исторического факта стали практической заповедью, заветом или тем, что мы привыкли называть идеалом…
Имя Константина Циолковского тоже известно людям разных социальных слоев, как в городах, так и просто «на селе живущих».
Редко кто из них дал бы вразумительный ответ на вопрос: – о чем писал и мечтал Константин Эдуардович? А если бы кто-то и решился прочесть им написанное, то испытал бы дискомфорт случайного посетителя филармонии, который после второго аккорда начинает рассматривать люстру, а после третьего – считать на ней светильники.
Тем не менее, большинство из этих людей написали бы в опросной анкете, не кривя душой, что слышали про изречение Циолковского, что Земля колыбель человечества.
Константин Эдуардович жил на переломе индустриальных эпох, когда появились первые аппараты для освоения воздушного пространства.
В 1783 году шар братьев Монгольфье осуществил вертикальный полет, в 1853 году планер Джорджа Кейли осуществил горизонтальный безмоторный полет, а в 1903 году братья Райт совершили первый в мире управляемый полёт на самолете с мотором.
Свою первую научную работу по кинетике газов Константин Эдуардович опубликовал 1881 году, после чего занялся техническими вопросами реактивного движения и философскими вопросами освоения космического пространства.
В конце ХIХ века уже появились публикации о перемещениях с помощью реактивной силы истекающих газов. Циолковский понимал физическую природу таких явлений, но ему недоставало математического аппарата для их научного описания.
В поисках инструмента для таких исследований он обратился к основам классической механики Ньютона и закону сохранения количества движения Декарта.
Но они не давали ответа на ряд вопросов. В частности, при истечении рабочего тела уменьшалась масса летательного аппарата, что не рассматривалось в учениях Ньютона и Декарта.
Для математического описания траекторий полета таких тел Циолковский разбивал время движения на малые интервалы, внутри которых текущая масса аппарата менялась мало и принималась за постоянную величину. Это позволяло определить квант приращения скорости по законам классической механики.
Суммируя такие кванты по траектории полета, Циолковский, по сути, решал задачу численного интегрирования параметров движения тела переменной массы.
В мае 1897 года он изложил результаты своих изысканий в рукописи «Ракета», где привел известную формулу расчета приращения скорости ракеты в зависимости от удельного импульса двигателя (отношение тяги к секундному расходу топлива), стартовой массы ракеты и массы ее топлива.
Позже ее назвали формулой Циолковского.
Фрагмент рукописи Циолковского «Ракета» с формулой его имени (boosthost.ru/опубликовано в интернете)
Проводя с ее помощью расчеты и анализируя полученные результаты, Циолковский пришел к выводу о невозможности достижения первой космической скорости с помощью одноступенчатых ракет, после чего выдвинул идею создания многоступенчатых ракет.
Результаты подобных исследований были опубликованы в мае 1903 года в статье «Исследование мировых пространств реактивными приборами», которая была переиздана в 1911 году и дополнена в 1926 году.
В этой статье Циолковский сформулировал свое хрестоматийное кредо:
«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели… Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство.»
Такими же работами занимались Роберт Годдард в США, Герман Оберт в Германии, Фридрих Цандер и Юрий Кондратюк в России, а также многие другие пионеры ракетной техники. Однако Циолковский был среди них первым, что общепризнано миром
Но не это было главным. В отличие от других Циолковский занимался не только техническими проблемами, но и в бо́льшей степени духовными вопросами освоения космоса, которые были для него приоритетными.
Он писал, что главным своим достижением считает работы по космической философии и этике, раскрывающие смысл жизни и цели человечества на пути к совершенному и прекрасному будущему.
Это глубинные процессы человеческого миропонимания. Подуставший от жизни Иммануил Кант писал на склоне лет: « Две вещи не перестают тревожить мое воображение, безграничность звездного неба и загадочность человеческой души».
Коротко и почти обо всем!
Обычный же человек живет и мыслит проще. «Забывчивостью дня вершится его жизнь с ее насущным хлебом». Треть бытия он спит, другу треть выясняет отношения на работе, а в оставшееся время обустраивает быт и растит детей, реже воспитывает.
По-другому не получается, ибо: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», по словам основоположника марксизма.
Но ведь и с нами грешными случается стих, когда жизнь тряхнет, напоминая о себе, без вариантов на снисхождение. Тогда пробудившись, мы обнаруживаем вокруг себя огромный мир, который был до нас, будет после нас, и которому нет дела до нас.
Последнее уже перебор. Человеческое естество протестует, и уже почти кипит наш разум возмущенный. Но твердит сомнительная истина, – восстань, восстань да покорись!
И все же не таков наш человек, чтобы спать спокойно после подобных откровений. Ему вынь да положь, – зачем обозначился он на Белом свете, да еще и маялся после этого!
Для думающей публики это болезненная и даже опасная тема. В таком состоянии человек свободен от общества, в котором живет, но не от мироздания, в котором существует.
И тогда неизбежно возникает вопрос:
– А куда же дальше из колыбели?
Вот это «куда» вышло за временные рамки жизни Циолковского и захватило сознание многих последующих поколений…
Сотни архивных документов свидетельствуют о переписке ученого с современниками. Писали простые люди, выдающиеся деятели страны и руководители государства.
В 1923 году Валентин Глушко, тогда еще никому не известный пятнадцатилетний подросток, писал ему из Одессы, что уже более двух лет интересуется проектами межпланетных и межзвездных путешествий.
Автор письма утверждал, что его потребность в этих поисках укрепила статья Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами».
В 1932 году Максим Горький телеграммой поздравил Циолковского по случаю награждения орденом Трудового красного знамени. Ученый был растроган.
Их заочное знакомство состоялось в 1928 году, когда Циолковский отправил писателю несколько своих брошюр. Сегодня они хранятся в музее-квартире А. М. Горького в Москве.
Активную переписку с Циолковским вели сотрудники московского Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ). Летом 1935 года Константин Эдуардович был избран почетным членом его Научно-технического совета.
Начальник института И. Т. Клеймёнов, писал ученому в феврале 1934 года о создании в РНИИ базы для научно-технического развития идей Циолковского. Между Вами и институтом необходима тесная связь, – добавлял он, – и просил о возможности посетить ученого тремя-четырьмя работниками РНИИ в ближайшее время. В ответ пришло лаконичное приглашение: «Приезжайте 14 февраля 34 г.».
М. К. Тихонравов, работавший сначала в московской группе ГИРД, а затем в РНИИ, воспоминал, что однажды Иван Клейменов пригласил его поехать в Калугу к Константину Эдуардовичу.
«Сам я, возможно, и не поехал бы, – отмечал Тихонравов, – работы было много, да и Циолковского мы как-то немного подзабыли».
У руководителя РНИИ забот было не меньше, но потребность посетить ученого оказалась весомее.
В Калугу они прибыли 17 февраля 1934 года, остановились в Доме офицеров. В этот же день посетили Циолковского. Показали ему материалы по разработкам первых ракет РНИИ, пробыли у него целый день и на прощание сфотографировались.
Циолковский был тронут, и попросил разрешения показать фотографии друзьям. Клейменов и Тихонравов были сотрудниками закрытого военного института, но Циолковскому в просьбе не отказали.
Сейчас эти фото широко известны, оставаясь уникальными свидетельством общения ученого с руководителями первых ракетных разработок в нашей стране на государственном уровне.











