Читать онлайн Стояние над небесами. Книга стихотворений
- Автор: Людмила Банцерова
- Жанр: Стихи и поэзия
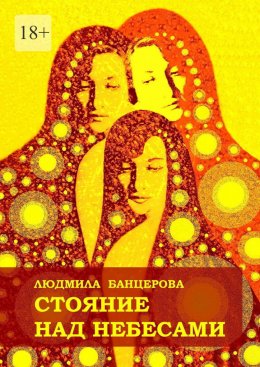
Редактор Владимир Борисович ОРЛОВ
Редактор Владимир Юрьевич ВОРОНОВ
Предисловие Елена Николаевна КРЮКОВА
Предисловие Владимир Борисович ОРЛОВ
Дизайнер обложки Людмила Васильевна БАНЦЕРОВА
Художник-иллюстратор Людмила Васильевна БАНЦЕРОВА
Корректор Людмила Анатольевна АНИСАРОВА
Корректор Татьяна Клавдиевна АФАНАСЬЕВА
Статья Владимир Юрьевич ВОРОНОВ
Статья Елена Николаевна КРЮКОВА
Статья Елена Владимировна СОМОВА
Заметка Ольга Владиславовна ЖУРАВЛЁВА
Фотограф Елена Васильевна БАНЦЕРОВА
© Людмила Банцерова, 2025
© Людмила Васильевна БАНЦЕРОВА, дизайн обложки, 2025
© Елена Васильевна БАНЦЕРОВА, фотографии, 2025
ISBN 978-5-0065-6269-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сестре Елене и брату Василию посвящается
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЗЕРКАЛО, ОТРАЖАЮЩЕЕ МIРЪ
О поэзии Людмилы Банцеровой
Поэт – проводник: с Этого Света на Тот Свет, а потом и обратно; его Бог сбрызгивает, для жизни бесконечной, сначала мёртвой, потом живой водой, и из бездны отчаяния выныривает он, и вот он уже полон сил и надежд. Поэта ничем не победишь и ничем не проймёшь, если речь заходит о его служении; и в то же самое время всё пронзает его навылет, он – некая всепроницаемая мембрана, живая и страдальная граница между мiрами.
Поэт Людмила Банцерова создаёт свой собственный миф. Он зашифрован, он закрыт завесой привычного быта, но вот занавес повседневности резко распахивается, и из груди вырывается крик; и быт становится Бытием – тем космическим (и даже космогоническим!) пра-Бытием, и тут поэт превращается в древнейший инструмент, коим создавался прорастающий из Матери-сырой-земли, Материи, вечный Дух.
Работа Духа – вот что непреложно ощущается, когда окунаешься в море Людмилы Банцеровой, плывёшь в волнах её поэзии. И что крайне важно: это поэзия не столько с опорой на драгоценность собственной лирики, сколько на Мiроздание. Это происходит потому, что поэт слишком остро, ножево чувствует Танатос, – под бессонным взором Смерти, этого вечного стража наших земных усилий, мы приучены жить, – а великую и нескончаемую жизнь природы ощущает как предвечный Эрос, вернее сказать, как изначальную, солнечную и снежную Агапе.
Смертная пустота, тёмная глушь, пронизанная далёкими рыданьями уже ушедших – мы можем их лишь помянуть в молитвах своих да рюмку в годину поднять, – всего лишь повод для тотального объятия, даруемого всем и Всему:
- Весной деревья ходят по земле,
- по сквознякам болезным, льющимся дорогам.
- Они, наверно, поцелованные Богом,
- растут в небесье-птичьем – медленном крыле.
- Когда падут, когда сраженье призовёт
- ветвями тонкими вонзиться в мирозданье,
- всех вас почувствую, услышу по рыданьям —
- из всей глуши, из всех губительных пустот.
Смена времён года. Шелест листвы. Аромат цветов. Журчанье безостановочно текущей реки. Вереница дел насущных, крепко привязывающая человека к земле. Вереница трагедий, нас от земли отвязывающая, чтобы мы, с лицами, слезами залитыми, подняли очи наши к небесам, поняли крепчайшую связь живых и тех, кто уже в земле. Людмила Банцерова слишком близко живёт к земле – она плоть от плоти и кровь от крови родной земли, и её жизнь, что кажется лишь травинкой на холодном осеннем ветру близ крестьянского дома, в стихах неизъяснимо преображается, и это подлинная метанойя, это настоящее посвящение, дарение себя Господу и судьбе.
Но не подавляет у Людмилы изображение подлунного Мiра контрапунктная тема Бога, не ставится на Божественном ортодоксальный акцент, и тем более не эксплуатируется религиозный мотив сентиментально и умилённо. Душа живая прекрасно помнит завет Нагорной проповеди: «Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное… Блажени плачущии, яко тии утешатся». И высшее роскошество поэта – свобода. И высшее наслаждение – дощатая бедная, старая лодка.
Людмила Банцерова на ощупь ощущает мистику преображения. «Не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (апостол Павел, Первое послание к коринфянам). Смятение, волнение, сомненье, страсть – все они предполагают, что тот, кто их испытывает, имеет возможность родиться заново, шагнуть в пропасть-бездну главного мифа Земли – мифа об умирающем и воскресающем Боге.
А человек? Может он умереть и воскреснуть?
Господь Своею смертью на Кресте сказал нам всем об этом.
И Людмила шлёт свою любовь не только природе, полной чудес, но и Времени: она видит давно прошедшие дни, и она глядится в зерцало будущего.
А там, там – снова берег, который надо покинуть, с которым попрощаться надо… там нежный плеск родной волны, там твой шаг становится невесомым, ибо в солнце, под солнцем ты идёшь, облитая, пропитанная, как хлеб вином, его лучами, и это твой единственный свет, это твоя единственная любовь, это твоя единственная жизнь.
- Весною ранней чьи-то губы целовать,
- роскошествовать вволю, не найдя начала.
- Душою тонкой оттолкнуться от причала,
- в дощатой лодке плыть – вот благодать!
- …И вот ведь, Господи, такого воздуха нагнать —
- такого, может, первородного смятенья
- и скорого на целый шаг перерожденья,
- и всё в зеркальном облике зарифмовать.
- Так велено теплу, и я пока что здесь,
- ниспосланы сегодня лёгкие хожденья,
- пчелы злачёная навязчивость гуденья.
- Господь, возьми и эти дни уравновесь…
- Во днях – есть только воздух, млечны вечера́ —
- рассыпаны до одури, плывут по ре́кам —
- воинственными римлянами, греками…
- Ох, как же ты, река моя, ко мне добра.
Спасение…
Человеку нужно спасение. Он часто тонет. Не удерживается на плаву.
Да что там, тонет он безостановочно, постоянно – то в горестях, то в мелочах неотложности, то в заботе о близких, то в той страшной бессловесной пустоте, что рядом, за спиною, под ногами, – и кто как может спасается, пытается превратить пустоту в густоту жизни, чем угодно спасается: то праздником, дружеской пирушкой, то громом победы, то любовью (не предай любовь! не убий! не укради!..), то внезапной тишиной – и в ней, в тишине, стихотворение, выплеснутое из сердца, звучит подобно слёзной молитве.
И идёт поэт по дороге тишины. И поёт поэт песню тишины. И обращается эта песня в ночи в неизреченный Божий свет. И слышна поэту речь Бога – да все поэты, от Сотворения Мiра, беседовали с Богом, и да будут благословенны те поэты, что эти разговоры смело записали, и те люди, что эту музыку тишины – услышали.
- Переулок мой исхоженный затих —
- по шагам меня, по лёгкости узнает.
- Говори со мной! И в днях мирских
- что прибудет, что доковыляет?..
- Расплескалась где-то юность по дворам…
- Может, пригожусь в чужой окраине.
- Прирасту к деревьям тонким, облакам.
- Я давно твоею раной ранена…
- Говори со мною, Боже, говори
- лунным светом, днями окаянными.
- Песнь моя – дороги, пустыри,
- песнь моя – до дрожи покаянная…
- Говори со мной, не мешкай в ноябре,
- словно окнами небесными, субботними…
- Жизнь мою пока ещё не о́тняли.
- Вот и снег пошёл… тире, тире, тире…
И когда Людмила Банцерова в строфе говорит «ты», это одновременно и далёкий любимый, и таинственный незнаемый собеседник, и Господь, к которому всё время, как подсолнух, повернута взыскующая земной правды и небесной любви живая душа. Душа – мистическое слово, находящееся на грани бытия и небытия, Эроса и Танатоса, земли и неба – в той точке Омега, о которой твердил палеонтолог и богослов Тейяр де Шарден, на той границе окоёма, где совмещается видимое и слышимое, мыслимое и немыслимое. Стихи Людмилы Банцеровой, все, в совокупности, и есть душа; она записывает их, живя на этой земле, здесь и сейчас, и одновременно они словно бы зафиксированы, запечатлены – ею самой – из Иных Времен, они словно спущены нам, сюда, на серебряных нитях с широких небес, и вот они превращаются в дрожание сфер, в двояковыпуклую линзу боли и радости, в призрачное состояние, когда ты, живой нынешний человек, становишься древним зеркалом, гладко обточенным обсидианом, отражающим отсюда, из сугубой реальности, из привычного нам метроритма, из сонма вещей, к коим мы привыкли, притерпелись, – Неотразимое и Несбывшееся.
То самое Несбывшееся, о котором шептал Александр Грин («Бегущая по волнам»).
То самое Неотразимое и Невыразимое, о котором размышлял о. Павел Флоренский («Столп и утверждение Истины»).
- Я всё бы тебе отдала, так и знай, лишь бы помнить
- за ветки подвязанный сад несмертельным узлом.
- Задышит молчаньем порог охраняемых комнат,
- и я вдруг подумаю: «Всё, мне с тобой повезло!»
- Пристроишься где-нибудь там, на высоких ступенях
- застывшего к полдню, безветренного городка…
- Дворовая кошка проспит у меня на коленях
- всю жизнь – и свою, и мою, не спросив молока.
- Я всё бы тебе отдала, так и знай, если б взял ты
- мой дом – обездоленный кров, что оставишь взамен?
- Но длинную песню поют небеса, музыканты —
- я слышу, я вижу, веселье разбилось у стен…
- Забуду ли город: по улочкам южным, сплетённым,
- мне долго идти по расщелинам этих времён.
- Я выйду в старинные дворики росчерком тёмным —
- рукою подать до око́н, до зелёных знамён.
Летящий снег у Людмилы вдруг становится крестом – и отсюда лишь шаг до того, надмiрного Креста. А тетрадь, бумага вдруг обращается в световую материю, начинает излучать. И самосветящийся Мiръ весь укладывается в ладонь, и пространство пристально глядит Временем, и всему под луною дан голос, всё сущее говорит с человеком, кричит, шепчет, исповедуется, плачет, улыбается, поёт, – и Космос рядом, мы все живём в открытом Космосе, мы идём по его заснеженной, замёрзшей кромке, мы учимся идти по ней легчайшим шагом, так мы из тела постепенно становимся душой, так при жизни учимся быть занебесными ангелами, так понимаем: есть алфавит жизни, и смерть это тоже жизнь, и небо это тоже земля, и зимняя заледенелая ветвь может стать Божественной длиннотой, как музыка Шуберта и Малера, и лёд под ногами может звенеть библейскими систрами и тимпанами, и зима, кою многие воспринимают как ежегодное бедствие, повинную застылость, белое умирание Матери Природы, вдруг обретает жизнетворное начало, и человек опять жив снегом, что летит наискосок в распахнутую дверь, что бьёт в стекло окна, в румяное на морозе лицо, в дрожащую на ветру, полную стихами душу.
- В холодном небе почерк воробья
- скользит, и я ему почти что верю.
- Сжимается пространство бытия.
- Крестообразный снег летит за дверью.
- Недолго будет так, лишь до весны,
- до первого земного притяженья…
- Как хочется привычной тишины,
- да Божьего вселенского прощенья…
- Но длится ночь, дыханье затаив.
- Вот улица – ей фонари подвластны.
- Вот человек – входящим снегом жив,
- в миру́ живёт себе негромогласно.
- А между тем земная благодать —
- полынных, мёрзлых островков сраженье.
- Я запишу в лучистую тетрадь:
- ветвей длинноты, сердца отраженье…
- Сожму в руке пространство бытия —
- оно откликнется – звездой, снегами,
- и зазвенит негромко полынья,
- как будто бездна вспыхнет под ногами.
Ах, какие простые слова! Откуда они?
Из души.
Какое солнце! Где оно светит-горит?
В душе.
Живая мистика души есть мистика Природы. Всего, что растёт, цветёт, зреет, падает на землю; поглощается землёй; восходит над землёй. Мистика человека есть мистика земли. Мистичность поэзии, в особенности русской, – исповедальность; а исповедальность есть длящийся, тянущийся – паутиной над летом, клубами Млечного Пути ночами – разговор с Богом. У Людмилы Банцеровой он не прекращается. Сама поэзия есть такой разговор; и свет изобильного, жаркого, радостного летнего дня символизирует остановленное мгновенье, мечту гётевского Фауста, бесконечно струящееся вдаль Время, которое обняли и вдохнули – до дна лёгких, до дна жизни.
- Лёгкие простыни,
- свет из окна.
- Верится, Господи,
- что не одна.
- Липы просвечены,
- сонно вокруг.
- День этот венчанный,
- солнечный круг.
- Видится, слышится,
- будто в тиши,
- травы колышутся
- в сельской глуши.
- Душно мне, душно мне,
- лето стоит…
- Сливами, грушами
- сад мой глядит…
Людмила Банцерова счастлива этим летним днём. Этим мгновеньем.
Она счастлива всей, в совокупности, вечностью.
Она счастлива тем, что голос ей дан, и он звучит, летит над землёй.
Дай Бог, чтобы так было и впредь.
Как наш великий Фёдор Шаляпин поёт: «О, если б навеки так было…» (Мирза Шафи Вазех, перевод П. И. Чайковского и Ф. Боденштедта, музыка А. Рубинштейна).
Елена Николаевна КРЮКОВА,поэт, прозаик, искусствовед,член Союза писателей Россииг. Нижний Новгород
СЛОВО О ПОЭТЕ
В настоящее время творчество Людмилы Васильевны Банцеровой, уроженки Рязанской провинции, представлено весомо и достойно.
В активе автора с обширной библиографией семь поэтических книг, а с нынешней – «Стояние над небесами» и связано это предисловие.
Безусловно, в биографии Людмилы Банцеровой следует отметить значительный жизненный опыт, чему способствовало широкое и разнообразное гуманитарное образование (Калужское училище культуры, исторический факультет Рязанского государственного педагогического университета и Литературный институт им. М. Горького), её состоявшееся личностное совершенствование как интеллигента-интеллектуала с критическим мышлением, самоанализом, увлечение чтением, общение в писательской среде и работа библиографом в централизованной библиотечной системе.
Данные обстоятельства и повлияли на становление мировоззрения и «эволюцию» качества поэтических произведений, позволили раскрыть творческое мастерство до общероссийского масштаба и заслужить уважительное, «просветлённое» отношение как коллег-писателей, так и представителей критики и почитателей современной поэзии.
Публикации книг «Тёплые ливни», «Мои светотени» (2023) и нового сборника «Стояние над небесами» (2025) и утвердили становление обновлённого стиля поэта, а «движущей силой» творчества стало более утончённое, акцентированное поэтическое видение действительности, сопоставимое с лучшими художественными образцами, без соблазна подражательства (не придавая вторичности творчеству).
И не имея личной цели амбициозных успехов и лидерства. Развитые способности работы с поэтическими текстами, насыщенными искренней эмоциональностью, природная музыкальность, доставшаяся от родителей – педагогов-музыкантов, самоконтроль и критичность вкупе с ответственностью, понятие писательского долга – дали правильный вектор творческих исканий.
И как закономерный итог признания зрелости литературного творчества – приём в 2024 году в Союз российских писателей (с рекомендацией и представителя Союза писателей России – известного поэта, искусствоведа и литературного критика Елены Крюковой).
И это литературное и общественное событие воспринимаю ярким и соответствующим канонам классического содержания сущности и звания Поэта, отражающего мировоззрение человека многогранно развитого, с патриотической и гражданской позицией и познавшей жизнь «полной чашей» трудностей и испытаний.
Людмила Банцерова – человек-стоик, сумевший развить авторский литературный стиль до профессионального мастерства и жёсткой, принципиальной его самооценки, и ценящей при этом каждый свой день и день чьей-либо жизни как величайший дар бытия, а слово – как инструмент взаимодействия с миром не с созерцательной позиции, а созидательного, гуманистического отношения к нему в единой целостности человека и природы.
Слово в её поэтических текстах – не проходное, занимающее место по благозвучию, ритму, рифме, а живое, с оттенком чувств и эмоций, детализацией сцены происходящего, с голосом свидетельского соучастия и искреннего сострадания, оно наделено палитрой цветов и их полутонов – живописно; оно лишено гордыни и самолюбования, дышит жизнью и смотрит через созидание в грядущее.
Будучи личностью музыкальной, поэт тонко чувствует звукопись, аллитерацию и удачно использует этот приём повышения художественности образа.
Метафора – не ради метафоры и «особенной зрелищности» на грани «возможного», а авторский поиск нестандартного образа и сравнения, эмоционального фона и глубинной (часто философской и духовно-философской) сущности в содержании и композиции стихотворения, для раскрытия психологического состояния как творческой задачи.
Автор умело использует богатый словарный запас литературного языка, его исконную доверительность и доброту, исповедальность – как особое откровение сердца.
В стихотворениях нет сентиментальности, елейности или угодничества в какой-либо теме и, соответственно, и нет впечатления декоративного украшательства в поэтической ткани, как нет «нагромождений» и «вольности» потока сознания, что встречается у современных авторов.
Сюжет стихотворения произрастает из доверительного посыла автора, настроя на сокровенный разговор (как равный с равным), без пафосности и назидательности.
И сама поэтическая организация текста, являясь по своей природе женственной, чувственной, ранимой, склонной к переживаниям, – несёт в творчестве Л. Банцеровой и глубинную рассудочную роль, восходящую до философского и библейского осмысления жизни человека, его бытия, отношения к вере и Богу.
Если представить систему координат стихотворений поэта, их жизненное и ментальное пространство, то ключевыми вехами в них будут понятия: Человек, Время, Пространство, Вера и отношение к Богу, смысл бытия, а ещё память, в которой «растворено» всё наше дорогое, близкое и, конечно, любовь со всеми гранями и житейскими коллизиями.
Именно через бытописание, будни и проблемы простого человека стихи побуждают осмыслить место каждого в жизни, выстроить и выстрадать свой ряд непреложных ценностей, осознать свою мечту и следовать за ней.
Народность – истинный фундамент поэзии, в ней её корни, история, архетипы, традиции и родниковая чистота и сила жизни.
Истокам и существу народности привержены поэтические произведения Людмилы Банцеровой.
И заглавие книги «Стояние над небесами», думаю, следует считать поэтическим служением, кредо – быть духовным ратоборцем добра и идти путём трудным и жертвенным. Иного – не дано. И на этом пути поэзия Людмилы Банцеровой заслуженно приближается к первому ряду поэтов России.
Стихотворение «Облака» – не только поэтический эпиграф ко всей книге «Стояние над небесами», он представляет квинтэссенцию личной манеры творческого самовыражения, сгусток эмоций, переживаний с переходом от лирического к драматическому содержанию, и в нём новые горизонты поиска – от верлибра до прозы…
В нём грусть о скоротечности всего житейского и надежда, вера во всё согревающее душу: «…Доживу, я надеюсь, до звука, до скорби проталин, / до полётов крикливых обиженного воробья.» и мотив противления озлобленному и недоброму:
- …Вот мои облака – так возьмите ключи, Геростраты,
- подожгите зимовьем дороги, пороги, дома.
- В этих грустных краях облака переменам не рады,
- в этот злой снегопад ни записки в двери, ни письма,
- ни простых новостей – только улиц пяток угловатых…
В эпиграфе и особая духовная ипостась Поэта – стоять поэтически на земле и быть над облаками, и зрить в горнее небо, с покаянием и взыскующе…
И всё-таки, убеждён, «раздёргивать» текст на цитаты не всегда правильно. Каждая строка живёт на своём месте и связана с другими, разрывая их, мы что-то не договариваем и, возможно, искажаем нюансы смысла и чувствования. Поэтому «пройти книгу» надо рядом с распахнутой душой Людмилы Банцеровой, вычитывая внимательно её текст, и в каждом стихотворении найти свои отголоски бытия, свои ассоциации, увидеть свой свет, даже в полуночный час и испить свой глоток надежды через любовь к большой и малой родине, и обрести себя в себе не с позиции «Эго», а общечеловеческих ценностей и благородства души. И постичь не мнимую, а истинную драгоценность и важность наших простых буден:
- …Всё меньше времени… Плащами нараспашку —
- спешат прохожие по мартовскому дню.
- Где тот святой, который мне отдаст рубашку
- последнюю свою – у сердца схороню.
- Куда ни обернись, повсюду тлеет зимами
- скупой пейзаж… Как на ладони призрачны мосты.
- И снятся дети мне святыми Серафимами,
- снующими в проулках, улочках пустых…
А способны ли мы (и как часто) вложить добро в душу страждущего? Каждый ответит сам или не ответит…
И несколько «портретных» строк к образу самой поэтессы, её желаниях, помыслах:
- …Как хорошо по набережной мне
- бродить с утра среди летящих чаек.
- По улочкам в тишайшей тишине
- вот так идти, судьбы не замечая…
- И днями, и ночами в лодке плыть
- и ощущать насквозь глубинность днища.
- И на земле среди людей побыть —
- копейкой малой прозвенеть у нищих…
- _______
- …Напутствую вовсю и тереблю начало.
- Не бойся встретить этот взгляд – восточный мой разрез…
- Не хватит всей окружности и интервала,
- когда над головой моей стояние небес…
Надеюсь, прочтя эту книгу-откровение, вы почувствуете схожесть с поэтическим языком общения автора, и вам покажется, что где-то на рязанских улочках проходили рядом с ней или встречались на поэтических праздниках.
Владимир Борисович ОРЛОВ, Председатель РРО ООО «Союз российских писателей»,почётный работник культуры и искусства Рязанской области
СТИХОТВОРЕНИЯ
ОБЛАКА
- Вот и встали мои облака надо мной, вот и встали
- в эти зимние, страшные вехи державной зимы.
- И земля под ногами – близка, но простужены дали:
- так уходят сады от меня, словно глухонемы.
- Так уходят с презреньем леса (их осколок хрустален)
- от меня, от верлибра свободного, от бытия.
- Доживу, я надеюсь, до звука, до скорби проталин,
- до полётов крикливых обиженного воробья.
- Вот мои облака – так возьмите ключи, Геростраты,
- подожгите зимовьем дороги, пороги, дома.
- В этих грустных краях облака переменам не рады,
- в этот злой снегопад ни записки в двери, ни письма,
- ни простых новостей – только улиц пяток угловатых.
- Оглянись невзначай, не проспи эти тусклые дни.
- Перепрыгни в другие реалии через ограды,
- там Вергилий наточит, настроит свои шестерни.
- Я по окнам гляжу и теряюсь как будто во времени.
- Облака надо мной – как устала я их лицезреть.
- Не со зла устыдили меня дурачками-Емелями,
- неспроста у буржуйки даровано слово прогреть.
- Гонит ветер заблудших людей до намоленной пристани.
- Догорают в домовьях огни, догорают в ночи.
- На меня что ж вы смотрите, вечные странники, пристально —
- облака, облака! Жду – весною прибудут грачи…
ТЕЛО ТВОЁ
- Долго шептать, согреваться от райской лучины
- женщине давних времён, под конвоем грачей.
- Тело твоё молодое когда-то болело мужчиной,
- ярыми красками солнца и страхом ночей.
- Словно ничей этот снег, остракизмом проверенный,
- входит во тьму, создавая собой полотно.
- Женщина давних времён растворится у берега —
- снегом уйдёт голосящим, метелью – не всё ли равно?..
- Тело твоё молодое, о Боже, болело дождями,
- судными днями! Идёшь и волочишь свой крест.
- Только вот сердце кричит – прибивают гвоздями,
- где-то в безветренных кущах незлобных божеств.
- Так и плывёшь, и стоянье над небом своё проклинаешь.
- Улицы те, что вдали разбрелись и смеются в ответ.
- В доме твоём полынья, но ты всё-таки домохозяешь.
- Ветер под окнами – время присядет на твой табурет.
- Вбит перекрёсток судьбы в огневые проталины.
- Вот деревушка да холмик на бренной скользящей земле.
- Тихо в домах, засиделись Степановичи да Витальевны.
- Птицы лютуют в гнездовьях, отпущены – навеселе.
- Дом на окраине, пёс – всё когда-то ведь было же?..
- Зрелое семя снегов прорастёт там, где вязнет сапог…
- Только и вспомнит родня о тебе – голубиное крылышко —
- милая схимница, хрупкая пташенька зимних дорог.
- Ветками мёрзлыми бейся в окно, может кто-то услышит.
- Плачь перед Богом, беззвучно живи в снегопад.
- Время уже навострило сегодня страдальные лыжи.
- Время уже заприметило твой немигающий взгляд…
«Я всё бы тебе отдала, так и знай, лишь бы помнить…»
Я всё бы отдал – только бы припомнить…
Хорхе Луис Борхес
- Я всё бы тебе отдала, так и знай, лишь бы помнить
- за ветки подвязанный сад несмертельным узлом.
- Задышит молчаньем порог охраняемых комнат,
- и я вдруг подумаю: «Всё, мне с тобой повезло!»
- Пристроишься где-нибудь там, на высоких ступенях
- застывшего к полдню, безветренного городка…
- Дворовая кошка проспит у меня на коленях
- всю жизнь – и свою, и мою, не спросив молока.
- Я всё бы тебе отдала, так и знай, если б взял ты
- мой дом – обездоленный кров, что оставишь взамен?
- Но длинную песню поют небеса, музыканты —
- я слышу, я вижу веселье разбилось у стен…
- Забуду ли город: по улочкам южным, сплетённым,
- мне долго идти по расщелинам этих времён.
- Я выйду в старинные дворики росчерком тёмным —
- рукою подать до око́н, до зелёных знамён.
- Припомню ли сад, виноградник, растущий за домом.
- Я в городе этом теряюсь, ладонью касаясь – люблю…
- Не спрашивай, здесь ли жила, с рыбаками знакома —
- да нет, я пытаюсь припомнить о том, что скорблю…
- Я всё бы тебе отдала, только б небо случилось —
- взошло в скорлупе грозовой-медовой у меня над строкой.
- Волошинский дом где-то там на подъезде лучится,
- маячит белесым окном – но теперь от меня далеко.
- Прощаясь, я хлопаю дверью, но знает Всевышний,
- что поздние яблоки вам отдаю – под запретом они.
- Давно ведь завишу от яблонь, от косточек вишен.
- Я всё раздала, чтобы поры запомнить земли, сохранить…
- И город, и сад наливаются осенью, медью.
- И я где-то там на словах, на губах у смотрящей толпы.
- Я всё бы тебе отдала… Но спасительно медлю,
- срезаю кусты – обнимая точёные эти шипы.
ТОГДА ВСЕ ЖИВЫ БЫЛИ
- А снег летел и на задворках падал,
- с небес печальных зримо снизойдя.
- А снег летел, наверно, так и надо,
- Божественным касаньем холодя…
- Тогда все живы были, слава Богу!
- И только снег… В излучине дорог
- мерцали фонари, и понемногу
- и день темнел, и освещался кров.
- И было время: Новый год встречали.
- Спускалась шумно с горки ребятня.
- И было слово тихое вначале.
- Тогда все живы были у меня…
- Я помню, громко плакала навзрыд,
- а снег летел, вне всякого сомненья.
- Я доставала мамино варенье,
- а мир уже снегами был сокрыт…
- И старая кровать, и одеяло…
- Я помню, как на стульчике стояла,
- мне было пять, и мир огромен был.
- А за окном нежнейший месяц плыл…
«Нет ничего труднее, чем встречаться с холодной осенью…»
Нет ничего труднее, чем встречи мои с четвергом…
Ференц ЮХАС
- Нет ничего труднее, чем встречаться с холодной осенью,
- бороться со шрамами октября и упиваться просьбами,
- впадать в прострацию и невольно становиться каменной стеной…
- Ведь всё это не зря… Не зря! И повторяется веками…
- Режет, бьёт насквозь по нервам этот чёрный ливень,
- пробиваясь внутрь, содрогая моё наивное естество,
- словно из чугунного чайника льётся кипяток —
- пузырится, погружаясь в темнеющие ручьи, в шальной поток жизни.
- Время будто стиснуто в этих кованых столбах-фонарях —
- замедлило свой ход, зацепилось в привычных очередях.
- Нет ничего труднее, чем встречаться с самой собой,
- и видеть тени деревьев, задыхающиеся островки ветвей – всё не впервой!
- На себе ощущать вибрирующий, кровавый оскал осени.
- Эта странная особа – осень из средневековья – то бродяжкой стучит в окно,
- то заляжет продажной девкой под мостом, среди водных зеркал…
- Доро́га моя каменистая – штрихи да рубчики – всё здесь моё!
- Даже осень эта, врезающаяся в спины людей – всё здесь моё!
- Что может быть тяжелее осени, тяжелее одиночества моего,
- тяжелее фонарных столбов вдалеке?
- Не промелькнёт за углом старого дома зайчик солнца,
- не расчертится небосвод покаянием – не спасётся…
- Ветер срывает улыбки и заселяет тёмными мыслями душу:
- мнит себя праведником – монахом средь осин в эту стужу…
- Хлещет дождик всеми кружевами, всеми полотнами,
- исходит последними каплями по нашим лицам,
- птицам тая́щимся, пересекая землю вдоль и поперёк,
- не давая никому зарок, не возвещая о самом главном…
- Продаём душу свою, словно счастье своё выливаем в канаву,
- не находя жизненной канвы и смысла в своей судьбе…
- Так и слышится: «Нет ничего труднее, чем встречаться с октябрём,
- падать в его бездушные, безжизненные объятья,
- и по всей округе искать исколотые,
- изорванные слова памяти, и сожалеть о многом —
- когда видим октябрь, когда слышим ливни октября, когда…
- Когда не удержать гнездовий своих…»
«Мой тихий день, не исчезай, не тай…»
- Мой тихий день, не исчезай, не тай.
- Дай светом этим вволю насладиться,
- не дай мне утонуть иль раствориться
- в безлюдных переулках невзначай.
- Мой день, а ты такой же, как вчера,
- глядишь сычом на летнее свеченье.
- Я чувствую невольно отреченье,
- а здесь – июль, болючая пчела…
- Не ускользай… дай лодку мне принять,
- что днищем выгорает в лихолетье.
- Закинуты заштопанные сети
- в сарай, и там в углу – стихов тетрадь…
- Не улетай, мой день – тебе простится —
- меня в зато́ченную мглу не отдавай…
- Там, за глазницами – холщовый Рай
- сшивала по минутам, по крупице.
- А если подопрёт отдать меня…
- Забудь!.. Я знала смертные страницы.
- Там в вышине – разбуженные птицы,
- уже не прикупить, не обменять…
- А день – в домах и звуках отболит.
- Где нитку потеряет – ветра взмахи?
- Вон глянь, висят соседские рубахи
- да рядом сад – малиною кровит…
«Ну вот и всё… Окраина в дыму…»
- Ну вот и всё… Окраина в дыму…
- Осиротевшие вдали вокзалы.
- Встречать сегодня плохо одному
- осенний холодок твой запоздалый.
- Ну вот и всё… Вполголоса зову,
- не шелохнусь, не встрепенусь от ветра.
- Последний жёлтый лист упал в траву
- и яблоко, последнее от лета…
- Не передать, как тишина скользит
- по окнам бледным и углам, всё выше.
- Не отвернуться мне от этих зим,
- от воздуха звенящего, ты слышишь?
- Ведь я не помешаю никому,
- вспорхну легко-легко, и за порогом:











