Читать онлайн Международное частное право
- Автор: Михаил Брун
- Жанр: Учебники и пособия для вузов
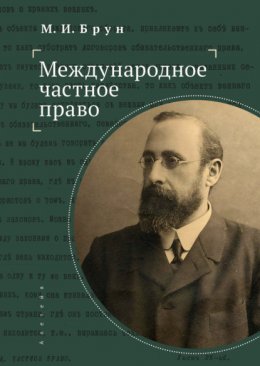
© А. А. Костин, предисловие, 2025
© О. А. Гладченко, составление текста, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025
Роль, место и значение работ М.И. Бруна в современной России
Читатель, пролистывающий страницы этой книги в книжной лавке или просматривающий ее описание с экрана своего персонального компьютера или мобильного устройства может задаться вопросом: зачем ему нужно тратить свои средства на книгу, которая была издана 114 лет назад (1910 г.). Какую пользу он может извлечь из курса лекций, который касается состояния доктрины и законодательства в области международного частного права начала XX в. Для ответа на данный закономерный вопрос обратимся к истории международного частного права на рубеже XIX–XX вв.
В рассматриваемую историческую эпоху международное частное право переживает коренной перелом. Под влиянием разнонаправленного подхода Ф.К. фон Савиньи происходит отказ от теории статутов, которая возникла еще в Средневековье. Одновременно с этим в ряде стран происходит процесс кодификации норм международного частного права, включая: Общий гражданский кодекс Австрии 1811 г. (Allgemeines Bürgerliches Gezetsbuch); Гражданский кодекс Королевства Италии 1865 г.; Вводный закон к Германскому гражданскому уложению 1896 г (Einführunggesetz)[1].
Равным образом, в сфере международных от ношений происходит заключение ряда международных договоров по вопросам международного частного права и международного гражданского процесса включая: 1) Конвенция о судебной юрисдикции между Швейцарией и Францией от 15 июня 1869 г.; 2) Конвенция между Францией и Бельгией о судебной юрисдикции, о компетенции и исполнении судебных решений от 8 июля 1899 г.; 3) иные международные договоры.
Также следует подчеркнуть, что с 1893 г. начинает свою деятельность Гаагская конференция по международному частному праву, которая нашла свою отражение как в заключительных актах по результатам сессии каждой заседания конференции, а также в международных договорах, включая Конвенцию по вопросам гражданского процесса от 14 ноября 1896 г.; Конвенцию об урегулировании коллизий законов в области заключения брака 1902 г.; Конвенцию по вопросам гражданского процесса от 17 июля 1905 г.
В свою очередь в доктрине идет XIX–XX полемика на предмет того, следует ли международное частное право рассматривать как составляющую международного (публичного) права (такую точку зрения высказывал, в частности, немецкий юрист Эрнст Цительман) или как составляющую частного права соответствующего государства.
В данном случае М.И. Брун встает на позицию «цивилистического» взгляда на международное частное право. Как отмечается рассматриваемым автором: «Попытка обосновать юридическую обязательность применения иностранных законов требованиями Международного Права должна считаться неудачной». Однако, по мнению М.И. Бруна, никакое Международное Право не предписывает в каких случаях применять иностранные законы и какие именно.
В этой связи М.И. Бруном отмечалось, что применение иностранного частного права основывается на правильном понятом интересе соответствующего государства. Как отмечалось рассматриваемым автором: «здоровое правосознание и понимание интересов собственной страны приводят к тому, что в каждом из культурных государств в известных случаях к обсуждению прав и обязательств частных лиц, все равно – иностранцев или собственных подданных, – применяются иностранные законы преимущественно перед своими. В каких именно случаях частные права и обязательства обсуждаются по иностранному закону или, несмотря на свое иностранное происхождение, обсуждаются по туземным законам – на это дает ответ Международное Частное Право».
Наряду с изложением основных начал международного частного права в работе анализируются отдельные институты международного частного права. В этой связи существенный интерес представляет анализ коллизионной привязки lex rei sitae, согласно которой возникновение, осуществление, а также иные аспекты вещных прав определяются по согласно законодательству государства местонахождения вещи. Данная коллизионная привязка заменила собой архаичную привязку mobilia sequuntur personam – согласно которой права на движимую вещь определяются законодательством государства постоянного местонахождения собственника (владельца) вещи.
В этой связи М.И. Бруном приводится следующий пример: «Вообразите, что в России, живет немец, обладатель движимой вещи, и что к вещным правам на движимость применяется личный статут этого немца. По германскому законодательству для перехода права собственности на движимости нужна передача; на основании многих сенатских решений можно считать, что в России для такого перехода достаточно простого договора. Немец продал свою движимость, но еще не передал ее; однако каким-нибудь способом она все же попала в руки русского и затем пошла ходить по рукам. Вдруг, через год или два, немец требует ее возврата от десятого, быть может, владельца на том основании, что он вещи не передавал. Ясно, какая анархия была бы результатом применения личного статута».
В сфере договорного права М.И. Брун последовательно отстаивает идею о том, что «стороны автономны только в тех пределах, в каких это постановляет компетентный для их договора закон, и задача Международного Частного Права не в том, чтобы углубляться в намерения сторон и пополнять их недомолвки, – это дело судьи, разрешающего конкретный спор, – а в том, чтобы, как и во всех других сферах коллизии законов, находить ту привязку, которая делает закон известной территории компетентным по преимуществу».
Равным образом, применительно к обязательствам из причинения вреда (деликтам) М.И. Брун прозорливо обращает внимание на объективные сложности, которые зачастую возникают при определения места причинения вреда (коллизионная привязка – lex loci declicti commissi). «Такая коллизионная норма была бы, впрочем, и трудно применима, и несправедлива, потому что часто очень трудно определить, что есть место, где сказался результат так как прежде всего нужно знать, которое из бесчисленных последствий, которые может иметь всякое деяние, есть тот результат который дает право требовать возмещения убытка; и затем место, где сказался этот результат часто дело случая; например, купцу причиняется ущерб заведомо ложным сообщением о кредитоспособности лица; место, где до него дошло лживое известие, может быть совершенно случайно, например, если корреспонденция следует за ним во время его деловой поездки».
Наибольший интерес для современного читателя представляют собой положения работы, касающиеся действия иностранных судебных решений, а также последствий иностранной процедуры банкротства, в силу того, что данные вопросы получили лишь ограниченное освещение в современной доктрине.
В частности, М.И. Брун анализирует различные аспекты действия иностранного судебного решения, включая как res judicata, так и исполнение иностранных судебных решений («Другими словами: признается ли законная сила иностранных судебных решений и приводятся ли эти решения в исполнение?»).
Рассматриваемый вопрос анализируется автором через призму государственного суверенитета в том аспекте, что суверенитет рассматривается как монополия государства на применение мер принуждения.
С одной стороны, М.И. Бруном рассматривается теория, согласно которой верховенство государства в сфере осуществления правосудия затрагивается исполнением иностранного судебного решения, но не признанием его законной силы. С другой стороны, в работе приводится и иная теория, согласно которой суверенитет государства затрагивается как исполнением иностранного судебного решения и наделением его законной силой. При этом, автор приходит к выводу относительно того, что: «Решить, которое из этих двух мнений правильно, можно только с точки зрения какого-нибудь определённого положительного законодательства. Когда в нем нет писанной нормы, положение остается безнадежным, как во Франции, где писатели делятся на два лагеря».
Равным образом, целая лекция М.И. Бруна посвящена исследованию правовых последствий иностранного банкротства. В частности, автором рассматриваются такие концепции как универсальность и территориальность конкурсного производства. По итогам проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что: «при отсутствии в положительном праве какой-нибудь, прямой нормы, признающей универсальность заграничного конкурса, – мы сейчас увидим, что в некоторых законодательствах встречаются и такие нормы – необходимо держаться взгляда, что каждый конкурс имеет только территориальную силу и потому, при существовании конкурса заграницей, в стране, где у должника есть имущество, может быть учрежден самостоятельный конкурс».
В качестве заключительного замечания отметим, что лекции М.И. Бруна представляют собой наиболее полный курс международного частного права опубликованный до 1917 г. Данный курс основан на обширном анализе иностранной и отечественной доктрины. Вне всякого сомнения, обращение к данной работе будет способствовать пониманию тех фундаментальных положений, которые лежат в основе современного российского регулирования международного частного права.
Настоящая работа приводится по тексту рукописи, находящихся в фондах Российской Государственной Библиотеки.
Костин Александр Алексеевич – старший научный сотрудник / доцент Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации; доцент кафедры МЧиГП международно-правового факультета МГИМО (У) МИД РФ; основатель юридической практики K – Legal (экспертные заключения для иностранных и российских судов).
Лекция 1-я
Мы приступаем к изучению науки, которую в сороковых годах девятнадцатого века начали называть: Международное Частное Право. Общее мнение таково, что название это неправильно и неточно, громоздко и некрасиво. Своим содержанием наука эта представляет ряд тяжелых испытаний для тех, кто ею занимается. Немецкий писатель XVII века говорил, что ученым становится жарко от ее головоломных вопросов. Французский ученый наших дней жалуется, что порою, наука эта напоминает ему лесную чащу без дорог. Другой наш современник, профессор этой науки в Парижском университете, говорит, что занятие ею развивает в преподавателях душевное смирение и милосердие к слушателям. Наука эта старая, ее разрабатывают с XIII в. Но и 60 лет тому назад Савиньи писал, что она находится еще только в периоде образования; и мы теперь должны сказать, что она все еще строится… некрасивое название… трудное содержание. Между тем, она не только не отвращает от себя, но те самые, кто так на нее жалуются, заявляют о своей пламенной любви к ней. По тому самому, что наука эта изобилует недоуменными вопросами; по тому самому, что процесс искания истины более ценен, чем достигнутая ступень познания, которое ведь всегда только относительно; но и потому, что конечная цель этой науки – признание и защита субъективных прав на всем земном шаре, независимо от случайных местных условий притязания на них; что светоч этой науки – человечество, стоящее выше национальных делений – по этим причинам она влечет и привязывает к себе всех, кто с нею познакомился. Я открываю курс в надежде на ваше полное интереса и любви отношение к науке, с которою вы будете знакомиться.
Вы уже прослушали курс международного права. То, что вы теперь будете слушать, совсем не то, о чем шла речь в том курсе. Там вам говорили об отношениях между суверенными государствами; там вы знакомились с теми нормами, которые определяют взаимные права и обязанности государств. В Международном Частном Праве речь идет об отношениях между частными лицами по поводу их частных, т. е. личных, семейственных и имущественных прав и обязанностей. Вы знакомы уже также с гражданским и торговым правом, которые вместе образуют понятие частного права. Вы знаете, что то – совокупности тех норм, которые управляют личными, семейственными, имущественными – гражданскими и торговыми отношениями частных лиц. Но вы не услышите от меня повторения того, что вам говорили профессора гражданского и торгового права. Международное Частное Право не есть международное право, но и не есть частное право; это нечто совершенно отдельное от этих двух совокупностей правил. Однако, откуда такое странное название, что мысль с недоумением перебрасывается то к международному праву, то к гражданскому и торговому праву? Если я вам теперь скажу, что Международное Частное Право имеет дело с правоотношениями между лицами, принадлежащими к разным государствам, или с правоотношениями, которые завязались между лицами за границей, и которые приходится развязывать в их отечестве или еще в другом государстве, то вы усмотрите уже некоторое соседство международного частного права с теми дисциплинами, от которых я только что его отграничил. Скажу больше – в литературе вы найдете представителей такого взгляда, что Международное Частное Право есть совокупность частных отношений, образующихся в среде человечества, что его цель подчинить праву отношения между индивидами в мировом обществе; так его определяет оригинальный и остроумный амстердамский профессор Житта. Но я решительно должен вас предостеречь от такого понимания, потому что с ним связано представление о космополитическом, всемирном гражданском праве, нормы которого годятся для отношения между людьми, независимо от того, к какому государству они принадлежат. Нет. На наших глазах действительно растет всемирное гражданское право: путем договоров между отдельными государствами уже возникли общие нормы авторского, патентного, железнодорожного права; возможно, что мы накануне кодификации вексельного права. Но о создании всемирного гражданского кодекса теперь уже мало кто мечтает, потому что то, что составляет главное содержание гражданского права, настолько связано с историей, с общественными взглядами, с нравами, что отделить его от местных корней невозможно. Но даже в тех скромных пределах, в которых всемирное гражданское право возможно, оно не имеет ничего общего с Международным Частным Правом; если бы оно когда-либо осуществилось, это была бы смерть для нашей науки. Международное Частное Право живет и будет жить, доколе живы отдельные гражданские правопорядки, и поскольку эти правопорядки между собою различаются; если бы между гражданскими законами отдельных стран не было различия, то никогда бы не возникало бы и повода обращаться к свету Международного Частного Права, подобно тому, как если бы весь мир заговорил на эсперанто, исчезла бы наука сравнительного языкознания. Однако это уподобление обязывает меня опять оговориться: не подумайте, что Международное Частное Право – то же, что сравнительное правоведение; я предостерегаю вас от этого смешения, потому что постоянно придется сравнивать законы разных стран. Но сравнительное правоведение есть наука, которая питается сходством, наша же наука живет различиями; сравнительное право ведение – наука чистая, она готовит материал для обобщений социолога, для будущего законодателя, но она не соприкасается с конкретными, частными интересами; наша же наука – прикладная, она имеет дело с практическими, злободневными частными интересами отдельных лиц. Когда мы будем сравнивать разные законы между собою, то наша задача будет не в том заключаться, чтобы убедить себя, что между ними нет разногласия, что безразлично, из какого законодательства ни взять отыскиваемую нами норму; нет, мы не будем закрывать глаза на различия и будем искать, которому из двух сравниваемых нами законов, взятых из разных источников, должно быть отдано предпочтение для регулирования частных интересов.
Итак, Международное Частное Право не есть международное право, ни частное право в смысле гражданского или торгового права; это не всемирное гражданское право и не сравнительное правоведение. Что же это такое? Чтобы это понять, вы должны живо представить себе круг явлений, ради которых существует Международное Частное Право. Ежегодно сотни тысяч людей одиноких и семейных, взрослые и малолетние, нищие и имущие, эмигрируют из одних стран в другие и там остаются навсегда. Еще большее количество людей в каждую данную минуту временно пребывают в чужих странах. Те и другие совершают там самые разнообразные юридические действия и завязывают правоотношения с другими лицами; приобретают имущества, нанимаются на работы, становятся супругами, родителями, оставляют завещания об имуществе, оставшемся на родине, или умирают без завещания. Еще больше число тех юридических сделок, которые совершаются ежедневно между жителями разных стран заочно, по переписке, в связи с мировым товарным и денежным обращением. В чужой стране при совершении иностранцем юридического действия может возникнуть вопрос об его дееспособности, потому что возраст для совершеннолетия, быть может там установлен не в 21, как на родине иностранца, а в 24 года. Или по возвращении его на родину здесь может возникнуть вопрос о законности тех актов, которые им совершены за границей, потому что форма их не та, какая установлена здесь. Или суду приходится разбирать спор, возникший из договора, заключенного по переписке за границей. Всякий раз, когда местному жителю приходится вступать в юридическое соглашение с иностранцем и проверять его дееспособность к подписанию, например, купчей крепости или векселя, или когда местному суду приходится разбирать спор, в котором какой-либо из фактических элементов стоит в связи с заграницей, всякий раз в этих случаях перед частным или должностным лицом встают вопросы, вправе ли иностранец совершить предполагаемое юридическое действие, законно ли то правоотношение, которое он установил у себя на родине к лицу или вещи: например, действительно ли он законный супруг или отец, или действительно ли он законный собственник имущества, которое хочет продать, законно ли совершен нашим соотечественником во время его пребывания за границей договор, на основании которого в суде предъявлено требование? Законно? Т. е. согласно с законом, но с каким? С тем ли законом, который мы – местный житель, купец, представитель банка, нотариус или судья – находим напечатанным в том гражданском уложении или торговом уставе, которые изданы для нашей страны законодательною властью? Или с тем законом, который издан на родине эмигранта, иностранца, в стране, где нашим соотечественником или иностранцем заключен обсуждаемый нами договор, где приобретено спорное имущество и т. д.? По какому из двух законов – своему или иностранному – надлежит решить вопрос: существует ли то субъективное право, на которое перед нами ссылаются? Конечно, от этого подчас очень мудреного вопроса можно было бы отделаться соображением, что, по народной поговорке, «в чужой монастырь со своим уставом не ходят», и сказать: «у нас есть свои законы и никаких других иностранных законов мы не признаем; если те правоотношения, не суть вовсе с точки зрения наших законов правоотношения, то тем хуже для тех, кто, совершая юридические действия, не справился с нашими законами». Однако действительность показывает, что нет такого современного государства, где бы сам законодатель поощрял такой узко-националистический взгляд, потому что проведение его на практике имело бы последствия, перед которыми остановилась бы если не совесть, то собственное благоразумие исполнителей. Как люди жили в своей стране, установили правоотношения в полном согласии с законами этой страны; они обладатели семейственных или имущественных прав; затем вследствие тех или иных обстоятельств эти люди очутились в другой стране, о законах которой они не имели основания и думать раньше. Вдруг весь законный строй их частной жизни становится внезаконным, т. е. не стоящим защиты со стороны гражданского суда. Например, сын вдруг становится незаконным сыном своего отца, потому что брак его родителей совершен не по нашей форме, следовательно, этот сын не имеет право на наследство? Нет, с таким последствием простой перемены местопребывания правоотношения современное правосознание не мирится. Да и прежде всего правильно понятый общественный интерес напоминает, что нельзя разорить иностранцев без того, чтобы это не отозвалось болезненно на собственных подданных – настолько интересы в деловых отношениях переплетаются; и затем, если мы сегодня разорим иностранцев, то завтра иностранное государство так же просто разорит наших соотечественников и тогда вообще конец мирному международному гражданскому и торговому обороту. Кроме того, как может гражданский суд отказываться от проверки прав по иностранным законам, когда роль суда состоит не в том, чтобы создавать новые права, а только выяснять, существуют ли эти права? Словом, здоровое правосознание и понимание интересов собственной страны приводят к тому, что в каждом из культурных государств в известных случаях к обсуждению прав и обязательств частных лиц, все равно – иностранцев или собственных подданных, – применяются иностранные законы преимущественно перед своими. В каких именно случаях частные права и обязательства обсуждаются по иностранному закону или, несмотря на свое иностранное происхождение, обсуждаются по туземным законам – на это дает ответ Международное Частное Право.
Я сказал вам уже, что название «Международное Частное Право» неудовлетворительно. Раньше науку называли учением о коллизии статутов или о конфликте законов; и теперь это название не совсем вышло из употребления; и теперь самый выдающийся английский ученый в этой области, имя которого вам должно быть известно – Дайси, держится термина «Конфликты законов». Те, кто придумали название «Международное Частное Право», хотели подчеркнуть, что это право, т. е. совокупность норм, обязательных для государственной власти, а не капризное ее усмотрение.
По существу, как вы сейчас увидите, название «Коллизии законов» ближе передавало содержание предмета, но термин «Международное Частное Право» вошел в обиход и его можно держаться, если только никогда не забывать, в чем неточность этого названия. Оно родит в умах представление, будто дело идет об отношениях между лицами, принадлежащими к разным государствам. В действительности в целом ряде государств существуют области, в которых исторически возникшее гражданское законодательство продолжает действовать, в то время как в других частях государства действует совсем другое законодательство. Так, в пределах России три Прибалтийских губернии, десять губерний бывшего царства Польского и Бессарабия имеют свои отдельные гражданские законы, отличные от тех законов, по которым живет остальная Россия: завещание, составленное в Курляндии, приводится в исполнение, например, в Москве, где для формы завещаний существуют иные законы; уроженец Польши умирает в Петербурге, оставив имущество в Варшаве, где порядок наследования иной, чем у нас. Такая же встреча двух разных по содержанию норм материального права бывает до сих пор в Германии, несмотря на кодификацию гражданского права с 1900 г., потому что остались в силе некоторые специальные постановления отмененных партикулярных законодательств; и в Испании, где кодекс 1889 г. не вытеснил всех провинциальных законов; и в Великобритании, где между английским и шотландским правом сохранились некоторые отличия. Еще чаще такие же коллизии бывают между законами сложных государств, где каждая часть сохранила и свой законодательный орган: гражданские законы России и Финляндии, Австрии и Венгрии, швейцарских кантонов и Швейцарской федерации и т. д., – все они могут коллидировать на почве частных интересов. Правила, которыми определяется, какой из конкурирующих законов – русский или остзейский, австрийский или венгерский, кантональный или федеральный, и т. д., имеет решающий голос в этом случае, – эти правила те самые, какие действуют, когда сталкиваются законы совершенно отдельных государств. Вся разница в том, что коллизия между разноместными законами стран, имеющих одного законодателя, может быть разрешена его законом, тогда как для разрешения коллизии в других случаях такого властного источника нет. Но правила для решения коллизий остаются те же, как и при коллизии законов разных государств. Памятуя это, можно держаться и неудачного, но укоренившегося названия «Международное Частное Право» для совокупности правил, определяющих, который из двух или нескольких разноместных законов должен быть применен при обсуждении правоотношения, которое каким-либо из своих фактических элементов связано с другим государством или с областью другого правопорядка. Международное Частное Право есть совокупность правил или норм, указывающих выход из коллизии разноместных гражданских законов, – короче – совокупность коллизионных норм.
Но почему же предмет наших будущих занятий составляет науку? Это я теперь поясню. Международного Частного Права в виде сборника правил, одинаково применяющихся у всех культурных народов, не существует; законодательной власти, которая могла бы предписать всем народам одинаковые правила для решения конфликтов между законами, нет; договорное соглашение государств между собою об объединении этих правил еще далеко не достигнуто; поэтому в каждой стране должны существовать особые коллизионные нормы как часть внутреннего законодательства страны. В смысле совокупности правил существует не одно Международное Частное Право, а столько их, сколько отдельных государств или правопорядков; есть русское Международное Частное Право, французское, остзейское и т. д. Но наука Международного Частного Права по своим задачам и методам только одна; потому и цель, которую преследуют ученые в своих занятиях Международным Частным Правом, одна: достигнуть того, чтобы каждое правоотношение, возникшее на почве известного правопорядка, признавалось всюду за то, что оно есть, – за правоотношение – чтобы, например, если вы приобрели какую-нибудь вещь или приняли денежное обязательство в какой-нибудь стране в согласии с ее законами, вы считались бы собственником этой вещи, кредитором по этому обязательству всюду, куда бы судьба не занесла ваше правоотношение. Целью всех научных стремлений является гармоническое согласование разноместных норм материального права, – чтобы нормы одного правопорядка склонялись перед такими же нормами другого правопорядка, когда дело идет о законно приобретенном субъективном праве. Эта цель была бы легко достижима, если бы от ученых зависело переделать отдельные правопорядки так, чтобы они не дорожили никакими из своих законов в особенности, если бы отдельные правопорядки любезно соглашались на перетасовку разноместных законов в зависимости от потребностей каждого случая. Но этого нет и быть не может, потому что каждый правопорядок имеет веские основания для того, чтобы иметь у себя такую-то, а не иную норму материального права. Как при такой естественной дисгармонии достигнуть того, чтобы во всех странах обладатель субъективного права встречал одинаковое признание этого своего права, если это вообще достижимо, – вот основная проблема науки Международного Частного Права. Теперь вы можете понять, в чем заключаются задачи науки и насколько они трудны. Наука имеет перед собою ряд отдельных правопорядков, из которых у каждого свои определенные коллизионные нормы. В виде писаных законов эти нормы, однако, большею частью крайне скудны; всюду судебная практика вынуждена их добывать путем толкования и выводов из смысла и духа законов и путем распространения законов по аналогии на новые случаи; но и затем остаются пробелы, где у суда нет уже никакой руководящей нити; и здесь спасти его от шатания мысли, от произвольных и противоречивых решений может только следование какому-нибудь общему принципу; выработка такого принципа составляет первую задачу науки. Затем до суда доходит обыкновенно только минимальная доля случаев из тех, когда частным лицам нужно распутать свои недоразумения, когда они желают разобраться по совести и справедливости, но не знают, что правильно в данном случае, – какому правопорядку подчинено их отношение; и здесь на помощь должна приходить наука со своими принципами. Выше и труднее всех других задач подготовка единого для всех государств Международного Частного Права; это единое Международное Частное Право может быть достигнуто или тем, что в каждом государстве путем внутреннего законодательства будут выработаны однообразные нормы; или же тем, что государства договорятся между собою путем конвенций о введении таких однообразных норм, но и для этого нужно, чтобы наука выработала определенные принципы, которые всеми признавались бы за обязательные. К сожалению, надо сказать, что до сих пор усилия науки в этом направлении успехом не увенчались. Нет ни одной теории, которая была бы всеми признана за такую истину, чтобы на ней могли строиться все судебные решения внутри всех государств и все коллизионные нормы остающегося в идеале единого Международного Частного Права. Мало того, последние десятилетия раскрыли перед глазами ученых трудности, которые иные готовы считать непреодолимыми. Когда науку разрабатывали статутарии, т. е. до конца XVIII в., и позже, когда писал Савиньи и еще позже, когда созидалась новая итальянская школа, т. е. до 80-х гг. XIX в., имели в виду только коллизии законов материального права; спорили о том, решать ли по закону страны, где лицо постоянно живет, или по закону страны, где лежит имущество, но не знали коллизии между коллизионными нормами. Но по мере того, как на материке Европы делало успехи определение личного статута (т. е. того законодательства, по которому определяется состояние и дееспособность иностранца), по принципу подданства, в то время как некоторые страны продолжали держаться принципа, что этот личный статут определяется по закону постоянного местожительства, – по мере этого вырастала новая трудность в виде разногласия между коллизионными нормами: нормою подданства и нормою домициля. Всего каких-нибудь 20 лет тому назад судебная практика ухитрилась преподнести теоретикам новую загадку в виде учения об обратной отсылке в коллизионных нормах. Затем Франц Кан в Германии и Бартен во Франции показали существование скрытых коллизий законов и коллизий в юридических квалификациях, – коллизий, устраняющих самую возможность гармонического согласования коллизионных норм в некоторых, к счастью, немногих, случаях. Обо всем этом я сообщу вам обстоятельно позже, и тогда вы меня лучше поймете, но уже сказанного достаточно, чтобы показать вам, как велики и как вместе с тем трудны задачи науки Международного Частного Права. Теперь я остановлю ваше внимание на другом.
В ученой литературе и в учебниках, которые будут у вас в руках, вы будете встречаться с настойчивым напоминанием, что Международное Частное Право есть право, т. е. совокупность юридических норм, а не практическое руководство международной вежливости и расчета, право, – а не comitas nationum, courtoisie nationale. Вы узнаете, когда я буду говорить вам о теории статутов, как в XVII в. появилось учение, по которому применение иностранных законов в пределах государственной территории есть только акт вежливости относительно иностранного государства и результат своекорыстного расчета, в принципе же должен всегда применяться территориальный закон. Эта точка зрения была усвоена английской юриспруденцией, которая до недавнего времени мало интересовалась теоретическими вопросами в нашей области; она искала правильного разрешения отдельных казусов; когда она не находила ответов в судебных прецедентах, она спокойно обращалась к иностранной юриспруденции и вообще довольствовалась первым попавшимся ей теоретическим обоснованием. Некоторые континентальные юристы, например, Лоран, автор самого обширного, в 8 томах, произведения о Международном Частном Праве, мало знакомые с английской судебной практикой, видят в этом только отсталость английской юриспруденции и укоряют ее в том, что она будто бы санкционирует систему произвола. Это глубоко несправедливо; чувством законности английская юриспруденция проникнута насквозь, и под системой comitas она вовсе не разумеет что-либо противоположное праву. И затем, как на это недавно обратил внимание немецкий ученый Шторк, международная comitas вообще есть своего рода аморфная масса, где формируются юридические нормы, так что особенно противополагать ее праву нет надобности. Во всяком случае, бесспорно, что Международное Частное. Право есть не что иное, как право, что коллизионные нормы, предписывающие применение в известных случаях иностранных законов, по своей природе суть нормы юридические. Рассмотрим ближе ту природу.
Я уже сказал вам, что хотя Международное Частное Право имеет дело только с частными интересами, оно не есть материальное частное право; оно ничего не говорит о том, как приобретаются и утрачиваются субъективные права. Частное право каждой отдельной страны регулирует правоотношения, которые устанавливаются в согласии с материальным правопорядком этой страны; оно говорит, например, что право собственности на вещь принадлежит тому, кто приобрел ее согласно с такими-то законами. Коллизионные же нормы разграничивают сферы господства отдельных правопорядков; они определяют, какой правопорядок применим к обсуждению данного случая; они говорят, например, по какому из разноместных законов, русскому, французскому и т. д., следует судить, приобретена ли вещь так, что держателя ее можно считать собственником. Не всегда легко отличить коллизионные нормы от материальных норм; это мы увидим впоследствии, но это не изменяет сущности дела; коллизионные нормы предполагают, что существуют разные правопорядки, и они проводят между ними границы. Поэтому, как это выяснил Цительман, коллизионные нормы не могут составлять части материального права страны, а стоят вне его, «как нельзя самого себя вытащит за волосы из воды». Мне представляется боле правильным сравнение с межами, которые разграничивают две дачи генерального межевания и потому не входят в состав ни той, ни другой. Как эти межи принадлежат государству, так и коллизионные нормы составляют публичное право страны; потому публичное, что в них содержится приказ государства, обращенный к его должностным лицам и судьям в таких-то случаях применять не туземные, а иностранные законы; это есть обязательное для должностных лиц и судей объявление государства о границах его собственной законодательной власти в вопросах частного права, и о границах этой власти других государств. Это приказ, обращенный внутрь страны, а не объявление по адресу иностранных держав. Государство может находить, что в таких-то случаях должны применяться иностранные законы, в других – туземные; другое государство может смотреть иначе – ни то, ни другое никому отчетом в этом отношении не обязаны, судьи же и чиновники обязаны коллизионных норм своего государства держаться беспрекословно.
Из того положения, что коллизионные нормы суть публичное право страны, вытекает огромной важности практический вывод – само собою разумеется, что если бы применение иностранных законов было делом только вежливости, которую государство предоставляет своим судьям оказывать иностранным государствам в лице их подданных, то от произвола суда завило бы – применять иностранные законы или не применять. Но коллизионные нормы составляют право страны, а потому суд обязан применять иностранные законы там, где коллизионные нормы это предписывают. Но если бы коллизионные нормы составляли ветвь частного права, то суд имел бы возможность применять их так, как вообще применяются гражданские диспозитивные законы, т. е. от усмотрения сторон зависело бы всегда и во всех случаях ссылаться то на туземный, то на иностранный закон. А что подчас означает свободное усмотрение сторон в гражданском процессе, то отлично выражено в формуле римских юристов, которая сочинена, правда, не для этого случая: «Гражданские законы, – говорили они, – написаны для тех, кто не дремлет»; по-русски есть поговорка о щуке и карасе, которая не так звучно, но веско передает ту же мысль. Если коллизионная норма есть ветвь частного права, то применение иностранного закона там, где это требуется коллизионною нормою, попадает всецело в зависимость от того, доказал ли тяжущийся на суде, что говорит для данного случая иностранный закон, и если тяжущийся не сумел доказать, то суд будет прав, если применит к делу свой закон. Если бы на коллизионную норму можно было смотреть как на частное право, это было бы потворство лени судей, и правосудие было бы в опасности. Но раз Международное Частное Право данной страны есть ее публичное право, суд обязан применять иностранные законы там, где это предписывается коллизионною нормою, безусловно. Когда коллизионная норма написана в законе, изданном государственною властью, – например, у нас 707 ст. Устава гражданского судопроизводства, по которой договоры, совершенные за границей, обсуждаются по законам той страны, где совершены, то вопрос ясен сам собою; суд обязан ей повиноваться, и обязан сам разыскать содержание иностранного закона. Когда коллизионная норма изложена в международном трактате, например, 10 статья конвенции России с Францией 1874 г. о том, что наследование в движимом имуществе после француза, умершего в России, определяется французскими законами, – то, опять-таки, суд обязан применять французские законы, потому что конвенция есть акт государственной власти, и он обязан сам справиться, что говорит французский закон. Но и когда коллизионная норма не написана черным по белому в законе или в конвенции и когда она только вытекает из смысла и духа законодательства или диктуется аналогией, то суд и тогда обязан применять иностранные законы, если это следует по коллизионной норме; и при этом опять-таки совершенно безразлично, сослались ли спорящие стороны на иностранные законы, или по неведению этого не сделали; суд должен сам знать, когда надлежит применять иностранные законы. Нельзя требовать, чтобы суд знал содержание всех законов, какие существуют на земном шаре, как он обязан знать законы собственной страны; но для этого он имеет возможность отложить дело и навести справку. Но суд не имеет права требовать от сторон, чтобы они доказали ему существование иностранного закона известного содержания; его решение будет неправильно и подлежит кассации, если он мотивирует применение своего местного закона тем, что тяжущийся не доказал содержания иностранного закона. Вы, господа, не готовитесь быть практическими юристами, и сам по себе вопрос о поводах для кассации решения вас не может интересовать; но я останавливаю ваше внимание на нем для другой, не практической, а научной цели. То, что я вам сейчас сказал о кассации решений, есть только логический вывод из научного положения, что Международное Частное Право есть право публичное. Напомню сказанное раньше: существует только одна наука Международного Частного Права, но в смысле положительного законодательства существует столько Международных Частных Прав, сколько отдельных правопорядков. Сознание этой разницы я хочу вам внушить, и вы сейчас ее поймете на примере. Во Франции Кассационный суд тонко различает коллизионную норму законодательства и чужой закон материального права. Кассационный суд говорит, что если в низшей инстанции применен французский закон там, где следовало применить иностранный закон, или обратно, т. е. нарушена коллизионная норма, то такое решение не может быть оставлено в силе; но если неправильно истолкован иностранный закон материального гражданского права, то тем хуже для тех, кто не сумел объяснить смысл этого закона, что это все равно, как если тяжущийся не доказал какого-либо факта на суде; т. е. выплывает суровое соображение, что жертва должна пенять на самое себя за неосмотрительность. Но французская научная юриспруденция решительно восстает против такой практики кассационного суда. Напротив, в Англии точка зрения французского суда неприемлема; английские суды твердо держатся принципа, что права, приобретенные под действием иностранных законов, должны пользоваться в Англии юридической защитой, следовательно, и обсуждаться по иностранным законам, и потому неправильное толкование иностранных законов не может оставлять их равнодушными.
Этот пример я привел вам для того, чтобы на нем показать вам разницу между тем, что говорит наука Международного Частного Права, которая одна, – и тем, что встречается в положительном праве отдельных государств, которых много. Авторитет науки очень велик в Международном Частном Праве; можно сказать, что он стоит в прямом соответствии с трудностью ее задач. В вопросах Международного Частного Права редко встречается высокомерное отношение судей к теоретическим исследованиям, составляющее частое явление в гражданских судах; еще в XVIII веке президент Парижского парламента Бугье (Bouhier) находил, что здесь судьи должны на время отказываться от своего традиционного почтения к прежним судебным решениям, и обязаны прислушиваться к голосу писателей, потому что вопросы, с которыми имеет дело учение о коллизии законов, настолько сложны, что судьи фактически не могут посвящать им нужное время. И все же, никогда не следует смешивать того, что говорит наука, с тем, что есть в положительном законодательстве, иначе желательное можно легко принять за существующее; этим нередко грешат очень выдающиеся ученые.
Итак, вы знаете теперь, что такое наука Международного Частного Права; вы знаете, что наука эта занимается изучением права; вы знаете, почему следует признавать это право за право публичное. Теперь мне предстоит объяснить Вам, откуда берутся нормы Международного Частного Права. Это самый важный из всех вопросов, которые нам обязательно надо разрешить для начала. Каждое культурное государство имеет или должно иметь известный комплекс коллизионных норм, обязательных к применению как нормы публичного права вообще; но откуда берутся коллизионные нормы? Кто автор их? Кто диктует их содержание? Кто определяет систему Международного Частного Права в каждой отдельной стране? Это может быть или какой-нибудь внешний авторитет, стоящий над отдельным государством; или же авторитет внутренний, – тот самый, кто дает государству все прочие его законы, – свободная воля национального законодателя. Над всеми культурными государствами стоит общество государств, которое в виде норм положительного Международного Права предъявляет к каждому из своих членов определенные требования; это с одной стороны. А с другой – в каждом государстве его внутреннее законодательство определяется им, в силу его политической независимости, самостоятельно, без внимания к желаниям международного общества государств. Спрашивается, где источник Международного Частного Права – в требованиях Международного Права или в положительном праве отдельного государства? Об этом я буду говорить в следующей лекции, а пока я прошу вас на досуге подумать над тем, какую нравственную ценность представляет изучение Международного Частного Права. Каков бы ни был источник Международного Частного Права, остается несомненным один факт – что каждое культурное государство не может не иметь коллизионных норм, не может не применять иностранных законов вместо своих. И вот, если вы возьмете себе только один этот голый факт и представите себе, что современное государство, этот огромный всепоглощающий левиафан, которому ничего не стоит раздавить отдельную личность, вынуждено поступаться полнотою своей суверенной власти и предписывать своим судьям и чиновникам не принять его законов, а применять чужие, ради того, чтобы не обидеть беспомощного индивида, заброшенного к нему судьбою, – то вы согласитесь, что перед вами зрелище, поддерживающее веру в лучшие стороны и лучшее будущее человечества.
Лекция 2-я
Ученые, занимающиеся Международным Частным Правом, обыкновенно причисляют себя к одному из двух лагерей, – интернационалистов или международников, и националистов или государственников. Одни видят в Международном Частном Праве ветвь Международного Права; другие относят все его нормы к составу национального права – того права, которое имеет своим источником государственную власть и действует внутри государства. Я мог бы сказать вам в общих чертах, что говорят те и другие; но это разногласие имеет коренное значение для всей науки Международного Частного Права, в особенности для ее метода, и потому говорить о нем мимоходом нельзя. Кроме того, мне хочется попутно познакомить вас с индивидуальными писателями, и потому я выберу нескольких, имена которых вам следует запомнить, рассажу вам, как они смотрят на дело, а затем скажу вам, как я сам думаю об этом. Скажу сейчас уже, чтобы помочь вам следить за мной; я думаю, что Международное Частное право есть ветвь внутренне-государственного права; что применение в известных случаях иностранных законов составляет юридическую обязанность государственной власти по отношению к собственным подданным, независимо от того, что думает об этом Международное Право и представители иностранных государств. Самым ярким и новейшим представителем интернационализма является французский ученый Pillet в книге «Principes de droit international prive» 1903 г. Он ставит на карту все существование Международного Частного Права как права и говорит: «признайте, что оно есть ветвь Международного Права; что его юридическое основание лежит только в Международном Праве; или же его не существует вовсе как права, а все сводится к международной вежливости – хочет государство, оно допускает у себя применение иностранных законов, не хочет, не допускает; о праве или обязанности тогда речи нет. Для того чтобы нормы Международного Частного Права покоились не на произволе отдельного законодателя, нужно найти для них высший авторитет, стоящий над независимыми государствами; этот авторитет принадлежит Международному Праву. Пилье, прежде всего, устанавливает связь между Международным Частным Правом и Международным Правом в отношении круга интересов, которые защищаются тем и другим. Вы думаете, что Международное Право есть право публичное, имеющее субъектами – независимые государства, объектом интересы народов в совокупности; вы думаете, что Международное Частное Право есть право частное в том смысле, что касается интересов частных лиц. «Нет, – говорит Пилье, – когда перед судом сталкиваются разные законы о семейственных или имущественных правах, то вам только кажется, что то конфликт, касающийся частных прав; на самом деле это вопрос не частноправовой, а международно-правовой; это вопрос о том, которое из двух законодательств имеет право простирать свой авторитет на спорные отношения или точнее, кто тот законодатель, т. е. суверен, который имеет право на то, чтобы его предписания были исполнены по отношению к спорному делу: всякий вопрос о конфликте законов сводится, таким образом, к вопросу о компетенции между суверенитетами. Вопросы Международного Частного Права по своей природе ничем не отличаются от тех, которые обычно входят в круг вопросов Международного Права и касаются, прежде всего, суверенитета государств и в самой высокой степени интересуют суверенитет. Когда налицо конфликт законов, когда. Нужно сделать выбор, пожертвовать одним законом ради другого, то нужно помнить, что позади частных притязаний, опирающихся на разные юридические системы, стоят государства, суверенитет коих один на самом деле поставлен на карту. Нужно рассмотреть в таком случае, по какому титулу каждое из этих государств может требовать, чтобы отдано было предпочтение его правам. Все государства между собою равны, и всякое произвольное предпочтение одного другому противоречит самой идее Международного Права; поэтому предпочтение должно быть дано тому государству, которое докажет свой более значительный интерес в решении вопроса. Это можно назвать законом максимума взаимного уважения суверенитетов друг к другу. Так; по мнению Пилье, доказано, что Международное Частное Право есть право, которым обязываются государства как члены общества народов. Отсюда вывод, что на территории каждого государства предписания Международного Частного Права должны пользоваться всем тем авторитетом, каким внутреннее законодательство облекает свои юридические правила. Но вслед за тем Пилье оговаривается, что эта формула получит свой полный эффект только тогда, когда все народы присоединятся к одной общей и единой системе Международного Частного Права. Тогда наука (слова «наука» и «право», изучение и его объект у Пилье перебрасываются как синонимы) образует общую дисциплину, которая будет импонировать отдельным законодателям. А до тех пор, пока будет существовать современное состояние, действующим в каждом государстве Международным Частным Правом будет то, которое то государство признает. Казалось бы, что после этого авторского признания нужно считать разрушенной самую попытку ввести Международное Частное Право из Международного Права, потому что, если принципы Международного Права одними признаются, другими не признаются, а Международное Частное Право существует во всех государствах, – и в тех, которые принципов Международного Права не признают, то ясно, что для Международного Частного Права должны быть какие-нибудь другие основания, а не Международное Право. Однако Пилье ищет примирения между действительностью и своею собственною спорною теориею в том, что ломает действительность дальше. В каждом отдельном государстве Международное Частное Право есть то, которого существование признано этим государством; значит, по словам Пилье, что государство в области Международного Частного Права действует не как творец права, а как его определитель. Норма Международного Частного Права неизбежно детерминирует в одном каком-либо пункте отношения государств между собою, и потому она не зависит от произвола отдельного государства; последнее определяет коллизионный закон так, как он, по его мнению, существует, но оно не претендует на то, чтобы фабриковать коллизионную норму по своему усмотрению. Так, например, когда французский законодатель в 3 статье кодекса говорит, что «состояние и дее способность французов определяются и за границею законами французскими», то этим он говорит, что иностранные законы к дееспособности французов неприменимы, и этим он детерминирует отношение между французским суверенитетом и иностранным суверенитетом. Здесь французское государство, которое не может ведь претендовать на превосходство перед иностранным государством, очевидно действует как определитель, а не как господин. Отсюда следует, что в случае противоречия между определением Международного Частного Права и нормою внутреннего права предпочтение должно быть оказано первому, т. е. норме Международного Частного Права, потому что она обязательна для государства; тогда как норму внутреннего права, как выражение свободы государства в области внутреннего законодательства, государство может и изменить.
Я считал своею обязанностью объективно и полно изложить вам учение выдающегося интернационалиста. Согласиться с ним невозможно. Начнем с примера Пилье о французском законе о дееспособности: если статья 3 французского кодекса говорит, что к французам, находящимся за границей, должны применяться французские законы, то для меня совершенно ясно, что такое предписание не имеет никакого обязательного значения для иностранных государств и уже потому нисколько не может задевать их суверенитет; и что не для того этот закон издан, чтобы вторгаться в чужой суверенитет. Кодекс имел в виду только французские суды, которые должны применять французские законы; он дает французскому судье приказ, что когда он будет обсуждать отношения, возникшие за границей, то он должен будет состояние и дееспособность француза, который за границею вступил, например, в брак или составил завещание, обсуждать по французскому закону. Но как будет обсуждать эту дееспособность иностранный суд, этого французский кодекс не говорит, и никакого покушения на то, чтобы обязывать иностранные государства также и у себя обсуждать дееспособность французов по их национальному закону, во французском кодексе нет. Поэтому, прежде всего, неверно, будто, издавая такую норму материального права, которая может стать в конфликт с иностранной нормой, законодатель определяет отношение к иностранному суверенитету; он о нем просто не думает. И поэтому утверждение Пилье, будто норма Международного Частного Права для самого государства, ее издавшего, выше нормы материального права, будто это нормы разных этажей, нисколько не иллюстрируется примером, который он выбрал, и вообще оно совершенно произвольно. Нельзя говорить, что нормы Международного Частного Права пользуются авторитетом закона, как выражение обязанности государства относительно других государств, потому что, как вы увидите, норма Международного Частного Права может состоять и в том, что иностранный закон не применяется. Возьмем для примера норму, в силу которой наследование в недвижимостях всегда определяется по закону страны, где лежит недвижимость, а не по закону иностранному; очевидно, в том, что государство предписывает применять у себя к недвижимостям свои местные законы, не лежит вовсе выражение обязанности по отношению к иностранному государству, а просто содержится регулирование отношения так, как это соответствует потребностям данной страны.
Обратимся теперь к исходной точке зрения, будто всякий вопрос о конфликте законов касается иностранных государей. Пилье сам чувствует, что это натяжка; он предвидит возражение, что решительно непонятно, какой интерес может иметь государство, чтобы в споре между двумя частными лицами о праве собственности или о наследстве в чужом государстве было основано на его законе, а не на местном законе. Пилье воображает, что местные законы всегда менее льготны для иностранца, чем его национальные законы; между тем, бывает и наоборот; например, если после француза осталось в России недвижимое имение, и его наследники – сын и дочь, то по французскому закону сын получит только половину, а по русскому – 13/14. Что же на это отвечает Пилье? Государство выиграет от того, что его подданные разовьют под охраной Международного Частного Права свои отношения с заграницей. Но ведь это не ответ. С точки зрения экономической политики государство, конечно, выигрывает от развития частных международных отношений, но ведь Пилье спрашивают не об этом, а о том, чем оскорблен суверенитет иностранного государства, чем нарушено право, признаваемое за ним Международным Правом, если в другом государстве спор о правах гражданских решен только по местным законам? – Пилье хочет предупредить и другое возражение: ведь никогда еще не бывало, чтобы государства вмешивались в то, по каким законам решаются гражданские споры в других государствах: не было случая дипломатического вмешательства из-за нарушения какого-либо принципа Международного Частного Права. И что же на это отвечает Пилье? Этих нарушений. Так много, они. Так часты, что у государств не хватало бы времени и сил, чтобы в них вмешиваться; и к тому же не все признают принципы Международного Частного Права, – а потому и нельзя жаловаться на их нарушения. Но в таком ответе содержится молчаливое признание несостоятельности собственных воззрений, потому что если никакое государство не думает, что, предписывая своим судам решать споры вопреки принципу Международного Частного Права, оно нарушает чужой суверенитет, то все учение, будто в спорах заинтересованы государи, падает само собою. – Главное положение Пилье, что нормы Международного Частного Права обязательны потому, что их предписывает Международное Право, очевидно построено на песке. Кто должен взять на себя решение вопроса о том, какому из двух государств должно быть оказано предпочтение в выборе закона материального права? Международного суда для дел, связанных с Международным Частным Правом, нет; все конфликтные вопросы решаются в судах внутри определенных государств; таким образом, вопрос о суверенитете попадает в руки судьи, который подчинен своему государю и никому больше; и вдруг этот судья обязывается в конкретном случае сказать, что он с большим почтением относится к чужому государю, чем к своему. Где же это видано и мыслимо ли, чтобы судья становился судьею над своим законодателем? Вот к какому опасному выводу приводит припутывание иностранных государей к вопросу, который их нимало не касается, и который касается только того государства, где решается материальный спор. Пилье хотел показать, что Международное Частное Право имеет свои корни в Международном Праве, и вместо этого он лишил его всяких корней. После Пилье можно только усомниться в существовании юридически обязательного Международного Частного Права.
Совершенно иным представляется учение Цительмана о надгосударственном Международном Частном Праве как о субсидиарном праве, изложенное в I томе неоконченного труда «Internationales Privatrecht» 1897 г. Это глубоко продуманное учение, на котором действительно можно проверить основательность взгляда, будто Международное Частное Право можно вывести из Международного Права.
Цительман различает два Международных Частных Пава; одно есть совокупность тех норм, которые действуют в каждом отдельном государстве; это внутренне-государственное Международное Частное Право, другое – есть надгосударственное Международное Частное Право; оно содержит в себе те требования, которые обращаются к отдельным государствам относительно содержания его внутреннего Международного Частного Права. Только это надгосударственное Международное Частное Право Цительман выводит из принципов Международного Права. При каждом юридическом споре идет вопрос о том, приобретено ли или утеряно ли субъективное право. Субъективное право – это правомочие, предоставленное лицу объективным правопорядком определенного государства. Но какое государство может предоставить лицу или отнять у него правомочие? Только то государство, которое само имеет юридическую власть над тем, относительно чего оно хочет дать или отнять субъективное правомочие. Поясняю мысль Цительмана примером: идет спор о том, принадлежит ли вам недвижимое имение, т. е. имеете ли вы относительно данного имения субъективное право собственности. Очевидно, этот вопрос можно решить только по закону того государства, которое имеет господство над землею, где находится имение и которое поэтому может издавать законы о том, как право собственности приобретается и утрачивается. Но, – говорит Цительман, – для того, чтобы юридическая власть государства, как источник вашего субъективного права, оказывала действие и за границей, нужно, чтобы эта власть признавалась с точки зрения Международного Права. Следовательно, источником субъективных прав, признаваемых и за границей, может быть только закон того государства, которое имеет признанную Международным Правом юридическую власть соответствующего содержания. Отсюда открывается путь для проблемы Международного Частного Права. Цительман желает найти такой принцип Международного Права, который мог бы равномерно признаваться всеми государствами так, чтобы во всех государствах одинаково смотрели, что данный конкретный случай может быть разрешен только по законам такого-то определенного государства; чтобы всюду, в любой культурной стране одинаково вопрос о том, имеете ли вы право или не имеете, – решался по тому самому закону, по которому вы это субъективное право приобрели или утратили. Если иметь в виду, что Международное Право разграничивает сферы господства отдельных государств, то возможно провести и границы законодательной власти различных государств в отношении частных прав; есть возможность сказать, насколько отдельное государство может давать или отнимать субъективные права. Но, так как каждая государственная юридическая власть только тогда действительно юридическая власть, когда она исключительна; так как немыслимо, чтобы два государства имели тождественную по содержанию власть, то с точки зрения Международного Права всегда приобретение или утрата субъективного гражданского права может наступать только по закону одного определенного государства и никакого другого. Следовательно, вопрос о том, наступило ли определенное юридическое последствие, должен, с точки зрения Международного Права, обсуждаться по закону только именно этого государства.
Таков принцип надгосударственного Международного Частного Права. Этот принцип есть вывод из общего положения Международного Права, что каждому государству отведена определенная сфера господства. Но, как принцип Международного Права, он действует только при сом нении, т. е., если между государствами путем договоров не установлено относительно Международного Частного Права что-либо другое; только, если государства не условились иначе, только тогда конфликт должен быть решен в пользу закона того государства, которому принадлежит юридическая власть по принципу Международного Права. Поэтому-то Международное Частное Право, которое выводится из Международного Права, имеет только субсидиарное значение на случай, если сами государства не постановили между собою ничего другого. Это субсидиарное надгосударственное Международное Частное Право есть только Международное Право, т. е. оно связывает государства относительно друг друга, оно обязывает их вводить у себя нормы, согласные с этим Международным Правом; но оно само по себе в пределах отдельного государства не действует, оно непосредственно судью отдельного государства не обязывает. Судью обязывает только то право, которое постановлено его собственным законодателем или которое признается как закон его собственным государством; совокупность таких норм образует внутренне-государственное Международное Частное Право, совершенно отдельное от надгосударственного Международного Частного Права. Судя связан коллизионными нормами собственного государства; он обязан применять то законодательство, свое или чужое, какое применять предписывает ему коллизионная норма его собственного государства. Но как быть, если в данном государстве не существует таких коллизионных норм? Какую-нибудь норму судья иметь должен; ведь, чтобы постановить свое решение, он обязан же сделать выбор между законодательствами. Тут-то выступает на сцену надгосударственное Международное Частное Право. Судья должен рассуждать так: если мое государство ничего не сказало относительно сферы своего господства, то надо думать, что оно отводит себе ее в согласии с Международным Правом, а не противно Международному Праву; надо думать, что мое государство велит мне применить надгосударственное Международное Частное Право, а потому я решу дело по своему или по иностранному закону, смотря по тому, что говорит это надгосударственное Международное Частное Право. Так это надгосударственное Международное Частное Право получает субсидиарное значение и как источник внутренне-государственного коллизионного права.
Таково это стройное, логически выдержанное учение Цительмана. Первый вопрос, который, вызывается этим учением, состоит в том, существует ли это надгосударственное Международное Частное Право в действительности, или только в идеале? К сожалению, Цительман признает, что коллизионные нормы отдельных государств стоят в кричащем противоречии с этим надгосударственным Международным Частным Правом; он только думает, что это плод недоразумения, непонимания, что государствам нет никакого интереса в вопросах частного права вторгаться в чужие сферы; что нужно только неустанно твердить им о необходимости и возможности согласования внутренне-государственных коллизионных норм с надгосударственным Международным Частным правом, и это согласование будет достигнуто. Но, спрашивается, само-то Международное Право, то, откуда выводится надгосударственное Международное Частное Право, – это Международное Право – выставляет ли оно такое положение, как то, что образует фундамент всего учения Цительмана, а именно, что с точки зрения Международного Права законодательная компетенция в области материального гражданского права принадлежит в каждом отдельном случае только одному государству, а не в то же время и другому? А что, если в Международном Праве вовсе не содержится такого положения? Что, если это положение Цительмана, а не требование положительного Международного Права? Этот чрезвычайной важности предварительный вопрос, то, что в парламентской процедуре называется «question prealable», поставлен Францем Канном; это вопрос, обращенный одинаково ко всем интернационалистам, и который в простых выражениях гласит так: «Действует ли отдельное государство противно требованиям Международного Права, когда утверждает, что не только закон другого государства компетентен в регулировании правоотношения, но что компетентен и его собственный закон? Или еще иначе: «Нарушается ли требование Международного Права, если государство не признает исключительной законодательной компетенции другого государства?». Чтобы быть еще более ясным, я приведу вам несколько коллизионных норм для образца.
Статья 17 германского закона говорит: «если в момент предъявления иска о разводе муж вышел из германского подданства, а жена осталась немкой, то применяется германский закон». Что это значит? Муж, скажем, сделался французским подданным; его состояние и дееспособность, согласно французскому кодексу, определяются французскими законами; следовательно, и вопрос о том, можно ли отнять у него субъективное право называть такую-то женщину своею женою, должен обсуждаться по французским законам. А между тем, германская коллизионная норма говорит, что этот вопрос будет обсуждаться по германским законам. Следовательно, германское законодательство не признает вовсе исключительной компетенции иностранного законодательства в вопросах семейственного права.
Другой пример: в 1893 году представители 13 держав на первой конференции в Гааге, созванной для кодификации Международного Частного Права, выработали проект закона о вступлении в брак; в первой статье этого проекта мы читаем: «Право вступления в брак определяется отечественным законом каждого из брачующихся, если только этот закон не отсылает к закону местожительства или к закону места венчания». Что это значит? Это значит, что сами державы признали, что законодательная компетенция в вопросе о вступлении в брак может безразлично принадлежать законам трех стран: или отечества, или страны, где будущие супруги постоянно живут, или страны, где они венчаются; и ни о какой исключительной компетенции отечественного закона державы не думали.
Этих примеров пока довольно, чтобы пояснить, в чем дело. Каково отношение Международного Права к Государственному Праву? Субъекты Международного Права, отдельные государства, мыслятся, как сообщество, от имени которого к каждому отдельному государству предъявляются известные требования относительно существующего в его пределах правопорядка; Международное Право, например, предъявляет к отдельным государствам требования, чтобы они не отказывали иностранцам в защите их личности и имущества; но тот правопорядок, который в силу исполнительных действий государственной власти создается внутри государства, есть не Международное Право, а Государственное Право. Другими словами, существуют два разных юридических приказания – внешнее и внутреннее. Внешнее приказание исходит от сообщества государств и обращается к отдельному государству: «введите у себя такой-то закон». Затем может последовать внутренне приказание, от лица отдельного государства к индивидам, – ко всем, кому ведать надлежит: «внимайте, – у меня будет законом то-то и то-то». Это внутреннее приказание может последовать, может и не последовать, – во всяком случае, то, что постановит этим приказанием государство, будет внутреннее Государственное Право, а не надгосударственное право. Словом, Международное Право есть требование, а не требуемое. Теперь мы спросим: обращается ли Международное Право, т. е. сообщество государств, к отдельным государствам с требованием, чтобы они имели у себя такие-то определенные коллизионные нормы, и, прежде всего, с требованием, чтобы они взаимно признавали только одно государство исключительно компетентным в регулировании гражданских правоотношений? Тысячу раз нет. Решительно никто, ни одна держава, ни один член сообщества государств не признает такой нормы Международного Права, что законодательная компетенция в каждом отдельном случае может принадлежать только одному государству, не признает, чтобы к отдельному случаю могло быть применено только одно материальное право. Напротив, мы видим на каждом шагу, что в коллизионных нормах отдельных государств компетенция гражданского законодательства строится на самых различных основаниях; что часто отдельное государство кумулирует эти основания, т. е. объявляет себя компетентным по нескольким основаниям и еще никогда представителям иностранных государств не приходило в голову такие явные нарушения принципа исключительности компетенции объявлять противными Международному Праву. Напротив, все признают такой образ действий вполне правильным. Принцип исключительности всеми и всюду игнорируется, и все коллизионные нормы которые дедуктивно выводится из этого принципа, не признаются за требования Международного Права; государства издают свои коллизионные нормы, не справляясь с теми теоретическими нормами, и никто их в этом не укоряет, и сами они угрызений совести не чувствуют. Вот Вам еще два примера. По большинству современных законодательств коллизионная норма предоставляет решение вопроса о дееспособности отечественному закону, т. е. решает его по привязке подданства; но в Англии и Дании этот вопрос решается по закону страны, где лицо имеет постоянное место жительства; в Соединенных Штатах Северной Америки – по закону страны, где совершен рассматриваемый акт. Если русская женщина выдаст доверенность или обязательство, то во Франции скажут: «Эти акты действительны, если эта женщина по русским законам имела право их совершить»; в Англии спросят: «Где имела эта женщина свое постоянное место жительство?», и если окажется, что она постоянно живет во Франции, где замужняя женщина не может выдавать актов без разрешения мужа, то в Англии скажут: «По французскому закону мы должны признать акт недействительным». А в Северной Америке не спросят, ни кто эта женщина по своему подданству, ни где она постоянно живет, а только – где акт совершен? и если он совершен во Франции, то скажут: нет, в силу закона места совершения акта он недействителен. И вот, никогда еще представителям России или Франции не приходило в голову утверждать, что в Англии и в Соединенных Штатах Северной Америки нарушают требования Международного Права тем, что дееспособность лица обсуждается в тех странах не по отечественному закону этого лица. Другой пример: наше законодательство предписывает российским подданным, как законную форму вступления в брак, церковное венчание, но двое русских, которые во Франции вступят в брак по форме, предписываемой законами Франции, будут во Франции считаться законными супругами, в России – живущими в безбрачном состоянии. Между тем, теоретики – интернационалисты находят, что правило locus regit actum, т. е. что формальная действительность акта обсуждается по закону места, где акт совершен, – что это правило имеет свои корни в Международном Праве, в уважении к суверенитету страны, где акт совершен. И, однако, ни Россия не думает, что Франция оскорбляет ее суверенитет, объявляя у себя законными браки русских подданных, совершенные в мэрии, ни Франция не думает, что Россия оскорбляет ее суверенитет, считая у себя такие браки незаконными. Месяца два тому назад мне пришлось читать в одной французской газете заметку под заглавием: «Барышни, берегитесь болгар». Оказывается, что студенты-болгары французских университетов Монпелье, Орлеана, Тулузы, Бордо часто женятся на француженках по французским законам, затем уезжают со своими семьями на родину – в Болгарию; бывали случаи, что мужья там бросали своих французских жен на произвол судьбы и те в Болгарии оказывались беззащитными, потому что их рассматривали как наложниц, потому что вне церковного венчания в Болгарии брак не признается законным. Газета предупреждала французских девушек и их родителей, что в таких случаях смешанных браков недостаточно перевенчаться у мэра, но нужно еще соблюсти требование церковной формы венчания; но она отнюдь не призывала громов французского правительства против Болгарин, у которой существует свое самостоятельное национальное законодательство и которая вправе регулировать у себя гражданские правоотношения, как ей вздумается. Таким образом, совершенно очевидно, что во всех приведенных слу чаях нет речи о нарушениях Международного Права. Если же право и не притязает на то, чтобы связывать обязанного, то это не есть право, и таким образом, мы вправе сказать: Международное Частное Право было бы ветвью Международного Права, если бы сообщество государств требовало от отдельных государств, чтобы они имели у себя определенные коллизионные нормы. Этого требования не существует, а, следовательно, из Международного Права вывести Международное Частное Право нельзя.
Попытка обосновать юридическую обязательность применения иностранных законов требованиями Международного Права должна считаться неудачной. Нет, государство обязано применять в некоторых случаях и иностранные законы, но в каких именно, – этого ему никакое Международное Право не предписывает. Вне тех договоров, которые существуют между отдельными государствами, вне тех конвенций, которые готовятся Гаагскими конференциями для кодификации Международного Частного Права, не существует Международного Права, которое диктовало бы государству, в каких случаях оно должно допускать у себя действие иностранных законов. Дело Международного Частного Права было бы очень плохо, если бы его основание лежало бы в Международном Праве, потому что на требование уважать суверенитет государства, издавшего иностранный закон, всегда может быть дан ответ, что суверенитеты равны; что территориальный закон не ниже иностранного закона; что применение к иностранцам всегда и во всех случаях территориального закона требуется уважением к местному суверенитету; что применение к ним местных законов означает только уравнение их с собственными подданными, а большего, как равенство с туземцами, для своих подданных никакое государство, следовательно, и Международное Право, требовать от других государств не вправе. Нет, Международное Частное Право есть право, но его корни лежат в национальном, или внутренне-государственном праве, и это основание гораздо прочнее. Государство обязано применять иногда и иностранные законы, потому что оно нарушило бы свою обязанность относительно собственных подданных гарантировать им приобретенные ими права; если оно не может вернуться к временам, когда поездка за границу составляла государственное преступление, если оно само не может существовать без обеспеченного международного товарного и денежного обращения, то оно и не может поступать иначе, как допускать у себя действие иностранных законов, не взирая на то, как в таких же случаях поступают другие государства. Государство нарушило бы свою первую обязанность относительно собственных подданных, если бы применение иностранных законов зависело в нем от прихоти государственной власти, если бы законодатель не считался с первою потребностью гражданского оборота, с коренным правомерным интересом собственных подданных гарантировать приобретенные права; применение иностранных законов к иностранцам есть уже не что иное, как отраженное действие правила, что ради собственных подданных необходимо применять их. Но в каких случаях государство должно применять иностранные законы, в каких свои, т. е. каково содержание коллизионных норм, – это решается не с точки зрения Международного Права, а внутренне-государственным правом. Основанием действующей в стране коллизионной нормы будет всегда только выраженная или молчаливая воля государства.
Это реалистическое воззрение на источник Международного Частного Права делает все большие успехи по мере того, как появляются новые кодификации. Международного Частного Права, в особенности после издания германского уложения и проектов Гаагских конференций. Английская юриспруденция всегда стояла на той точке зрения, что коллизионные нормы составляют не что иное, как отрасль внутренне-государственного права, которая с необходимостью вырастает из того факта, что в юридических отношениях участвует иностранный элемент. Напротив, в юриспруденции Германии, Франции и Италии еще недавно господствовали интернационалисты. То или другое воззрение на происхождение норм Международного Частного Права отражается на методе его изучения. Очевидно, что дедуктивный метод, которому следуют интернационалисты, не дает знания реальной действительности, потому что общеобязательные для всех государств коллизионные нормы не могут быть выведены из какого-нибудь одного начала. Правильно держаться индуктивного метода, т. е. изучать положительные законодательства. Но и одним позитивизмом нельзя ограничиться, прежде всего, потому, что каждое законодательство в отдельности представляется чрезвычайно скудным. В особенности же позитивизм недостаточен, потому что конечною целью науки всегда останется отыскание такого принципа, который привел бы к установлению гармонии законодательств так, чтобы субъективные права оставались обеспеченными всюду, где бы они ни обсуждались; поэтому нельзя изучать какое-либо одно законодательство с его коллизионными нормами. Чтобы управлять оркестром, нужно не только знать, как рассадить музыкантов, но и знать, какие звуки можно извлечь из каждого инструмента; для того, чтобы получилась гармония, нужно знать, какие инструменты должны порою и помолчать. Гармония законодательств, которой добивается Международное Частное Право, состоит в том, чтобы законодательство, которое могло бы сказать свое веское слово, немного помолчало и дало поговорить другому. В каждом коллизионном случае сталкиваются, по крайней мере, два правопорядка; чтобы знать, который из них должен в данном случае уступить, нужно знать, какие цели преследуются материальными нормами данного правопорядка, на сколько достижение этих целей важно для этого правопорядка; только тогда, сравнивая столкнувшиеся материальные нормы, можно знать, какими целями материального права можно пожертвовать ради устойчивости права в международном обороте, какая коллизионная норма лучше разрешит столкновение, скорее приблизит к гармонии законов. Следовательно, необходимо знать не одно какое-нибудь материальное гражданское право, а все, которые дают повод для коллизий. Таким образом, сам собою предуказывается индуктивно-сравнительный метод изучения; он один может привести к выработке таких коллизионных норм, при которых приносилось бы в жертву возможно меньше целей, преследуемых внутренне-государственными или национальными законами, но достигалась бы возможно большая гармония между отдельными законодательствами.
Теперь, я надеюсь, вы достаточно ориентированы в вопросах о значении и задачах современной науки Международного Частного Права. В ближайших лекциях я остановлюсь на истории науки, познакомлю нас с теми попытками, которые делались в течение веков для отыскания принципа примирения между туземными и иностранными законами, и покажу, как дедуктивный метод привел только к новой формулировке проблемы Международного Частного Права.
Лекция 3-я
В настоящей лекции я буду говорить об истории нашей науки до половины XIX в. Сначала я в кратких чертах расскажу вам, как в течение столетий европейцы жили, не испытывая потребности в Международном Частном Праве, и как эта потребность явилась. Я начну с эпохи Римской Империи, потому что вся наша юриспруденция своими корнями сидит в римском праве. Начало науки Международного Частного Права положено было в XIII в., […] появились первые ученые юристы. – В Римской империи, после того, как Каракалла объявил всех свободных людей римскими гражданами, т. е. распространил действие римского гражданского права на всю империю, исчезла возможность конфликтов между законодательствами разных национальностей, входивших в состав империи. – На развалинах римской империи возникли германские королевства, которые в течение нескольких столетий еще сохраняли свой племенной характер; они не мешали покоренным римлянам жить и дальше под действием римского права, и каждое племя продолжало устраивать свои гражданские отношения по своему племенному закону, по своей салической, баварской, лангобардской и т. д. «правде». – В империи, созданной Карлом Великим, действовало не одно общее для всех гражданское право, а столько прав, сколько было племен; и сверх того церковь с ее сложными имущественными отношениями жила по римскому праву. – В IX в. еще господствует так называемая система личных прав. Нет закона, который правил бы безразлично всеми, живущими в стране; каждое лицо считало законом только «правду» или «устав» своего племени. Например, для вступления в брак нужно было, чтобы жених имел на то право по своей племенной «правде»; но размер выкупа невесты из-под власти опекуна определялся по ее племенной «правде». Обязательство имело силу, если оно было согласно с племенною «правдою» ответчика. Каждое лицо должно было знать, по какому из существующих гражданских законов оно живет; и изменить это свое объективное право так же нельзя было, как самому изменить свое сословие. На смену этому состоянию в 10 веке с развитием феодализма наступает иной порядок вещей. Феодализм превратил народы из массы соплеменников в массу ленников; отношения определяются уже не племенным происхождением, а служебною зависимостью. Вся страна, где еще в 9-м веке правил император, распылилась на множество феодальных владений, где землевладелец был вместе и носителем военной, политической и судебной власти; Luft macht eigen, поясняли в наступившую эпоху средних веков, т. е., кто дышит моим воздухом, кто пробыл один год и один день на моей земле, тот становится моим вассалом или моим крепостным. Весь общественный порядок зиждился на землевладении и на прикреплении человека к земле. Наиболее ценным имуществом в те времена была земля; человек имел значение только как придаток к земле; оттого и нормы обычного права касались главным образом сделок по поводу земли. Если право собственности на землю вообще исключительно, то насколько еще более исключительно господство над нею, когда землевладелец вместе и военный, и политический глава всех, живущих на его земле. Понятно, что в пределах феодального владения не могло быть и речи о признании каких-либо других норм владения землею, перехода ее по договорам и наследству, кроме тех, которые освящены были местными обычаями и которые поддерживались феодальным судом. Так, на место порядка, при котором каждый жил по своему личному закону, стал порядок, при котором все жили по закону территории, куда их принесли обстоятельства.
В XIII в. люди, выросшие в такой юридической атмосфере, начинают толпами устремляться в университеты северной Италии, […] римского права. Его нормы – прямая противоположность феодализму; оно регулирует отношения между лицами, не между землями. Для профессоров и студентов – юристов 13-го века – римское право – писаный разум, ключ справедливости. В римском праве один из профессоров XIII в., глоссатор Аккурсий, вероятно, возмущенный крайностями территориального принципа в праве, нашел основание для своих сомнений в правильности этого принципа. Он ухватился за буквальный текст закона 4-го века, которым императоры повелели верить в Святую Троицу всем народам, коими правит их милость. Вот как воскликнул Аккурсий: «Всем народам, коими правят», а, следовательно, для тех, коими не правит, закон не обязателен; и эту свою мысль он пояснил в глоссе (примечании) к римскому тексту так: «когда болонец придет в Модену, его нельзя судить по статутам Модены, коим он не подчинен, потому что сказано ведь в римском законе: «коими правит». Это замечание было исходным пунктом всей нашей науки. Если бы его сделал юрист к северу от Альп, оно осталось бы простым школьным примером; в Ломбардии оно получило значение ответа на большую жизненную потребность. Северная Италия в XIII в. была покрыта сетью цветущих, самоуправляющихся городов; в отличие от городов остальной Западной Европы того времени они вели между собой живые, постоянные сношения, а сильно развитая экономическая жизнь вызывала образование новых юридических форм; фактическая независимость от императора делала возможным появление в каждом из этих городов-республик своих местных законов или статутов. Вся страна жила по Ломбардскому праву, ему следовало все сельское население и местные феодалы, которые, в отличие от феодалов к северу от Альп, не угнетали горожан, а сами их боялись; на новые вопросы экономической жизни, на которые Ломбардское право ответа не давало, юристы искали ответа в римском праве; к этим двум источникам права присоединился третий – городские статуты, которые отличались от тех двух и разнились между собою. Когда перед юристами встал вопрос вроде следующего: действительно ли завещание, составленное французом из Прованса в Венеции, и снабженное, согласно Венецианским статутам, подписями двух свидетелей, в то время как по римскому праву, которое действовало в Провансе, обязательно семь свидетелей? – тогда оказались налицо первые в истории Западной Европы конфликты законов или коллизии статутов и началась работа юридической мысли над разрешением конфликтов, работа, которая продолжается и в наши дни, и которая становилась и должна становиться тем сложнее, чем сложнее отдельные законодательства и чем шире круг сталкивающихся законодательств.
В XIII и XIV веках ряд юристов, итальянцев или французов, профессора университетов в Болонье, Падуе, Сиене, Флоренции или Тулузе, Монпелье и Орлеане, занимаются вопросами, вытекавшими из коллизии статутов в Ломбардии и из кутюмов отдельных областей во Франции. Можно назвать больше десяти писателей, из которых каждый вложил свою лепту в новую науку, но всех их затмил профессор Пизанского университета Бартоло (1314–1357), который прожил всего 43 года, но оставил имя более известное даже, чем имена многих десятков писателей XV и XVI столетия. Бартоло поставил на свое разрешение два вопроса: распространяется ли территориальность статутов на лиц, которые ему не подвластны, т. е. на иностранцев? И оказывает ли статут действие за пределами территории, т. е. за границей? Бартоло методически рассмотрел множество казусов, стараясь дать для них решения, согласно с тем, что он считал справедливым; своим ответы он подкреплял ссылками на источники римского права, которые, однако, на самом деле, его ответов нисколько не подтверждали уже потому, что римскому праву вопросы о коллизиях были чужды. Потомство отчасти преувеличило его значение, отчасти оказалось к нему несправедливым. Оно приписало ему формирование теории реальных и личных статутов. Французский ученый Лене (Lainé) показал, что это неверно; Бартоло говорил, что существуют реальные и личные статуты, но не говорил, что все законы делятся на эти две категории. Затем из его сочинений выхвачены были отдельные рассуждения, и то, что у него говорилось мимоходом и что в данной обстановке могло быть и верно, выдвинуто было на первый план, как сущность учения, и в последующие столетия это дало оружие для легкого торжества над ним. Так, в одном месте своей диссертации Бартоло решает вопрос о силе акта, составленного лицом по его территориальным статутам вне своей территории, т. е. за границей по своим отечественным законам; и после ряда обычных у него делений и подразделений, попутно давая ответы, правильность которых признается доныне, он подходит к вопросу: по какому закону определяется наследование после иностранца? Он пишет: «Английский кутюм требует, чтобы старший сын получал все наследство; как быть, если умерший оставил имущество в Англии и в Италии?». «Я думаю, – говорит Бартоло, – что нужно внимательно вчитываться в текст кутюма или статута; если выражения статута имеют в виду, прежде всего, вещи, например, «имущества умерших должны доставаться старшему в роде», то я скажу, что нужно применить закон страны, где лежат имущества; если же слова кутюма указывают на то, что имелись в виду, прежде всего лица, например, «старший в роде пусть наследует», тогда я различу: если умерший не англичанин, то к его детям английский статут не применяется, потому что постановления, касающиеся лиц, на иностранцев не распространяются; если же он был англичанин, то старший сын получит имущества, находящиеся в Англии, а в других странах получит только долю согласно с общим, т. е. с римским правом. Главное – смотреть, сделано ли постановление ввиду вещи или ввиду лица». – Вырвав это место из целой книги, одни наивно усмотрели в рассуждениях Бартоло общее наставление или теорию и прием исследования; другие, поднимая на смех обобщение, которого Бартоло не делал, думают, что уничтожают всего Бартоло. Говорили, что Бартоло делил все законы на две категории – вещные и личные, и различал их по грамматической конструкции текста; если впереди упоминается о вещи, значит, закон – вещный, а, следовательно, и территориальный, т. е. за границей не действующий; если раньше упоминается о лице, то, значит, закон личный, а, следовательно, и экстратерриториальный. – Обобщая другое место, говорили, что Бартоло делил все законы на благоприятные и враждебные или одиозные; объясняли, что первые обязательны для всех граждан, где бы они ни находились; например, статут, ограничивающий малолетнего в праве завещать, благоприятный, потому что ограждает его самого и его законных наследников, следовательно, малолетний не может составить завещание и за границей; а одиозные статуты не простираются за пределы территории; например, лишение дочерей права на наследование, не относится к имуществам, находящимся за границей. Конечно, такой критерий, как то, какое слово стоит раньше, какое – после, часто обманчив; но чтобы толкование по грамматическому принципу было вообще нелепостью – этого не могли утверждать и насмешники, а в принципе Бартоло ничего другого и не требовал, как только грамматического толкования текста. Различение статутов на благоприятные и одиозные, несомненно, было приемом неудачным, потому что нельзя говорить о том, благоприятен ли статут или нет, когда неизвестно, с чьей точки зрения смотреть на него, – того, кто от его применения выигрывает, или того, кто от него теряет. Но не вина Бартоло, если его последователи за это различение ухватились как за путеводную нить в лабиринте статутов. Идея Бартоло была та, что применение статутов нужно расширять, когда этого требует справедливость, и суживать в обратном случае; но это руководящий принцип всякого юриста, когда он утверждает, что к иностранцу должен применяться его личный закон. Ошибка была в том, что юристы, которым приходилось регулировать конфликты законов, все равно хороших и дурных, становились на точку зрения, которая уместна только у законодательного реформатора. Оценка статутов по их добрым и дурным намерениям была приемом фальшивым, но не Бартоло им злоупотреблял. Таким образом, его без достаточного основания сочли творцом теории статутов, и ему также несправедливо приписали увлечения его последователей; в действительности это был трезвый, практический ум, и мы обязаны ему первою широкою систематизациею вопросов, выдвигаемых коллизией законов, и множеством удачных ответов, вызванных исканием разумного и справедливого решения. После Бартоло в течение двух столетий юристы рабски следуют за ним и утрируют его рассуждения.
В XVI в. занятие коллизионными вопросами сосредоточивается преимущественно во Франции; здесь каждая провинция имела свои кутюмы, и в политически объединенном государстве коллизии кутюмов должны были являться на каждом шагу. В ряду французских юристов XVI в. особенное место занимает Дюмулен (1500–1566); его одни считают последним из плеяды юристов школы Бароло или постглоссаторов; другие видят в нем первого из новой школы французских статутариев. С Бартоло и другими итальянскими писателями его роднит стремление расширять действие местных кутюмов за пределы их территории. В этом отношении он был верным слугою французских королей, которые складывали здание абсолютизма, доканчивая разрушение феодализма как политической организации. Но феодализм еще был силен в социальном отношении и правах. Каждая провинция держалась своих кутюмов как остатка своей национальной особенности. Привязанность провинций к кутюмам еще укрепилась в XVI-м веке, когда кутюмы были редактированы на письме. Тогдашний юридический афоризм гласил: «Все кутюмы реальны», т. е. в пределах провинции действуют только ее кутюмы и действуют безраздельно; за пределами данной провинции они силы не имеют. Дюмулен, признавая вместе со всеми реализм кутюмов, высказался в вопросе об имущественных отношениях супругов так, что реализм кутюмов подрывался в корне; он находил, что если супруги вступили в брак в области парижских кутюмов, то те права на общие имущества, которые по этим кутюмам принадлежали жене, распространяются и на имущества, лежащие в области нормандских кутюмов, и притом не только, когда супруги заключили предбрачный договор, но даже когда вступили в брак молчаливо, но только в области кутюмов, по которым признается право жены на общее имущество. Это означало, прежде всего, что от воли сторон зависит выбор тех разноместных законов, которым они хотят подчинить свои отношения; благодаря этому воззрению Дюмулен считается инициатором учения об автономии воли. Это означало, далее, то, что молчаливо под видом соответствия с волею сторон кутюм одной провинции проникает в другую, т. е. становится личным, экстратерриториальным. Такое учение было совершенно в дух итальянских постглоссаторов, у которых не было никакого специфического расположения к вещным или к личным статутам, но которые охотно расширяли сферу применения личных статутов, когда считали это справедливым. Но учение Дюмулена встретило резкий отпор в юристе, который в защите реальности кутюмов видел борьбу за дальнейшее существование национальной автономии Бретани. Д’Аржантре (1519–1590), бретонский дворянин, судья и историк, восстал против вторжения чужих кутюмов в область кутюмов Бретани, и в связи с этим выступил против всей школы итальянских постглоссаторов и формулировал ту теорию статутов, которую впоследствии писатели, незнакомые с источниками, приписывали без разбора всем юристам, начиная с Бартоло. Д’Аржантре высказывает свое призрение к писателям схоластикам, «которые, – говорит он, – только путаются в своих бесконечных делениях и подразделениях, различениях, цитатах, мнениях, и, вследствие неустойчивости собственных воззрений, отпускают читателя с еще меньшею устойчивостью взглядов». На место всего пестрого разнообразия он выставляет упрощенную систему, которая сводится к следующему. Все статуты (статуты в смысле кутюмов или законов вообще) делятся на три категории: реальные, личные и смешанные. Как общее правило, все статуты реальны; это значит, что каждый кутюм строго территориален; на своей территории он царствует безраздельно; за пределами территории он ничто. В виде исключения некоторые статуты личны, т. е. применяются к лицам и вне территории. В категорию смешанных статутов входят законы, которые касаются одновременно и вещей, и лиц; эти статуты также территориальны. Тенденция Д’Аржантре ясна уже из этого деления. Личные статуты для него не равноправные с реальными, как было у постглоссаторов, а – только исключение из правила; смешанные статуты придуманы для того, чтобы еще более расширить группу реальных статутов и сузить группу личных. Личные статуты для него те, которые касаются только состояния и общей способности лиц к совершению гражданских актов; но если статут имеет хотя бы самое отдаленное отношение к недвижимости, или если он содержит не общее, а специальное ограничение дееспособности, – он уже смешанный или реальный. Статут, по которому совершеннолетие в Бретани определяется в 20 лет, а в Париже в 25 лет, есть статут личный; статут, по которому замужняя женщина не вправе заключать договоры – также статут личный. Но статуты, которые касаются только недвижимостей, реальны; статуты, которые говорят о разделе недвижимости, но при этом различают, к какому сословию принадлежат совладельцы; или статуты, которые хотя и говорят о дееспособности лиц, но о той, которая нужна для продажи недвижимости; или статуты, которые определяют состояние лица (например, узаконение внебрачного дитяти), но имеют последствием установление прав в недвижимости – все это статуты смешанные, следовательно, реальные, территориальные. – Учение Д’Аржантре носило политический характер; оно тенденциозно увеличивало до крайности группу реальных статутов, чтобы отстоять законодательную автономию провинции, для которой ее кутюмы были наследием ее национального прошлого; покушение на территориальный суверенитет кутюма Д’Аржантре сравнивал с покушением на кражу; стремление кутюмы выйти за свои территориальные пределы он считал узурпацией. Во Франции такое учение, как поздний плод феодализма, уже не могло иметь успеха; французские статутарии после Д’Аржантре уже не мирятся с тем, что личные статуты могут быть терпимы только как исключение из правила; они продолжают следовать традиции итальянских постглоссаторов; в таких вопросах, как дееспособность или форма актов, они отнюдь не стараются, во что бы то ни стало применять местные законы и устранять те, которые действуют в провинции, где лицо постоянно живет или где составлен акт. Зато учение Д’Аржантре приобретает большую популярность в XVII в. в Нидерландах, где политические условия сложились так, что территориальность статута означала признание местной независимости. Города Фландрии и Брабанта в XVII в. вели, как и ломбардские города в XIII в., оживленную торговлю; отсюда потребность в правилах для решения конфликта между местными законами; северные провинции, отпавшие от Испании по Утрехтскому договору, т. е. Голландия; южные, оставшиеся под управлением испанских эрцгерцогов, т. е. Бельгия, – все имели свои кутюмы, поступаться которыми могло оказаться несовместимым с национальною независимостью. В Бельгии появился первый в истории законо дательный памятник, в котором не свободные писатели и не судьи, а государственная власть формулировала коллизионную норму; это был «вечный эдикт» Альберта и Изабеллы 1611 г.; он решает конфликт в пользу территориальных кутюмов: для завещательного распоряжении недвижимостью требуется, чтобы как дееспособность завещателя, так и формы завещания соответствовали требованиям кутюма того места, где лежит недвижимость; личный статут завещателя, как и закон того места, где завещание составлено, роли не играют. После того, как целые столетия уже практиковалось правило locus regit actum, т. е. формальное значение акта определялось законом того места, где акт совершен, постановление эдикта было анахронизмом; вскоре поэтому пришлось его значительно изменить, ослабив его территориальность. Здесь, в Нидерландах, в XVII в. выступает третья в истории нашей науки значительная группа писателей. Первый из них, Бургундус (1586–1619), оправдывал преимущество реальных статутов еще только феодальными соображениями, которые он вздувал до карикатурности. Имущества, – говорил он, – составляют кровь и душу человека; без них человек труп среди живых; они не следуют за лицом, а влекут его к себе и навязывают ему свой, т. е. реальный статут. Отсюда и те формальности, которые установлены для завещаний, суть только качества, неотъемлемые от собственности. Для определения дееспособности он, впрочем, признавал личный статут, как рубец от раны, который человек всюду на себе носит. – Последующие голландские писатели XVII в. выдвигают уже на первый план не феодальное отношение к земле, а более новую идею территориального политического суверенитета. Прежде, говоря, что статут реален, имели в виду его отношение к вещам; теперь реальность есть синоним территориальности. Все эти писатели стоят на том, что реальность статута есть правило, а персональность или личность – исключение. Один из них, Иоанн Фут (1647–1714), дал новое объяснение того, почему такое исключение допускается, и это объяснение на два столетия сделалось аксиомой. Это та ссылка на международную вежливость, comitas nationum, как оправдание допущения иностранных законов, о которой я упоминал в первой лекции. Иоанн Фут доказывал, что государственная власть на определенной территории только одна; что, строго говоря, перед судом иностранец не вправе ссылаться на законы своей страны даже для определения своего состояния и дееспособности; что судья, обязанный исполнять только волю своего государства, должен применять только местные законы. Если и делаются исключения, освященные вековою практикою, то это не более как следствие расчета, соображения о пользе или вежливости к другим государствам. Такие исключения делаются в пользу движимостей, которые следуют закону места жительства, и в пользу форм актов, которых законность определяется по месту совершения. – Ссылка на comitas пришлась по вкусу всей эпохе просвещенного абсолютизма. Другой голландский писатель, Губер (1636–1694), формулировал все принципы о коллизии законов в трех положениях, которые были восприняты судебною практикою, в особенности в Англии, как аксиомы: 1) законы каждого государства управляют территорией и всеми подданными, но вне территории не имеют никакой силы; 2) все, кто находится на территории, хотя бы и временно пребывающие, становятся как бы подданными государства; 3) действие иностранных законов допускается только в силу вежливости, поскольку это не приносит ущерба правам и власти государства и его подданным.
В XVI и XVII вв. в круг коллизионных вопросов втягиваются и немецкие писатели; это легко объясняется множеством партикулярных законодательств Германии, а, следовательно, и поводами для коллизии. Эти немецкие писатели воспитаны на римском праве, которое было к тому времени реципировано в Германии, как общее право; им чужд характерный для Д’Аржантре интерес к кутюмам, в которых отражалось не римское, а германское право, с теми кодификациями, которые принес феодализм; они стоят ближе к итальянским постглоссаторам; у них нет особенно тенденциозного предпочтения к реальным статутам. Важнейший из писателей XVII в., Герциус (1652–1710), держится деления законов на три группы: законы о лицах, законы о вещах, законы о формах действий. Когда закон касается лиц, то следует принимать во внимание законы того государства, которому лицо подвластно, т. е. где оно имеет постоянное местожительство; но из этого правила Герциус делает три исключения. Когда закон касается вещей, то решает закон того места, где находится вещь; впрочем, это правило не относится к движимостям. Наконец, когда закон касается формы акта, то решает закон того места, где акт совершен; однако из этого правила Герциус делает шесть исключений. Герциус не употребляет выражений: реальные, личные и смешанные статуты, – но в действительности то, чему он учит, есть не что иное, как теория статутов, формулированная Д’Аржантре и голландскими писателями XVII века. В Германии ей следовала вся судебная практика до первой половины XIX века.
Во Франции учение о коллизиях законов вторично привлекло к себе внимание юристов в XVIII в.; тогда появились огромные комментарии кутюмного права, в которых попутно разрабатывалась и теория статутов. Из писателей той эпохи наиболее ори гинальным был Бугье (Bouhier); вся трудность теории статутов заключалась в том, что не было точного критерия, по которому один закон относится к числу реальных, а не личных, а другой к числу личных, а не реальных. Бугье интересен тем, что множество законов, которые все другие писатели относили к реальным, а, следовательно, и к территориальным, т. е. не имеющим силы вне территории, Бугье как раз наоборот, и по тем же основаниям, относил к личным статутам, т. е. к экстратерриториальным. Он так же, как и все писатели XVIII в. после Иоанна Фута, учил, что применение иностранных законов объясняется только благорасположением отдельных государств и всестороннею пользою. – Революция 1789 г. имела своим последствием объединение французского гражданского права; все провинциальные кутюмы исчезли, и на их место стал кодекс 1804 г. Естественно, что и всякий интерес к коллизионным вопросам во Франции исчез надолго, пока в середине XIX в. не участились случаи конфликтов между французскими и иностранными законами. Интерес к коллизионным вопросам продолжал держаться в Германии, где все еще не было достигнуто законодательное объединение. Здесь к 40-м гг. XIX в. выросла огромная литература по коллизионным вопросам, которая не следовала за статутариями, но и не выдвигала ничего яркого на место их теории. В 40-х г.г. в Германии же явился писатель, который произнес, так сказать, надгробное слово над теорией статутов; это был Вехтер, с которым вы познакомитесь в особой лекции. Лет десять тому назад о теории статутов говорили только как о прошедшем, но в 1897 г. Варейль-Соммьер (Vareilles-Sommieres) выступил с открытой реабилитацией теории, в 1903 г. Пилье с подражанием теории статутов, так что знакомство с нею приобретает вновь не одно только историческое значение.
Догматическое изложение отдельных учений статутариев я откладываю до того, как мы будем знакомиться с отдельными институтами семейственного, вещного и наследственного права. Теперь я только в общих чертах скажу об основных положениях теории статутов. Вы уже видели, что в течение столетий она изменялась, так что то, чему учили Д’Аржантре и голландцы XVII века, не совсем то, что писали французы XVIII в. Но в общих чертах можно сказать, что теория содержала пять правил.
1) Существуют законы территориальные, которые применяются ко всем, кто находится в стране, как к тем лицам, которые постоянно живут в ней, так и к иностранцам, которые временно в ней пребывают. Сюда входят все законы о недвижимостях – т. е. все законы, которые определяют, что такое недвижимость, и которые регулируют вещные и наследственные права. Территориальные законы образуют реальный статут.
2) Существуют другие законы, экстратерриториальные, которые, во-первых, не применяются к тем, кто не имеет постоянного местожительства на их территории, а только временно там пребывает, и которые, во-вторых, следуют за теми, нем управляют, и за границу. Эти экстратерриториальные законы образуют личный статут.
3) По исключению реальный статут не применяется к движимым имуществам, хотя это тоже вещи, res. Движимости прикреплены к костям, mobilia ossibus inhaerant; движимости следуют за лицом, mobilia personam sequuntur. Законы о движимостях экстратерриториальны; они сопровождают лицо за границу, т. е. и за границей движимости управляются не законами того места, где они сами лежат, а законами того места, где постоянно живет их собственник. Из всех правил статутариев это единственное, которого современная наука не признает.
4) К содержанию договоров применяются те законы, которым стороны условились их подчинить, т. е., – беру пример из современной жизни, – немец и итальянец, заключая договор во Франции, могут условиться, что недоразумения между ними при исполнении договора должны обсуждаться по французским, или по германским, или по итальянским законам. Это теперь называется принципом автономии воли.
5) К форме договоров и односторонних актов, например завещаний, применяются законы места их совершения. Это выражалось словами locus regit actum, место правит актом.
Теперь я сделаю оценку теории.
Она вырабатывалась в ту эпоху, когда преобладало землевладение; отсюда понятно, что особое внимание юристов привлекали к себе законы, касавшиеся недвижимых имуществ. Lex rei sitae, закон того места, где лежит вещь, стоял во главе всех интересов. С другой стороны, в то время личная связь подданного с государством устанавливалась также через землю, через то место, где лицо постоянно живет; отвлеченная идея личной связи с сувереном, современная идея подданства была только в зародыше. Соперником реального статута, или lex rei sitae, являлся lex domicilii, закон места, где лицо постоянно живет; это был его личный статут. При сравнительно малой сложности тогдашней жизни можно было все юридические отношения подгонять или к закону места, где лежит вещь, или к закону места, где имеет постоянное жительство лицо. Так объясняется происхождение идеи о двух группах законов. Задача состояла в том, чтобы определить, какие законы не уступают своего господства иноземным законам, – и какие законы, наоборот, распространяются за пределы территории; теория была построена на предположении, что как в природе различаются вещи и лица, так и законы по своей природе, одни касаются вещей, другие – касаются лиц; а так как вещи неподвижно прикреплены к территории, а лица движутся, то естественно было заключить, что законы о недвижимостях территориальны, а законы о лицах – экстратерриториальны. В эти две группы статутарии и старались вместить все законы. Мы видели, правда, что Д’Аржантре создал еще группу смешанных статутов, чтобы отнести сюда все сомнительные законы и причислить их также к реальным, так что, в сущности, остались те же две группы. В XVIII в. Павел Фут также учил, что есть третья группа – смешанные статуты, куда он относил законы о форме сделок, но господствовало в теории деление на две группы. Это были как бы две коробки, куда надлежало разнести все законы, и вот – затруднение начиналось, как только приступали к укладке. Теория была бессильна дать критерий, почему один закон следует относить к реальным, другой к личным статутам. Огромная литература статутариев занята, главным образом, объяснением, какой закон в какую категорию относится. Задача эта настолько трудна и неблагодарна, что иной раз писатели с отчаянием складывали руки и говорили, что вопрос для них неразрешим. Фролан, французский писатель XVIII в., написавший два тома о природе статутов, пишет: «иной воображает себя большим искусником и думает, что открыл секрет, когда узнал, что реальный статут касается имуществ, а личный – касается лиц; между тем, с этими определениями мы только у азбуки и знаем еще очень мало; труд в том и состоит, чтобы открыть, когда статут касается только имуществ или только лица. Я сам очень часто, несмотря на все мое внимание, ошибался». В самом деле, научного критерия, который определял бы природу закона, у статутариев не было. Их критерии – грамматическое толкование текста и различение между благоприятными и враждебными статутами – только открывали поле для бесконечных споров. Легко сказать, что закон о состоянии, например, – закон, определяющий возраст для вступления в брак; или закон, воспрещающий брак в известных степенях родства; или закон, определяющий поводы для развода, – что все эти законы образуют личный статут. Также просто сказать, что закон, определяющий, какие вещи движимые, какие – недвижимые, – есть реальный статут. Но куда отнести законы, которые одновременно касаются и дееспособности лиц, и вещей, – например, кутюм, по которому лица моложе 25 лет не могли отчуждать свою недвижимость без согласия опекуна; что это – личный статут малолетнего или реальный статут? Имеет ли жена, которой закон ее местожительства дает право ипотеки на недвижимости мужа в обеспечение ее приданого, имеет ли она эту ипотеку на имущество мужа, находящееся за границей, в стране, где такая ипотека неизвестна? Например, француженка, выйдя замуж, имеет право на недвижимое имение своего мужа; имеет ли она это право на имение мужа, находящееся не во Франции, а, например, в России? Эти трудности с помощью простого деления статута на разряды не разрешались.
Но, положим, что трудность как-нибудь побеждена, что законы по коробкам разложены. Вот коробка с законами личного статута; вам говорят, что они правят лицом и за границей. Но вы спросите, почему эти законы могут управлять лицом за границей? Д’Аржантре говорил, что носитель политической власти вправе определить состояние лиц, которые постоянно живут на его территории, так что, куда бы эти лица ни пошли, их состояние уже не изменится. Он и Герциус находили, что власть простирается только на территорию и на земли, а потому на тех, кто не связан с территорией постоянным местом жительства, власть не простирается. Это, однако, вовсе не объясняло, почему за границей обязаны признавать то состояние, которое дала лицу господствующая над ним территориальная власть; ведь из того, что лицо подчинено законам своего места жительства, вовсе не следует, что иностранное государство должно признавать это подчинение, что оно не вправе обсуждать состояние лица по своим законам. Другое объяснение – Иоанна Фута и Губера – ссылка на международную вежливость – тоже ничего не объясняло.
Наконец, если теория статутов, с грехом пополам, разрешала конфликты между реальными и личными статутами, то она оказывается совершенно непригодной для нового времени, когда часты конфликты между двумя личными статутами, где у суда нет вовсе опоры в реальном или территориальном статуте, чтобы признать или отвергнуть личный статут; если, например, во Франции между собою спорят итальянец и немец, и судье нужно решить, применить ли итальянский или германский закон, то в теории статутов на это он ответа не найдет.
Итак, о теории статутов можно сказать, что она была только постановкою задачи, но не ее разрешением.
Тем не менее, презрительное отношение к статутариям, которое встречается у новых писателей, несправедливо. Прежде всего, следует помнить, что теория статутов оставила одно прочное наследство – свою терминологию, и уже это одно мешает нам быть к ним неблагодарными. Я прошу вас запомнить те технические термины, которые мы унаследовали от статутариев. Слово «статут» давно утратило свое значение как закон итальянских городов, и уже у статутариев оно значило закон вообще. Мы и теперь употребляем термин «статут», чтобы обозначить то объективное право, то законодательство, которому подчинены лицо, вещь или действие. Мы говорим: данный случай решается по реальному статуту или по lex rei sitae, т. е. по законодательству той страны, где лежит вещь. Мы говорим: способность лица быть, например, опекуном, или права родительской власти обсуждаются по личному статуту, т. е. по законодательству той страны, которая есть отечество данного лица. Я говорю вам пока «отечество» без пояснения, что это в Международном Частном Праве означает, потому что теперь это отвлекло бы нас далеко в сторону; но я прошу вас запомнить, что вместо термина «личный статут» мы будем употреблять и термин lex domicilii, т. е. закон постоянного места жительства; точно так же мы будем называть личным статутом отечественный или национальный закон, чтобы обозначить подданство. Мы говорим, далее, и теперь: lex loci actus, когда хотим сказать, что юридическое действие, например, договор или проступок, обсуждаются по законам страны, где действие совершено. Мы говорим: locus regit actum, чтобы обозначить, что форма юридических актов обсуждается не по реальному статуту и не по личному статуту, а по законодательству той страны, где акт совершен. И, наконец, мы говорим lex fori, когда хотим сказать, что вопрос решается по территориальному законодательству суда, т. е. по тому закону, который исходит от законодателя, от имени которого судья отправляет правосудие.
Но не только в силу простой благодарности мы должны сказать, что насмешливое отношение к статутариям несправедливо. На практике в их решениях играли меньшую роль их обычные критерии и большую – юридический такт писателей и судей, верная оценка данного юридического отношения. Один писатель XIX в. сказал о статутариях, что они напоминают фехтовальщиков, которым завязали глаза, и которые, делая привычные жесты, порою наносят противникам верные удары. Это справедливо не столько о самих статутариях, сколько об их теории; действительно, для обоснования решения, правильность которого чувствовалась всеми, теория не годилась. Споры и разногласия между писателями; противоречия с самим собою у отдельных писателей; формулирование правила, из которого тотчас же делаются исключения, из которых, в свою очередь, новые исключения, – все это дало последующей эпохе основание смотреть на с трудом усвояемые сочинения статутариев свысока; на самом деле их труды и теперь остаются кладезем фактов при изучении отдельных институтов; без глубокого знакомства с этими трудами нет полного знания в науке Международного Частного Права. А затем, никогда не следует забывать высокой идеи, руководившей теми статутариями, которые стояли за расширение личных статутов. Бульнуа (Boullenois), французский статутарий XVIII в. говорит: «разные законы, правящие народами, это – государи, авторитет которых я не желаю оскорблять; но и на весь мир я смотрю как на великую республику, где нужно водворить мир и доброе согласие».
Лекция 4-я
В первую половину XIX в. интерес к коллизионным вопросам на материке Европы сосредоточивается уже не во Франции и не в Нидерландах, где также при Наполеоне введен был французский кодекс, а в Германии, где существовало по-прежнему множество партикулярных законодательств. В немецкой юриспруденции попытки дать теоретическое обоснование применению иностранных законов сделаны были целым рядом цивилистов, но первая, оставившая прочный след в науке, принадлежала Вехтеру в 1841 г. Вехтер является родоначальником внутренне-государственного или национального направления в науке Международного Частного Права, в противоположность интернационалистическому направлению, которое ведет свое начало от Савиньи.
Вехтер исходит из положения, которое совершенно бесспорно: в вопросе о том, какой закон применить, свои или иностранный, судья должен, прежде всего, следовать тому, что прямо предписывает законодательство его собственной страны. Но беда в том, что в законодательстве нет достаточного количества писаных норм. Как быть, если прямого закона на этот счет нет? В этом случае, – говорит Вехтер, – судья должен искать ответа в смысле и духе тех законов своей страны, которые касаются рассматриваемого им правоотношения. Если применение этих законов к иностранцам или к отношениям, возникшим за границей, согласно с их смыслом и духом, то применить их можно, и наоборот. Если, например, закон судьи говорит, что нельзя присуждать исков о долгах по игре, – то, очевидно, смысл этого закона тот, чтобы не присуждать и такой претензии, которая возникла из долга, сделанного по игре в чужой стране, где подобные долги, быть может, признаются законными. Напротив, если закон судьи говорит, что стороны могут по своему усмотрению определять юридические последствия купли-продажи (напр., условия платежа, ответственность продавца и т. д.), то, если соотечественник судьи продал вещь в чужой стране и условился, что последствия договора должны обсуждаться по тамошним законам, и если затем к этому соотечественнику предъявят дома иск из этого договора, то судья поступит согласно со смыслом и духом своего законодательства, если против своего соотечественника применит иностранный закон. Дальше, – если закон постановляет, что для действительности брака обязательна церковная форма венчания, и если соотечественник судьи вступит за границею в брак с иностранкою по форме, установленной тамошними законами, например, путем объявления в гражданском суде или перед двумя свидетелями, – то судья поступит согласно со смыслом и духом своего закона, если признает такой брак недействительным. Но если из целей брачных законов его страны видно, что эти законы ничего не хотели постановлять о браках иностранцев между собою; и если пред судьею возникнет процесс о наследстве после брата одного из иностранных супругов, которые венчались не по церковной форме, и на наследство заявит притязание их сын, то судья должен будет признать этого сына законным племянником умершего. Так мы приходим ко второму принципу: судья обязан при каждом отдельном законе своей страны (который касается разбираемого отношения), прежде всего, смотреть, согласно ли будет со смыслом этого закона, если его безусловно применять к иностранцам или к отношениям, возникшим за границею; – и если смысл закона окажется таков, то судья безусловно должен этот закон применить. Подобно тому, как судья обязан держаться только постановления своего законодательства, если в нем содержится общее правило об отношении к иностранным законам, так точно судья должен держаться своего отдельного закона, когда из его смысла и духа можно заключить, как следует относиться к иностранным законам при нормировании юридических явлений. Если бы судья не следовал только смыслу тех законов, которым он подчинен, и не применял бы их, когда этого требует их смысл, он был бы недостоин звания судьи. – Но что, если из направления, смысла и духа данного отдельного закона нельзя с определенностью вывести ответ? Если у судьи остается сомнение? В таком случае судья должен применять законы своей страны, lex fori. В самом деле – на судью возложена задача применять право в случае спора и противодействия; какое право? Очевидно, только то, которое признается за право его государством. Это лежит в природе положительного права и в том, что судья может и должен быть только органом положительного права. Поэтому, когда это положительное право предписывает или дозволяет применение иностранного права, то судья обязан это иностранное право применять; и это он обязан делать только потому, что для него единственною обязательною нормою является право его государства. Но если на этот счет существует сомнение, то судья обязан держаться той нормы, которая одна для него обязательна – т. е. права своего государства. Но это только в случае сомнения. Судья связан содержанием источников своего государства; только эти источники он вправе толковать; он не вправе обращаться к принципу, лежащему вне этих источников, – ссылаться, например, на справедливость или на интерес гражданского оборота. Поэтому, если источники права ни прямо не предписывают судье применения иностранных законов, ни из духа и смысла этих источников нельзя вывести такого предписания, то, значит, смысл этих источников тот, что должно применяться их содержание, что вопрос должен быть разрешен так, как они это предписывают, и отнюдь нельзя говорить, будто в законах есть пробел, который судья должен заполнить по своим субъективным принципам, по тому, что ему казалось бы справедливым или целесообразным. – Итак, судья обязан применять иностранные законы только, когда это вообще предписывается его законодательством, или когда это диктуется содержанием, духом и направлением отдельного закона, касающегося данного юридического вопроса. Вне этих случаев царствует lex fori.
Таково учение Вехтера. Оглянемся теперь назад, на статутариев. Они силились из текста закона вывести, куда его отнести, к реальным или к личным, и если иностранный закон оказывался личным, они допускали его применение. У них выходило так, что иностранный закон начинает действовать автоматически, как бы в силу своей природы, потому что просто он как бы своею тяжестью перевешивает на судейских весах туземный закон. Вехтер впервые придумал о том, что статуты не применяются, а их применяют; что обыкновенно это делает судья; Вехтер задался вопросом, над которым статутарии, по-видимому, не задумывались: почему судья обязан судить иностранца по его личному статуту? Пусть иностранный законодатель постановил для своих подданных такие-то законы о состоянии и дееспособности – какое имеет это значение для туземного судьи? – Никакого – само по себе, и безусловно обязательное значение, если этого требует туземное законодательство. Коллизионная норма должна быть прямо или косвенно постановлена туземным законодателем; тогда ее предписание применить иностранный закон превращает этот иностранный закон в туземный. Коллизионная норма есть норма внутреннего законодательства страны; судья обязан только в собственном законодательстве искать указаний на то, какой из коллидирующих законов применить; когда он, согласно с этими указаниями, применяет иностранный закон, он, в сущности, применяет не чужой, а свой закон. – Таков первый вывод из учения Вехтера; он ставит применение иностранных законов на твердую юридическую почву. Но, вместе с тем, Вехтер и суживает сферу применения иностранных законов. Если в законодательстве судьи нет вовсе коллизионной нормы и ее нельзя вывести из общего смысла законодательства, и остается сомнение относительно этого смысла, то судья обязан разрешить это сомнение в пользу lex fori, потому что, в конце концов, судья не может и не должен применять ничего, кроме законов своей страны.
Как ни логически правилен такой вывод, на нем успокоиться нельзя, потому что при крайней скудости коллизионных норм в законодательстве право судьи ссылаться на сомнение и поэтому применять не иностранный, а туземный закон слишком уже поощряет его умственную лень. Кроме того, этот вывод не дает и исчерпывающего ответа: как должен поступать судья в случае коллизии двух разноместных законов, действующих в пределах одного государства, например, в России, – в случае коллизии между X томом и остзейскими законами или польскими законами? В чью пользу должен он разрешить свое сомнение? Ведь в России остзейские и польские законы имеют своим источником ту же законодательную волю, что и X том? Таким образом, решение Вехтера есть только успокоение, а не окончательный ответ.
Этот вывод Вехтера, что сомнения разрешаются в пользу lex fori, дал повод к первой в науке Международного Частного Права формулировке интернационалистического воззрения на источник коллизионных норм. Савиньи нашел, что Вехтер был бы прав, если бы в современных ему законодательствах господствовала точка зрения, будто каждое из них должно ревниво охранять свой авторитет. На самом деле, по мнению Савиньи, современные законодательства обнаруживают, напротив, стремление к тому, чтобы коллизионные случаи обсуждались по внутренней сущности и потребности каждого отдельного правоотношения, независимо от границ государств и их законодательных областей. Принцип Вехтера, по мнению Савиньи, идет вразрез с этой явной тенденцией всех европейских правопорядков.
Если судья обязан коллизионные случаи решать по законам своей страны, и если это будут делать судьи всех стран, то как может создаться однообразие в решении коллизионных случаев в различных государствах, – однообразие, которое там желательно и которое более или менее достижимо. Если бы, предположим, все государства бы согласились выработать один, общий для всех государств закон о коллизиях, то как могли бы они это сделать, если бы они хотели считаться с принципом Вехтера? Это верно – но возражение Савиньи предполагало, что государства действительно стремятся к установлению однообразных коллизионных норм, а вовсе не стоят за охранение своего авторитета; на самом деле, по крайней мере, для 1849 года, когда писал Савиньи, это возражение соответствовало более желаниям Савиньи, чем действительности. И мы теперь можем сказать, что государства могли бы спокойно, не рискуя нисколько умалить свой престиж, ввести у себя однообразные коллизионные нормы, но это и теперь только научное требование, а не реальное явление. Больше основания было в другом возражении Савиньи, что принцип Вехтера ведет еще к явно несправедливому результату, потому что во многих коллизионных случаях подсудность может быть одновременно в разных местах по выбору истца; например, иск из договора может быть предъявлен в той стране, где живет ответчик, и в той стране, где условлено исполнить договор; следовательно, в таком случае применение того или другого законодательства зависело бы уже не только от случайных обстоятельств, но и от произвола одной из сторон, от усмотрения заинтересованного частного лица. Таким образом, ясно, что теория Вехтера не то что не верна, а только неполна, недосказана. Положение Вехтера, что, применяя иностранный закон, судья, в сущности, применяет закон, который ему приказывает применить его собственный законодатель, остается прочным приобретением науки, что бы ни говорили интернационалисты, как ведущие свое происхождение от Савиньи, так и сторонники новой итальянской школы, с которою вы вскоре познакомитесь. Сам Савиньи отдавал должное этой стороне учения Вехтера; и для него было бесспорно, что судья обязан применять ту коллизионную норму, которую он встречает в своем законодательстве, хотя бы это не совпадало с его теоретическими воззрениями. Из всех позднейших возражений против Вехтера в немецкой литературе я отмечу еще только замечание Бара, потому что это один из самых видных ученых в нашей области. Он находил, что и принцип толкования закона по смыслу и духу опасен, потому что ведет к произволу; но это возражение не против Вехтера, а против всех случаев неполноты в положительном законодательстве; этот произвол судьи есть зло, ценою которого покупается иногда прогрессивное движение права.
Теперь я перейду к изложению собственного учения Савиньи. Кто такой Савиньи, каково его значение в юриспруденции вообще, я полагаю, вам известно из других курсов. Чтобы в немногих словах пояснить, какое значение он имел в нашей науке, я сопоставлю его с предшественниками. О статутариях можно сказать, что, как истые книжники, воспитанные на уважении к писанию, они сидели, уткнувшись в книгу, и старались выжать из текста закона, к какой категории он относится и должен или не должен он быть применен. Вехтер поднял взор от книги к судейскому креслу; он из рассмотрения обязанностей судьи хотел вывести, какой закон надлежит применять. Савиньи поднялся мысленным оком над всеми государствами, над всем цивилизованным миром, где все народы составляют одно юридическое общество, связанное общим правосознанием, и с этой высоты ему казалось, что все законодательства должны быть равноценны; что не может быть ревности между законодателями, не может быть настойчивого желания одного законодателя, чтобы непременно применялось его, а не чужое законодательство; что важно другое – найти для каждого правоотношения приличествующую его природе резиденцию, и тогда все будет достигнуто. Ему, великому романисту, исследователю «Истории римского права в средние века», автору «Системы современного римского права» было совершенно естественно смотреть на вещи с широкой универсальной точки зрения, сглаживающей резкости партикуляризма. Идея юридического общения или общности между всеми государствами и идея, что коллизия законов разрешается тем, что для каждого правоотношения его собственная природа указывает его резиденцию в области известного законодательства, входящего в состав этой юридической общности, – на этих двух идеях построено учение Савиньи. Он показывает, насколько узка точка зрения в аксиомах Губера; конечно, каждое государство может требовать, чтобы его законы имели силу за границей, но этими аксиомами задача не разрешается. Можно дойти до требования, чтобы всякое правоотношение обсуждалось только по туземным законам, но ни в одном государстве такое требование не выставляется; чем живее становится оборот между разными народами, тем больше должны убеждаться в том, что разумнее заменить этот принцип противоположным. К этому ведет желанная взаимность в обсуждении правоотношений и вытекающее отсюда равенство в оценке своего и чужого; в своем полном развитии это равенство должно привести к тому, что не только в каждом государстве личности иностранца и туземца будут равны; но что и правоотношения в случае коллизии законов будут встречать одинаковое обсуждение, все равно, в каком государстве ни постановлено решение. Это соображение приводит Савиньи к воззрению, что между народами, вступающими между собою в оборот, существует международно-правовая общность; это воззрение встречало, по мнению Савиньи, все большее признание с течением времени под влиянием общей христианской культуры и выгод для всех сторон. Этим путем Савиньи приходит к тому, что коллизия законов независимых государств должна рассматриваться совершенно так, как коллизия партикулярных законодательств в одном и том же государстве. Для обоих родов коллизии – задача одна: для каждого правоотношения отыскать ту правовую область, которой это отношение по свойственной ему природе принадлежит или подчинено, – где оно имеет свою резиденцию.
Эта идея мирного гармонического сосуществования законодательств разных народов, разделенных политическими границами, но связанных одною общею культурою, была принята юриспруденциею как своего рода откровение; о ней говорят так: «она вызвала целую революцию в умах». Формулу – «найти природную резиденцию правоотношения» – объявили блестящей, гениальной, всеразрешающей. Потом пришло время, когда ее стали развенчивать, находить, что она не только туманна, как образное выражение, но что в ней кроется ошибка. Но идея Савиньи, что народы одной культуры должны взаимно признавать все свои разные законодательства и основанные на любом из них субъективные права, – эта идея осталась прочным приобретением науки. В области человеческого духа изучение одной действительности без светоча идеала бесплодно; Савиньи показал нам этот идеал раз навсегда. Когда мы дойдем до того, что в каждой стране суд, выражаясь словами Савиньи, будет применять то местное право, которому спорное правоотношение принадлежит, не различая, есть ли это местное право – туземное право судьи или право иностранного государства, – тогда, конечно, можно будет предать забвению все теории Международного Частного Права. Но, увы, стоит только взор, устремленный в голубое небо опустить на землю, чтобы увидать тот огромный камень, который заграждает путь к идеалу. Этот камень увидал и Савиньи, попробовал его приподнять, но камень и поныне все там же лежит.
Принцип, в силу которого судья не должен делать различия между своим и чужим законодательствами, говорит Савиньи, должен быть ограничен. Существуют известного рода законы, природа которых противится такому вольному обращению с юридическою общностью между различными государствами. При таких законах судья должен применять туземное право более исключительно, чем следовало бы по принципу, и наоборот, оставлять без применения иностранное право, хотя бы принцип требовал его применения. Отсюда возникает ряд важных исключительных случаев, установить границы которых, говорит Савиньи, составляет, быть может, самую трудную задачу всей этой науки.
Посмотрим, как эту задачу разрешал Савиньи. Он свел исключения к двум классам законов. Во-первых, законы строго положительные, принудительной природы, которые именно вследствие этой природы неспособны к свободному обмену, независимому от границ отдельных государств. Во-вторых, юридические институты иностранного государства, существование которых вообще в нашем государстве не признается, и которые вследствие этого не могут притязать на защиту в нашем государстве. В первом случае туземные законы положительно требуют, чтобы только их и применяли: иностранные законы абсолютно не могут становиться на их место. Во втором случае туземный законодатель как бы говорит: «я ничего не имею против того, чтобы вместо моего закона применялся иностранный, но только данный иностранный закон по своему содержанию таков, что претит его допущение: если бы он не то предписывал, что предписывает, а что-либо другое, хотя бы несогласное с тем, что предписывает мой закон, – я бы его допустил».











