Читать онлайн Любовь и западный мир
- Автор: Дени де Ружмон
- Жанр: Зарубежная образовательная литература, Культурология, Религиоведение, История религий, Христианство
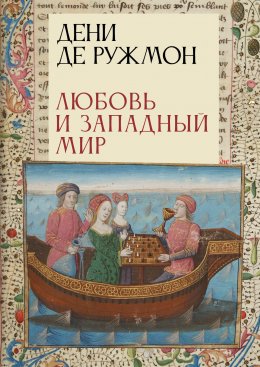
© В. А. Ткаченко-Гильдебрандт, перевод на русский язык, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025
Книга величиной в жизнь
Вступительное слово и некоторые заключения переводчика
Есть книги, которые становятся пророческими, поскольку со временем выясняется, что они были написаны в жанре так называемых воспоминаний о будущем, хотя всецело обращены в исследование прошлого. Иными словами, в отображаемых ими картинах средневековой или античной старины явственно проступают черты далекого будущего, уже наступившего для нас, людей XXI-го столетия. К числу таких книг принадлежит и эссе выдающегося швейцарского философа и общественного деятеля Дени де Ружмона (1906–1985) «Любовь и Западный мир». Можно сказать, что автор писал ее на протяжении всей своей активной творческой жизни, ведь ее первая редакция отмечена 1938 годом, а последняя уже 1972-м. Тем самым вокруг этого произведения, послужившего своеобразным контрапунктом, выстроилось все остальное литературно-философское наследие автора, значение которого в свете событий современности глобального масштаба сложно переоценить, и которое спустя десятилетия начинает приходить в Россию. Правда, стоит упомянуть, что отдельные главы из книги впервые публиковались в переводе на русский язык Новым литературным обозрением в 1998 году (№ 31, стр. 52-72), где название произведения подавалось как «Любовь и Запад». Но какое представление могло возникнуть у читателя по прочтении этого фрагмента, когда сама книга насчитывает более чем четыреста страниц? Согласитесь, что подобное литературное знакомство трудно назвать даже «шапочным»: у Дени де Ружмона все подчинено внутренней логике, и выемка отрывка – все равно что выделение одного параграфа из учебника, например, по химии. Иными словами, выдающееся произведение «Любовь и Западный мир» может восприниматься только в своей целостности.
Мы решили крайне уплотнить наше вступительное слово, чтобы набросать крупными мазками наиболее яркие стороны в жизни, творчестве и мировоззрении самого Дени де Ружмона, прежде чем предоставить русскоязычному читателю самому судить о произведении знаменитого швейцарца. Заранее оговорюсь: здесь я стану высказывать только свое субъективное мнения, выделяя размышления, на которые меня подтолкнула работа над книгой «Любовь и Западный мир».
Ересь как вирус
В наше время бурного развития биотехнологий, генетических и биохимических исследований, а также переживаемой человечеством пандемии, нельзя не провести аналогию между вирусологией и теологией, как бы, на первый взгляд, это дико ни звучало. Исходя из подобной аналогии, можно сделать вывод о том, что единственным наиболее опасным и токсичным вирусом внутри христианства (восточного и западного) было и является именно манихейство: не секрет, что все наиболее значимые христианские ереси, в том числе павликианство, богомильство, катарство, а у нас молоканство, духоборчество и хлыстовство, имеют манихейское происхождение. Говоря медицинским языком, это разные штаммы одного и того же только что названного вируса в христианстве. На страницах своей книги, особенно касаясь распространения богомильства-катарства в Западной Европе в XI–XII столетия и дальнейших трагических событий Крестового похода против альбигойцев в XIII веке, Дени де Ружмон недвусмысленно дает понять, что в куртуазной поэзии, бретонских романах отражен именно межрелигиозный конфликт христианства с манихейством, расцвеченный в оттенках стремления или страсти к смерти со стороны катаров, воплощенных в последнем манихейском таинстве эндура, которое реально и откровенно можно трактовать в качестве благословения на самоубийство, и положительным христианским мировоззрением как аскетическим, так и секулярным. Но вот что любопытно и что замечательно отразил Дени де Ружмон в своем произведении: манихейство действует изнутри христианства, то есть как и вирус – изнутри человеческого организма. Значит, речь идет все же не о религиозном конфликте? На наш взгляд, из концепции Ружмона можно сделать вывод о столкновении религии с анти-религией, коей и является манихейство, а к религиозному конфликту мы можем отнести столкновение христианства с исламом за обладание Святой Землей в ту пору. К сожалению, Дени де Ружмон не был знаком с оригинальной концепцией истории Льва Николаевича Гумилева, а то бы смог рассматривать манихейство в рамках химерической религиозности, поскольку Юг Франции приобретал под воздействием катарства в XII столетии свойства химерического квази-государства. Чтобы понять это, достаточно обратиться к объемной монографии русского ученого-медиевиста, социолога и профессора Казанского университета Николая Алексеевича Осокина (1843–1895) «История альбигойцев и их времени» (1869–1872). Она составлена на основании оригинальных средневековых документов и реестров Святой Инквизиции, исследованных автором во французских архивах, а не на идеализированных повествованиях разного рода мистиков антикатолического толка, рассказах, имеющих весьма косвенное отношение к объективной исторической действительности. Характерная особенность: «катарское и гностическое возрождение», протагонистом которого по праву считается библиотекарь из Каркассона Жюль Дуанель (1842–1902), к слову, обратившийся в 1895 году к католицизму и издавший тогда же книгу о деятельности неокатарских гностических групп «Разоблаченный Люцифер», активно пошло в гору, начиная с 30-х гг. XX-го столетия и по сути продолжается до сих пор, совпадая по времени с чрезвычайно усиливающейся в последние десятилетия исламизацией Франции. Удивительно? Отнюдь. И к этому вопросу мы еще вернемся. Кстати, Римско-католическая церковь очень серьезно отнеслась к возникновению неокатарского движения в конце XIX-го века, а Святой Престол совершенно определенно осудил реконструкцию Дуанеля как проявление древней альбигойской ереси. Крайняя озабоченность Римской курии возникновением еретического очага на территории, некогда охваченной катарством, вполне понятно: манихейский прозелитизм всегда был направлен на христиан господствующих конфессий и деноминаций. Иными словами, без и вне христианства манихейство нигде практически не существовало. Его цель – в ослаблении и в желательном устранении институциональных начал христианства. Но подобно вирусу, убив и подорвав христианство, оно без него существовать больше не может. Начиная с восточных провинций Византийской империи, манихейство (в данном случае павликианство), само того не разумея, как бы расчищало пространство под новую уже нарождающуюся религию – ислам. Такую же роль богомильство сыграло и в Боснии, когда его представители, сосредоточенные в основном в городских и привилегированных слоях боснийского общества, во время турецкого владычества, начиная с XV-го столетия, перешли в ислам, тогда как крестьянская масса страны оставалась до периода формирования Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) православной и римско-католической (собственно, это и есть боснийские сербы и хорваты вместе с бошняками-мусульманами, потомками богомилов). Последнее, кстати, поддерживает тезис Дени де Ружмона и отчасти Рене Нелли о весьма проявленной элитарности средневекового катарства Лангедока, отсылая к богомильству Боснии и Герцеговины, просуществовавшему, как нам представляется, до середины XVI-го столетия, пока его последние носители не слились с исламской уммой Османской империи.
Итак, отметим, что основой книги послужило знаменитое кельтско-ирландское повествование о естестве Страсти – сказание о Тристане и Изольде, переложенное на старофранцузский язык одним из англо-британских жонглёров около 1140 года, многие из которых, как выясняется, являлись носителями манихейской катарской ереси. Сам Дени де Ружмон рассматривал легенду о Тристане и Изольде в качестве архетипа «великого европейского мифа о прелюбодеянии», легшего в основу всей Западной цивилизации (о его потрясающих аллюзиях в этом плане и до конца не высказанных выводах мы еще переговорим ниже). Налицо откровенная типология явлений: катарская ересь равно оказалась плодом адюльтера Европы в отношении Римско-католической церкви; и нынешние красноречивые признаки декаданса коллективного Запада уходят своими корнями именно в эту эпоху. Интересно, что сам Дени де Ружмон – сын реформатского пастора, представителя кальвинистского религиозного учения, победившего католицизм и пришедшего на смену катарской ереси.
Спустя сорок восемь лет после выхода в свет окончательной редакции книги, мы видим, что перед нами не только увлекательная ересология, но и историческая антиутопия, в которой трагическая судьба Тристана и Изольды перестает быть отдаленным во времени символом, прорастая в нашу эпоху через многие века.
Генеалогия европейской страсти как ереси
Согласно Дени де Ружмону, европейский исторический процесс всегда выстраивался на сопряжении антиномий в их равновесии для стабильного и поступательного развития. Если одна из антиномий преобладает, то происходит общественно-политическое смятение или взрыв, последствием чего является хаос, в итоге ведущий как к ослаблению общественных связей в государстве, так и, наоборот, к их гипертрофированному натяжению. Пример: из хаоса Веймарской республики родилась гитлеровская Германия… Подобных примеров сколько угодно. В такой парадигме философии истории все развивается по схеме: равновесие, преобладание, хаос и новая реальность.
Пожалуй, первым из европейских интеллектуалов Дени де Ружмон под антиномией Любви и Страсти вскрывает религиозную борьбу между христианством и манихейством (катарством), где первому соответствует Любовь (Агапе), тогда как второму – Страсть (Эрос). Отсюда и замечательная аналогия Страсти с ночью, а Любви с ясным днем. Но беда в том, что книга выдающегося швейцарца поэтическая, и автор абсолютно не замечает, когда, будучи охваченным вдохновением, оказывается на стороне именно Страсти, которую изначально намеревался разоблачать и вскрывать опасности увлечения ею. В этом смысле XII-е столетие во Франции представлялось переломным: европейская Страсть, дремавшая почти половину тысячелетия под спудом христианской Любви и кафолического христианства, наконец-то вырвалась наружу благодаря быстро распространяющейся восточной ереси манихейства, уже несколько подзабытой со времен Блаженного Августина и других святых отцов-апологетов первенствующей христианской Церкви. Стоит отметить, что ересь эта на протяжении столетий успешно мимикрировала, оказавшись в определенной местности и среди определенного народа. Именно об этом говорит в своем Неокончательном научно-полемическом постскриптуме, в разделе Об изобретении любви в XII-м столетии, Дени де Ружмон, когда Страсть, облекшись в одеяния Любви, напрямую попыталась установить свое господство над молодой в ту пору Европой посредством столетия гонимой, но внезапно сильно закрепившейся на западе континента ереси. Вот почему, по логике того же Дени де Ружмона, катарскую церковь Любви следует называть… «церковью» Страсти, о чем автор открыто не объявляет, но что довольно определенно предполагает и подразумевает. Впрочем, за подобными оговорками Дени де Ружмона идут оправдания катарства и отсылка к его аскетической сущности. А разве Страсть не может быть аскетичной. Ведь именно о своеобразной «аскезе» Страсти нам рассказывают роман Тристан и Изольда, произведения трубадуров, а Готфрид Страсбургский даже описывает еретическое святилище, посвященное Страсти, о чем недвусмысленно дает понять Дени де Ружмон.
Но поскольку очевидно, что автор составляет свое сочинение под влиянием некоторых озарений, не всегда очевидного характера, постольку тональность «Любви и Западного мира» сугубо поэтическая, и отсюда Страсть играет с исследовательским дарованием Дени де Ружмона злую шутку: она его завораживает, дозволяя раскрыть о себе отдельные тайны, способные объяснить важные моменты в истории цивилизации и духовной культуры Европы. Однако вспышки откровений подобной природы, появляясь, быстро исчезают, а искусственно и с усилием поддерживая их напряжение, автор распыляется на большое число интересных подробностей, свидетельствующих о его эрудиции и вовлеченности в проблему, но не разрешающих кардинально поставленные ей вопросы. Но почему так случилось? Мы уже ответили на это: искренне желая разоблачить одну из фатальных тайн европейской истории, укорененную в ереси или в анти-религии, как мы уже определяли, Дени де Ружмон невольно оказывается на стороне Страсти и, следовательно, ереси: он буквально захвачен еретической эстетикой, богатым образным рядом и загадочными смыслами, скрывающими ясно выявленное им стремление – к Ночи, Хаосу и Смерти. Иными словами, изобретение «любви» в Европе в XII-м столетии ознаменовало для него начало европейского Апокалипсиса. Уже в этом событии автор обнаружил трансформацию западного христианства, отравленного еретическим ядом, привнесенным с Востока. Собственно, под мощным влиянием катарской ереси произошло возрождение языческого Эроса, который с тех пор ярко отразится на мистике и аскетическом опыте западных святых. С данного периода и наступает отсчет генеалогии европейской страсти, последствия которой трудно переоценить.
«Крестоносцы от ереси». От эротики трубадуров к «прелести» римско-католических мистиков
В бессознательном порыве воодушевления встав на сторону описываемой Страсти, Дени де Ружмон перестает делать выводы, и его замечательное повествование влечет за собой череду не менее замечательных недомолвок. По существу, именно незримая нить недомолвок поддерживает канву произведения, всякий раз оказывающуюся на месте авторского заключения и требующую раскрытия со стороны искушенного читателя. Если бы не было этой незримой связи, обеспеченной поэтическим вдохновением, то текст превратился бы в собрание очерков, написанных на определенную тематику, коими и являются как Приложения, так и Неокончательный научно-полемический постскриптум Дени де Ружмона. Что касается последнего, то он составлен спустя десятилетия и не имеет непосредственного отношения к вдохновению, вследствие которого и возникла книга «Любовь и Западный мир». Так что выполняет роль дополнения, стремящегося обратить внимание читателя на отдельные важные, а часто и второстепенные моменты содержания, но в итоге лишь отягощают текст, не ведя к лучшему разумению проблематики. А потому некоторые звенья подразумеваемой автором логической цепи нам должно восстановить самостоятельно. Итак, приступим к этому делу.
Мы видим достаточно осторожное и даже иногда настороженное отношение Дени де Ружмона к католическим мистикам Средневековья. Оно и понятно: автор – протестант, тем паче из знаменитой пасторской фамилии швейцарского кантона Невшатель. Но что он выражает в своей недомолвке? Мы видим здесь следующее: наличие преемственности между катарством (в том числе и трубадурами) и римско-католическим церковным мистицизмом эротического характера. Но откуда появился откровенный эротизм в римско-католической церкви того и более поздних времен. Во-первых, по западной церкви был нанесен сильный удар манихейской ересью в XII–XIII столетиях; во-вторых, после свирепого по своей сути Альбигойского Крестового похода, казни катарских посвященных и сожжении на костре последних защитников Монсегюра, катарская масса Юга Франции само по себе никуда не делась. Многие бывшие катары, постепенно возвращавшиеся в лоно Римско-католической церкви, должны были нести епитимии, становясь тем самым так называемыми «Крестоносцами от ереси» с обязательным ношением на своих одеждах желтого креста. Так Церковь ассимилировала манихеев, а они привнесли в нее ту опасную струю мистицизма, которая ей доселе была почти неизвестна. Это страстное поклонение Иисусу Христу, переходящее в откровенный эротизм. С последним связан и культ мертвого Христа, распространенный в Испании и на Юге Франции, поскольку нам известно, что цель всякой страсти – смерть. Дени де Ружмон предполагает, что яд манихейства оказался преодоленным на церковном уровне в мистическом эротизме католических мистиков. Нам же представляется, что он продолжает оказывать свое разрушительное воздействие, возможно, ныне сильно приглушенное внутри Западной Церкви.
Вот почему, мягко используя аллюзию, Дени де Ружмон подводит нас к заключению о крипто-манихейском происхождении учений великих мистиков Запада – Мейстера Экхарта, Рёйсбрука Удивительного, бегинки Хейдевейх Антверпенской (Брабантской), Генриха Сузо и, несомненно, Святого Франциска Ассизского. Впрочем, на патаренское начало францисканства и его различных многочисленных ответвлений неоднократно указывали отечественные и зарубежные исследователи. Отсюда получается, что эротизм связанных с катарами трубадуров, рассматриваемый в замечательном произведении Рене Нелли Эротика трубадуров (1963 год), по мере того как усиливались гонения на манихейскую ересь, постепенно и в результате вышеуказанной ассимиляции катарского населения Юга Франции и других стран перетекал в Римско-католическую церковь, обретая в ней новый сосуд для своего существования, которое затем благополучно и продолжилось в рамках как францисканства, так и других римско-католических орденов мистическо-созерцательной направленности. Иными словами, катарская аскеза Страсти была сохранена, дав рождение западно-христианскому «прелестному» мистицизму, столь порицаемому святыми отцами Православной Церкви.
Таким образом, XII–XIII-е столетия являются водоразделом между «прежним» католицизмом, почти тождественным в своей аскетической практике с Восточной Церковью, и «новым» католицизмом, взошедшем в это время, как выясняется, на закваске обоих близких между собой ересей: катарства и трубадуров, имевших в своей основе манихейство. Сюда, конечно, стоит прибавить распространившийся в Средневековье из арабских государств Аль-Андалуза (Пиренейского полуострова) благодаря философу Аверроэсу (Ибн Рушду) аристотелизм, легший в основу римско-католической схоластики. Именно в различии богословий Западной Церкви с опорой на аристотелизм и схоластику, и Восточной Церкви, сопряженной в теологическом плане с платонизмом, и кроется, по мнению великого греко-византийского гуманиста Георгия Гемиста Плифона (1355–1452), неудача окончательного объединения Западной и Восточной Церквей на Ферраро-Флорентийском соборе в 1437–1439 гг., хотя все юридические формальности церковной унии были строго соблюдены. Вместе с отцами Восточной Церкви Георгий Гемист Плифон считал, что Аристотель исказил философию Платона, что в конечном итоге и отразилось на западной схоластике. Свои взгляды Плифон изложил в небольшом трактате «О проблемах, по которым Аристотель расходится с Платоном», доказывая в нем, что учение Аристотеля ложно и полно противоречий. То есть в XV-м столетии Георгием Гемистом Плифоном, наряду со святителем Марком Эфесским и другими греческими отцами, аристотелизм вполне рассматривался в качестве ереси вместе с манихейством и его разнообразными формами, пусть даже в виде римско-католических орденов. Учитывая, что аристотелизм был заимствован Западной Церковью от арабов, то его тоже можно расценивать в качестве особой «восточной» ереси, наравне с манихейством пагубно повлиявшей на западную мистику и теологию.
Дени де Ружмон совершенно справедливо отмечает, что великий отец и молитвенник Западной Церкви Святой Бернард Клервоский в XII-м столетии сопротивлялся нововведениям и праздникам, которые вынуждало принимать Церковь катарское окружение, в то время уже многочисленное на Юге Франции, и против которого святитель предпринимал миссионерские поездки, в целом не увенчавшиеся успехом. Здесь следует добавить, что мистические и теологические сочинения Бернарда Клервоского выдержаны в спокойном духе аскетических наставников древней церкви: в них отсутствует эротизм и чувственность, столь присущие более поздним и вышеуказанным католическим мистикам. Так что Бернард Клервоский поистине один из последних столпов «прежнего» католицизма.
Итак, Дени де Ружмон, являясь протестантом, а потому отстраненным и независимым лицом, интеллектуально разбивает на составные части содержание «нового» католицизма, пронизанное крипто-манихейским этосом – по форме ортодоксальным, а по существу катарским; тогда же образуются и два практических полюса римско-католического мировоззрения, оформившиеся в сухой Аристотелевой схоластике Святого Фомы Аквинского и его последователей, и в своеобразной аскезе римско-католических мужских и женских монашеских орденов, в том числе францисканского извода, характеризующейся экстатическими состояниями, видениями, нередко связанными с расшатанной психикой монашествующих и их измененным под воздействием разных причин сознанием, – одним словом всем тем, что православная доктрина рассматривает как «прелесть», прельщение или обольщение инока или инокини злыми духами, принимающими образ ангела света. Отсюда гипертрофированный и даже в отдельных случаях непристойный эротизм видений: и нам понятно, что подобным образом действует под покровом римско-католического монастыря древняя манихейско-катарская Страсть. Катарства уже давно не существует, но потомки «Крестоносцев от ереси» заполняют римско-католические ордена, и мы наблюдаем феномен той же самой Страсти, действующей уже изнутри Римской Церкви. Значит, религиозная борьба манихейства и христианства продолжается, и «прелестный» манихейский католицизм снова часто в ней одерживает победу. Но мы знаем, что психические недуги столь же заразительны, сколь и телесные. И вот уже эстафету духовного катарства подхватывают испанские мистики – Тереза Авильская (1515–1582) и Иоанн Креста (1542–1591). Кстати, Святую Терезу Авильскую часто изображают с белым голубем, некогда бывшим символом катарской Церкви «Любви» (а как мы выяснили, Страсти). Совпадение или все-таки знак некоей тайной преемственности? Впрочем, сильно увлекавшийся творчеством обоих римско-католических святых выдающийся русский писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский в своем сочинении «Испанские мистики» очень точно резюмировал яркоокрашенную эротичность их произведений, что сам автор, приверженный идеалам широкого христианского экуменизма, расценивал с положительной стороны и совсем не заметил в них мертвенного свечения манихейской Страсти. Несомненно, любовь Терезы и Иоанна Креста ко Христу – это старинная аскетическая Страсть «совершенных» Лангедока, воскрешенная под сенью кармелитского ордена. Итак, драма манихейского «прельщения» Страстью христианства продолжается и, следовательно, не прекращается религиозная война христианства с сопутствующей себе формой анти-религии – манихейством.
На первый взгляд, французский публицист и религиовед XIX-го столетия справедливо обозначил, что манихейская ересь, в течение тысячелетия терзавшая Христианскую Церковь сошла на «нет» к XVI-му столетию, то есть к моменту появления реформационного движения и возникновения протестантских деноминаций. Тем самым Проспер Миньяр заключает, что манихейство обрело себе «рабочее тело» в протестантизме, растворившись в нем. Проспер Миньяр являлся католиком, а потому склонным во всем обвинять протестантов. Но его суждение уже не кажется несомненным, если учесть, что ассимилированное манихейство уже прекрасно себя чувствовало в рамках монашеских орденов францисканского извода и других духовных конгрегаций. В них Страсть уже обрела себе устойчивый приют, и в этом смысле всякая необходимость для нее в протестантизме отсутствовала. Другое дело, что протестантизм пробудил свои дремлющие манихейские потенции, которые выплеснулись в ужасы анабаптистского движения. Вместе с тем, сам протестантизм с его призывом к возвращению в Церкви простоты апостольских времен уже оказывался сокрушительным ударом по Страсти: ее воздействие теперь ограничивалось только римско-католическими странами, а победное шествие «нового» католицизма в Европе и мире прекратилось. Однако, оставив себе плацдарм в религиозных орденах мистического и созерцательного характера, Страсть устремилась уже по светским каналам завоевывать христианское общество посредством литературы и искусства, что блестяще отражено в книге «Любовь и Западный мир». Сын протестантского пастора Дени де Ружмон как бы ухватил за хвост это движение необузданной страсти, доведя его до нашего времени: между строк и в подтексте его произведения мы интуитивно ощущаем, что он вновь опьянен воздействием пластичного страстного феномена и охвачен его воодушевлением, либо его опять посещает протестантская трезвость, позволяющая правильно расставить акценты по содержанию и сделать важные аллюзии, используя которые, мы приходим к соответствующим выводам.
Роман, романс, романика и романтика
Нам необходимо уяснить, что Дени де Ружмон рассматривает миф о Тристане и Изольде, как основополагающее сказание Страсти, не просто в его развитии, но в своеобразном круговороте – достижении пика с последующим нисхождением. Если, согласившись с автором, принять за самое большое восхождение мифа время от XII-го по XIII-е столетия, то дальнейшая эпоха окажется периодом его инволюции, если угодно энтропии, постепенного угасания, правда, чреватого разного рода неожиданностями или даже пароксизмами в области культуры, литературы и искусства. Сама по себе энтропия предполагает профанацию и десакрализацию священного сюжета, и он, искажаясь и вырождаясь вплоть до комиксов, становится непременным фактом цивилизации. Именно об этом и повествует книга Дени де Ружмона «Любовь и Западный мир».
Ныне литературный жанр романа столь же непреложный факт нашей европейской христианской цивилизации, сколь и космический корабль или телевидение, каким бы оно ни было. Но кто из нас может представить, что роман нехристианского происхождения, хотя появился в христианской стране и в уже пресловутом XII-м столетии. Дело в том, что произведения в этом жанре писались изначально писались на романском языке (старофранцузское слово romaniz от позднелатинского romanice – на романском языке). Собственно, романский язык в ту пору был в ходу в Провансе и на Юге Франции и служил для катаров и трубадуров своего рода литургическим языком, являясь предшествующей формой провансальского языка. Французский драматург и филолог, член французской академии Франсуа Жюст Мари Ренуар (1761–1836), исследовавший творчество трубадуров, считал романский язык основой современного французского, но его гипотеза не вызвала поддержки со стороны французских ученых и эрудитов. Но Ренуар (Райнуар) естественно видел в трубадурах правоверных католиков, вряд ли связанных с манихейско-катарской ересью. Сюда же должно отнести и песенный жанр романса, короткий музыкальный вариант романа как повествования о Страсти, используемый бродячими жонглерами, вагантами и цыганами для своих выступлений (романсеро – по-испански сборник романсов, песенник).
Теперь несколько слов о происхождении термина романтизм. В обратном переводе на латынь роман назывался liber romanticus, откуда в европейских языках и взялось прилагательное «романтический»: до конца XVIII-го столетия оно означало «присущий романам», а немногим позднее дало название романтизму как литературному направлению. Вот почему, во избежание путаницы и для обозначения того, что относится к средневековым, ренессансным и предромантическим романам, мы ввели понятие романический и обобщающий их концепт – Романика.
Итак, роман, во времена господства Римско-католической церкви являясь зашифрованным повествованием о манихейской Страсти и ее аскезе, разносимым бродячими еретиками, в последующие времена профанировался, послужив прямым каналом для воздействия Страсти на образованные сословия ренессансной и пост-ренессансной эпохи.
Что же касается романтизма, то Дени де Ружмон считает его отголоском, если угодно, отражением через века литературы и искусства XII–XIII-го столетий, связанного с катарами и трубадурами. Конечно, в определенном смысле романтизм есть восстановление прав прежней манихейской Страсти, но уже в смягченном трансформированном виде. Но если катарство и трубадуры являлись полноценным религиозным движением, хотя подчас и скрываемым в недрах официального христианства, то романтизм, смутно помня свое происхождение, лишь притязал на квази-религиозность. В этой связи интересно то, что немецкие романтики не просто интересовались и увлекались католицизмом, но и переходили в римско-католическое исповедание. Очевидно, что романтизму было тесно в рамках евангелическо-лютеранского пиетизма. Романтиков не просто тянуло к более универсальной церковной организации: скорее всего, они по наитию ощущали связь с такими католическими организациями, как францисканский орден, произошедший по сути от патаренов, духовность которого неоднократно рассматривалась исследователями в качестве мистического пантеизма, что сродни романтическому мировоззрению. Но романтизм ушел, став провозвестником социально-политических потрясений Европы в первой половине XIX-го столетия. Страсть и Ночь ярко проявили себя в нем, перейдя затем в иные формы литературы и искусства…
Флаг Боснии и Герцеговины
Итак, Дени де Ружмон рассматривает всю историю Западного мира сквозь призму деградации и профанации древнего мифа (то есть его инволюции), вместилища гностической манихейской Страсти, создавшей в итоге, как мы представляем, фабричный гений Голливуда и феномен массовой культуры, пришедшей к нам уже из Америки (в течение столетий Североамериканские штаты были пристанищем многих сект манихейско-дуалистического характера, что не могло ни сказаться на менталитете и психологии американцев). Излишне говорить об оккультном манихейском содержании сериала «Темный рыцарь», снимавшегося в том числе и в Трамп-тауэр на 5-м авеню в Нью-Йорке. В подобной картине мира сложно говорить о прогрессе и развитии, поскольку инволюция мифа (его дробление) по Ружмону, что и создает массовую культуру, вполне укладывается в «царство количества» Рене Генона. Но в данной ситуации Страсть не утрачивает своего влияния и силы, ведь фрагментация мифа не ведет к умалению ее содержания, которое образует в каждой клетке, распадающегося сосуда мифа, одинаковое напряжение, соответствующее силе любого участка ее энергетического поля. Ее может уравновесить, согласно Дени де Ружмону, только сопряжение с Любовью-Агапе, но в условиях давно идущей десакрализации и секуляризации обществ и государств на Западе последнее представляется если не невозможным, то во всяком случае очень проблематичным. Иногда, как считает выдающийся швейцарец, господствующая или сокровенная духовность, литература, искусство и культура дают больше для понимания и объяснения истории, нежели внешние общественно-политические и экономические события.
Жизнь и труды Дени де Ружмона как одного из создателей институтов современного Евросоюза
Дени де Ружмон родился 8 сентября 1906 года в Куве в Невшателе, протестантском франкоязычном кантоне Швейцарии, в семье пастора Жоржа де Ружмона. Семья де Ружмон происходила из Сент-Обена, предместья Невшателя. В 1784 году она получила «признание древнего дворянства» от короля Пруссии Фридриха II-го, когда Невшатель входил в Прусскую монархию на правах княжества). Представители семейства де Ружмон неоднократно входили в состав Государственного Совета Невшателя.
Вместе со своими двумя сестрами и братом Дени де Ружмон воспитывался и рос в буржуазном доме своих родителей в Арёзе, небольшой деревушке, расположенной между Будри и Невшателем. С 1912 по 1916 гг. он учился в начальной школе в Куве. Этот опыт вдохновит его позднее на написание памфлета Вред народного просвещения (1929 год) об антиобразовательной роли школы. С 1918 по 1925 гг. он посещает Латинский коллеж, а затем учится в научной секции гимназии (коллеже) в Невшателе. В 1923 году она пишет первую статью «Анри де Монтерлан и мораль футбола», опубликованной в Литературной неделе (La Semaine littéraire). С 1925 по 1927 гг. он проходил обучение на филологическом факультете университета в Невшателе; кроме того, посещал курсы психологии и семинар Жана Пьяже по генетической гносеологии и курс Макса Нидерманна по лингвистике Фердинанда де Соссюра. Он входит в Общество изящной словесности, активным членом которого является в том числе и благодаря своим публикациям в журнале Изящная словесность. В 1926–1929 гг. он путешествует по Европе, побывав в Вене, в Венгрии, Швабии, Восточной Пруссии, Баден-Вюртемберге и на озере Гарда (свои странствия он описывает в произведении Дунайский крестьянин – Le Paysan du Danube). В 1930 году он заканчивает свое обучение, получив степень бакалавра искусств. В том же году он обосновался в Париже, где становится литературным редактором издательства «Я служу…» (которое публикует Сёрена Кьеркегора, Карла Барта, Николая Бердяева, Ортегу и Гассета…). Принадлежа к нонконформистскому движению 30-х гг. XX-го столетия, он встречается и сотрудничает с такими интеллектуалами, как Габриэль Марсель, Эммануэль Мунье, Александр Марк, Арно Дандьё, Робер Арон и др. В 1932 году он принимает участие во встрече во Франкфурте-на-Майне групп молодых европейских революционеров, а затем в выпуске там же двух журналов философов-персоналистов – Дух (совместно с Эммануэлем Мунье и Жоржем Изаром) и Новый порядок (совместно с Робером Ароном, Арно Дандьё и Александром Марком). Он также сотрудничает с журналом Планы и является соучредителем журнала Hic et Nunc (Здесь и сейчас – направления Карла Барта) вместе с Анри Корбеном, Рожером Жезекелем (Роже Брёем), Роланом де Пюри и Альбером-Мари Шмидтом. Стоит упомянуть, что он поддерживает плодотворное сотрудничество с Новым французским обозрением (Nouvelle Revue française), где представляет в 1932 году «Тетрадь требований французской молодежи». В 1933 году Дени де Ружмон женится на Симоне Вион, с которой разведется в 1951 году и больше уже никогда не сочетается узами брака. От союза с ней у него родятся двое детей: Николя и Мартина (Martine), ставшая историком франко-швейцарского театра XVIII-го столетия.
Герб династии боснийских банов Котроманичей
Тогда же, в 1933 году, обанкротилось издательство «Я служу…», и Дени де Ружмон оказывается безработным, хотя рассматривает этот период своей жизни как очень благоприятный, поскольку он пробудил в нем размышления по разным проблемам. В течение двух последующих лет, прожитых как бы во внутреннем изгнании на острове Ре, Дени де Ружмон пишет «Дневник безработного интеллектуала», опубликованный в 1937 году. В 1934 году он издает Политику личности, а в 1935 переводит на французский язык первый том христианской догматики Карла Барта. До 1936 года он – лектор в университете Франк фуртана-Майне и главный редактор «Новых тетрадей». В 1936 году он публикует произведение Мышление при помощи рук, а затем эссе Физиономическое мировоззрение. С марта по июнь 1938 года Дени де Ружмон занят написанием своего главного сочинения – Любовь и Западный мир, вокруг которого строится теперь все его творчество. В октябре того же года он издает Немецкий дневник, книжку о Николае де Флю (Niklaus von Flüe, 1417–1487), римско-католическом аскете, ныне святом покровителе Швейцарии, ораторию Артура Хонеггера. Вплоть до начала Второй мировой войны он публикует много своих статей, обзоров и рецензий в периодических изданиях: Дух, Новый порядок, Новое французское обозрение, Парижском журнале и хрониках Фигаро.
В сентябре 1939 года Дени де Ружмон был мобилизован в Вооруженные Силы Швейцарской конфедерации. Он являлся соучредителем группы антифашистского сопротивления Лига Готарда и составителем манифеста «Что такое Лига Готарда?». При вступлении немцев в Париж он пишет полемическую статью в Лозаннской газете «В тот час, когда Париж…», стоившей ему пятнадцати дней заключения в военной тюрьме за оскорбление лидера иностранной державы и в результате давления на власти Швейцарии немецко-фашистского правительства, хотя этот срок он фактически проводит под домашним арестом. В августе 1940 года Дени де Ружмон, получив дипломатический паспорт, уезжает в США, чтобы читать там лекции о Швейцарии. Он поселяется рядом с Нью-Йорком в октябре того же года. Подружившись в Америке с Антуаном де Сент-Экзюпери, он становится одним из образов для его Маленького Принца. Антуан де Сент-Экзюпери просит позировать в гостиной Дени де Ружмона, чтобы ему набросать рисунки к своему будущему произведению. После написания на английском языке книги Te Heart of Europe: Switzerland (Сердце Европы: Швейцария), он участвует в создании в Карнеги-Холле оратории Николя де Флю. С июля по ноябрь 1941 года Дени де Ружмон путешествует по Аргентине и входит в литературный круг «Sur» замечательной писательницы Виктории Окампо (1890–1979), у которой он гостит, издававшей с 1931 года при поддержке Хосе Ортеги-и-Гассета одноименный литературный журнал (1890–1979). Здесь он проводит несколько читательских конференций и публикует на испанском языке свою книгу о Швейцарии. Накануне атаки на Перл-Харбор Дени де Ружмон возвращается в Нью-Йорк. Начиная с 1942 года, он – преподаватель в Свободной школе высших исследований (французский университет в изгнании), затем редактор в Службе военной информации (Ofce of War Information) и сотрудник передачи «Голос Америки говорит с французами». Тогда в течение пяти недель он пишет сочинение Доля Дьявола, которое выйдет в свет в конце 1942 года. В Америке он проводит встречи не только с Сен-Жон Персом, Сент-Экзюпери, Марселем Дюшаном, Андре Бретоном, Максом Эрнстом, Андре Массоном, Богуславом Мартину и Эдгаром Варезом, но и с Р. Нибуром, Д. Мак Дональдом и графом Куденхове-Калерги, с кем уже познакомился в Вене в 1927 году во время своих первых поездок по Европе. Тогда он ему предложил издавать его обозрение «Пан-Европа» на «правильном французском языке». Потрясенный чудовищной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, Дени де Ружмон опубликовал в Нью-Йорке Письма об атомной бомбе, иллюстрированные чилийским художником-сюрреалистом Роберто Маттой. В апреле того же года он вернулся в Европу и 8 сентября 1946 года он опубликовал свою первую речь о Союзе Европы. Возвратившись обратно в Соединенные Штаты Америки, Дени де Ружмон провел 8 дней в заключении в тюрьме на острове Эллис по до сих пор невыясненным причинам. В 1947 году он встречается с Альбертом Эйнштейном в Принстоне и обсуждает с ним проблемы Европейского Союза. В июле того же года он окончательно приехал в Европу, поселившись в Ферней-Вольтере в «Лесном доме», бывшем фермерском доме, находившемся в ведении замка Ферней и занятом до войны его другом губернатором Паульдингом (1896–1965).
Являясь приверженцем европейского единства, Дени де Руж мон в конце августа 1947 года выступил с инаугурационной речью на первом конгрессе Европейского союза федералистов в Монтрё (от него произошел Гаагский конгресс) и продвигал Европейский культурный центр, директором которого он впоследствии и стал. В мае 1948 года на заключительном заседании Гаагского конгресса, проходившего под председательством Уинстона Черчилля, Дени де Ружмон зачитал Послание европейцам, составленное им для прояснения смысла манифестации. Затем он пишет и издает произведения Европа на кону и Невшательское продолжение. В ноябре этого же года Дени де Ружмон избран одним из главных делегатов Европейского союза федералистов. В 1949 году Дени де Ружмон открывает в Женеве под эгидой Европейского движения исследовательский центр по подготовке Европейской конференции по культуре, которая прошла в Лозанне с 8 по 11 декабря под руководством Сальвадора де Мадарьяги. Дени де Ружмон был на ней главным докладчиком. В 1950 году он принимает участие в собрании интеллектуалов в Берлине, учредившем Конгресс за свободу культуры, исполнительный комитет которого он возглавлял до 1966 года. Он пишет и распространяет на консультативной ассамблее Совета Европы письма, обращенные европейским депутатам, и составляет Воззвание, зачитанное от 6000 европейских студентов, проводящих манифестацию перед Советом Европы. Он руководит созданием Европейского культурного центра, откуда произойдут многие европейские учреждения, в том числе не только Европейская ассоциация музыкальных фестивалей, но и ЦЕРН. В 1963 году он удостоился премию князя Монако и в том же году основал Институт европейских исследований (IUEE), ассоциированный с Женевским университетом, коим он руководил до своей отставки в 1978 году, и где даже в год своей смерти он преподавал историю европейских идей и федерализма. В 1967 году он получает премию города Женевы. В 1969 году делает заявление, что «лица, отказавшиеся от военной службы по соображениям совести, должны нести альтернативную гражданскую службу». 17 апреля 1970 года Боннский университет награждает его медалью Роберта Шумана за все его творчество, в частности, за произведения Двадцать восемь столетий Европы и Возможности Европы, и за его руководство Европейским культурным центром. В 1971 году Дени де Ружмон номинирован доктором honoris causa юридического факультета университета Цюриха. В 1970-е гг. он способствует развитию экологического движения: он – один из основателей Беллеривской группы, аналитического органа по вопросам политики индустриального общества, и автор новаторских сочинений о ядерной опасности; в том же году выходит Грядущее – наше дело, одно из основных произведений, посвященных вопросам экологической проблематики регионального характера; вместе с философом, социологом и христианским анархистом Жаком Эллюлем (1912–1994) он создает группу Ecoropa. 11 ноября 1976 года ему вручен диплом Афинской академии. В 1978 году он учреждает журнал Cadmos, орган Европейского культурного центра и Института европейских исследований (IUEE). В 1981 году Дени де Ружмон номинирован доктором honoris causa Университета Голуэя в Ирландии. В 1982 году он получил Гран-При швейцарского фонда Шиллера. Дени де Ружмон умер в Женеве 6 декабря 1985 года и в качестве лауреата премии города Женевы был похоронен на кладбище Королей в Плэнпале. Память о философе, писателе, публицисте и создателе европейских институтов Дени де Ружмоне увековечена в его родной Швейцарии: лицей в Невшателе носит его имя, в Женеве в квартале Пти-Саконне (Petit-Saconnex) одна из улиц, находящаяся вблизи с европейской штаб-квартирой Организации Объединенных Наций, названа в честь выдающегося уроженца кантона Невшатель. Кроме того, по Швейцарии ходит поезд RABDe 500 013-8 «Дени де Ружмон», принадлежащий ведомству Федеральных железных дорог Швейцарии.
Незавершенная книга
Когда читатель, поглотив сотни страниц интереснейшего и насыщенного сведениями текста книги Дени де Ружмона «Любовь и Западный мир», наконец, достигает его последних страниц, то у него создается впечатление, будто вот-вот автор раскроет нечто, что держало его в напряжении столько времени, на протяжении которого автор нам обещает откровение, подразумевая его то завуалированно, то напрямую. Однако чуда не происходит, и Дени де Ружмон отсылает нас к трем стадиям развития духовной жизни личности по Кьеркегору: эстетической, этической и моральной. Нам понятно, что Кьеркегор близок протестантскому духу Дени де Ружмона, но возникает вопрос: а причем здесь проблема, глобально и мастерски отображаемая автором на предыдущих страницах книги. Да и написанный несколько десятилетий спустя постскриптум к «Любви и Западному миру», на наш взгляд, не столько вносит ясность, сколько усложняет поставленную ранее проблематику. В общем, решение вопросов Любви-Агапе и Страсти-Эроса выведены за скобки культурологического повествования Дени де Ружмона. Иными словами, оно находится по ту сторону Любви и Страсти и, если угодно, Добра и Зла. Исходя из авторского текста, оно достигается эндурой катаров. Именно это подразумевал Дени де Ружмон, в чем не осмеливался признаться читателю. Если же мы рассматриваем содержание религиоведческой эпопеи Дени де Ружмона о Любви и Страсти внутри вышеуказанных скобок, то обнаруживаем здесь лишь философскую поэзию. Но разве поэзия, пускай и метафизическая, приводила к разрешению острых онтологических вопросов? Ответ очевиден: поэзия, как правило, лишь фиксирует и отображает явления. И разве «Илиада» Гомера и «Евгений Онегин» Пушкина дают нам решение насущных проблем бытия, некогда начертанных Платоном, великими греками и людьми эллинистической ойкумены?
Флаг Пан-европейского союза графа Куденхове-Калерги
С другой стороны, сам поэтический материал, в зависимости от силы своего выражения, способен перековать, перевоспитать на свой лад обратившегося к нему исследователя, что и произошло в случае с Дени де Ружмоном, начавшем писать свое произведение как ортодоксальный протестант и завершавшем уже его как практически откровенный катар. Ключ к пониманию Дени де Ружмона по сути прост: под тремя стадиями духовного развития личности по Кьеркегору (эстетической, этической и религиозной) он подразумевает три степени катарского посвящения: «верующие», «совершенные» и принявшие consolamentum. В противном случае, присутствие посыла на Кьеркегора на заключительных страницах книги, по крайней мере, нелогично и, как нам представляется, неуместно. Нельзя же думать, что у такого автора, как Дени де Ружмон, совершенно произвольна возникла в конце фигура Сёрена Кьеркегора. Вот почему все последующее христианство, в основном римско-католическое, автор рассматривает в его сопряжении с жестоко подавленной, но не уничтоженной катарской ересью, будь то новые марианские культы, чему противились «прежние» католики, или исполненные эротизма произведения испанских мистиков. Верно сказано, что духовные недуги не менее заразительны, нежели физические. Теперь неокатарство переживает возрождение во Франции, тогда как Римско-католическая церковь пребывает в упадке… И в этом есть своего рода заслуга Дени де Ружмона, ведь высокая воодушевленная философическая поэзия его текста, однажды поддавшись «романтизму» катарства, способна не только просвещать, но и вводить в заблуждение. В чем и состоит главный парадокс и в целом тайна незавершенной книги выдающегося швейцарца. До конца творческий процесс, сопрягаемый с порывом вдохновения, не исследован, и не раз бывает, что задуманная намеренная критика явления в подобном подходе, особенно если воодушевлению автора доступны высшие поэтические вибрации, обращается в апологию самого феномена, а дух критицизма переносится на периферийные вещи, нисколько не затрагивая его оснований: именно это и воплотилось в отношении главной книги Дени де Ружмона. Иными словами, вдохновение не удержалось на уровне трезвого критицизма и сорвалось в пучину, где властвует со своей поэтикой манихейский Эрос, и откуда лирика трубадуров до сих пор завораживает, опьяняя, неискушенного читателя. Преодолел ли такой соблазн Дени де Руж мон? Нам представляется, что нет, поскольку все отчетливее в нем проявляется симпатия к альбигойской ереси и эротической римско-католической мистике, замешанной на ассимилированном и инкорпорированном катарстве. Но ведь последнее немыслимо для протестанта, сына протестантского пастора! То есть самого Дени де Ружмона охватил творческий хаос неизжитых гностико-манихейских ересей Европы, однажды блестяще запечатленный в музыке драматической трагедией Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда». Страсть победила, манихейство восторжествовало, а отсюда и смутные аллюзии на стадии Кьеркегора в смятой концовке книги, смысл которых, кажется, нам удалось расшифровать и прояснить.
В связи с этим всю жизнь Дени де Ружмона после 1951 года, когда он расстался со своей женой Симоной, мы можем рассматривать в качестве аскезы катарского «совершенного», поскольку его книга «Любовь и Западный мир» продолжала до самой смерти довлеть над творчеством и общественной деятельностью выдающегося швейцарца. Но была и одна тайна у Дени де Ружмона, о чем он не обмолвился ни словом, ни полусловом в своем произведении.
Боснийская церковь, Евросоюз и последняя тайна Европы
Будущее Евросоюза весьма определенно и недвусмысленно представлено уже упомянутым нами графом Рихардом Куденхове-Калерги (1894–1972) в его знаменательной книге «Практический идеализм» (Praktischer Idealismus, 1925), до сих пор непереведенной на русский язык. И ныне мы не перестаем удивляться, насколько в целом точно исполняется проект этого футуролога по формированию нового европейского человека, учитывая миграционные потоки из исламских и африканских стран в главные государства Западной Европы: Германию, Францию и Англию, хотя последняя фактически и отчалила уже от общеевропейского корабля. Грядущее население Европы наполовину японец граф Куденхове-Калерги видел в смешанной евразийско-негроидной расе, близкой, как ему казалось, по фенотипу к древним египтянам. Дени де Ружмон встречался с замечательным австрийским графом в Америке в годы военной эмиграции и, кажется, вполне разделял отдельные из его воззрений, тем паче предлагал ему издавать его альманах «Пан-Европа» «на правильном французском языке». Можно даже сказать, что это заявление о принципиальной идеологической общности. Однако Куденхове-Калерги не выходил за пределы своих остроумных и оригинальных философем, направленных на кардинальное внешнее преобразование политической, экономической, демографической и конфессиональной реальностей европейских стран; тогда как Дени де Ружмону в своей книге «Любовь и Западный мир» удалось прозреть нечто большее: религиозную составляющую, способную изнутри модифицировать жизнь Европы и уже как будто изменившую ее, открывшую шлюзы Страсти, и если бы не Святая Инквизиция и орден отцов-проповедников… то все могло бы состояться намного раньше? Сожалея о гибели «окситанской цивилизации» к середине XIII-го столетия, Дени де Ружмон не мог не понимать, что христианскому миру того времени нельзя было оставлять у себя в тылу могучий еретический анклав, в то время как в Испании продолжалась кровопролитная Реконкиста, и сарацины все больше теснили государства крестоносцев на Святой Земле.
Дени де Ружмон прекрасно знал, что катары Юга Франции и патарены Севера Италии были прекрасно организованы на общинном и иерархическом уровне и поддерживали отношения как между собой, так и с богомильской Боснийской церковью, официально возникшей во второй половине XII-го столетия, но фактически появившейся раньше, поскольку манихейство в тот период пришло в Западную Европу из Болгарии и с Балкан, а Босния находилась на пересечении путей с Востока на Запад, играя роль своего рода логистического центра. Средневековые боснийские правители из рода Котроманичей (Котромановичей), владевшие страной с 1250 до 1463 гг., поддерживали деятельность Боснийской церкви, хотя формально являлись католиками и православными. Степан Остоя (бан Боснии с 1398 по 1404 и с 1409–1418 гг.) был последним властелем страны, открыто исповедовавшим богомильство, то есть при нем оно стало уже и de jure государственной религией Боснии. Отношения с исламом у богомилов складывались лояльно, поскольку оба религиозных направления восходят, как считается, к ересиархам Павлу Самосатскому (200–275) и Арию (256–336) и антитринитарны по своей сути: об отрицании догмата Святой Троицы у катаров и их дуалистическом монизме четко отмечено в книге «Любовь и Западный мир» Дени де Ружмоном. Преемственность от ариан ныне провозглашается на официальном информационном ресурсе неокатарской конфессии Франции.
В настоящее время среди исследователей преобладает представление о том, что Боснийская церковь изначально являлась богомильско-манихейской, хотя ранее считалось, что она основывалась как Римско-католическая церковь кирилло-мефодиевской (даже глаголической) традиции, а затем оказалась зараженной дуалистической ересью, пришедшей из Болгарии. В этом смысле ее можно рассматривать в качестве первой европейской протестантской и антитринитарной церковью, предшественницей социнианского учения! Тем не менее, во второй половине XII-го столетия она уже исповедовала богомильство, о чем свидетельствуют ее глаголические фрагменты апостолов Михановича и Гршковича. Сегодня возникновение манихейских церквей в Европе, в том числе на Балканах, уже сдвигается на век раньше, что справедливо отмечал Дени де Ружмон, то есть на середину и даже первую половину XI-го столетия. В данном контексте Боснийская, а вслед за ней Альбигойская церкви имеют преемство от Болгарской Драговицкой церкви (название от селения на границе Македонии и Фракии), получившей свою доктрину от еретиков-павликиан. Кстати, наследниками богомилов, боснийцев, патаренов и альбигойцев считают себя многие деноминации унитаристов-антитринитариев и евангельских христиан-баптистов, о чем можно узнать, обратившись к их официальной истории.
Здесь уместно напомнить о событии, которое могло бы по-особому высветить и дополнить содержание книги Дени де Ружмона «Любовь и Западный мир». Ключевую роль в становлении альбигойской иерархии сыграл болгарский поп Никита, руководитель Константинопольской богомильской церкви. Поп Никита известен тем, что принял радикальный дуалистическую доктрину Ordo Drugonthiae от Драговицкой церкви. В 1165–1177 гг. он предпринимает поездку в Западную Европу для проповеди среди катаров. Обнаружив, что они являются приверженцами умеренного дуализма или Ordo Bulgaria, Никита не признает их консоламентум. Он заново совершает консоламентум «совершенных» и поставление катарских епископов. Пройдя территорией Ломбардии (Северной Италии), Никита прибывает в Лангедок, где в 1167 году проводится катарский собор в замке Сен-Фелиз-де-Караман. Основной целью собрания было получения консоламентума от «папы» Никиты. В собрании приняли участие: Робер д’Эпернон, епископ Церкви Франции; Сикар Селлерье, епископ Церкви Альби; Марк, епископ Церкви Ломбардии; Бернар Раймон, епископ Церкви Тулузы; Гиро Мерсье, епископ Церкви Каркассона; Раймон де Кальзас, епископ Церкви Валь-д’Аран. Обратившись к Церкви Тулузы, поп Никита заявил, что устройство новой церкви должно быть такое же, как и в Семи церквей Азии, то есть они не должны вмешиваться в дела друг друга. В качестве примера он также перечисляет пять балканских богомильских церквей: Римская (Константинопольская), Драговицкая, Меленгийская, Болгарская и Далмацийская. Итак, мы перечислили места и личности, известные по истории обоих ересей: катаров и трубадуров. Что касается Боснийской церкви, то очевидно, что в перечне она проходит как Далмацийская.
В то время как манихейство было побеждено на Юге Франции и в Болгарии (где на Балканах борьбу с дуализмом в конце XI-го столетия возглавил сам православный император Алексей Комнин), Боснийская богомильская церковь продолжала беспрепятственно существовать в Боснии и Герцеговине и отчасти на территории Далмации и в приграничье с Черногорией. Она успешно пережила все превратности вплоть до турецкого завоевания в середине XV-го столетия. С этого времени и начался мирный переход боснийских богомилов в ислам, растянувшийся в некоторых районах страны на столетия. Как отмечалось в документах, семья боснийских богомилов по фамилии Хележ, проживавшая в горном селе Дубочаны, являлась последней, кто придерживался «богомильского безумия», и перешла в ислам в 1867 году. То есть по существу в Боснии сменилась манихейская институциональная религия на исламскую институциональную религию.
Известно, что Боснийкую церковь (иногда она называется в документах Славонской церковью) возглавлял «дед», то есть епископ. Богомильское «Баталово Евангелие» от 1392 года содержит имена, которые советский исследователь-славист А. В. Соловьев трактовал как список «дедов» Боснийской церкви. Ниже «деда» иерархически располагались «гости». Основу церкви составляли «крестьяне» – манихейские монахи, образующие общины и придерживающиеся аскетического образа жизни. Совет деда формировался из двенадцати «стройников», а духовенство проживало в «хижах», монастырях, возглавляемых «гостем». Мирянами церкви были представители боснийского дворянства, высших и средних городских и сельских слоев, что отмечает в общем мирный характер перехода правящих сословий Боснии в ислам при турецком владычестве, поскольку последние сохраняли свои привилегии. В исторической науке нынешнего государства Босния и Герцеговина господствует так называемая «Богомильская концепция», согласно которой утверждается, что богомильство, в корне отличающееся от сербского православия и хорватского католицизма, подготовило почву для добровольного принятия ислама государствообразующим населением Боснийского герцогства: дворянством, чиновничеством, купечеством, городским высшим и средним классом и зажиточным свободным крестьянством. Ныне богомильство повсеместно изучается в Республике Босния и Герцеговина и является одним из столпов идентичности славяно-мусульманской народности страны. В свою очередь богомильство сильно отразилось и на бытовых обычаях боснийского ислама: мужчины-бошняки беспрепятственно употребляют вино и крепкие спиртные напитки, а женщины не носят хиджаб. Некоторые ученые связывают в целом добровольное принятие ислама в Боснии с присутствием среди ее населения сильного готского этнического субстрата, ведь готы исповедовали арианство. В этом отношении Босния родственна с Югом Франции, где в раннем Средневековье существовали княжества вестготов и визиготов, поначалу исповедовавших арианство, а затем население, во многом состоявшее из потомков готов, благосклонно восприняло катарскую манихейскую ересь, пришедшую с Балкан. Кстати, и родовое наименование боснийской княжеской династии Котроманичей, согласно одной из версий, происходит от сочетания слов Got и Roman, откуда Готроман или Котороман.
Особо стоит подчеркнуть, что от боснийских богомилов осталось большое количество рельефных надгробий (стечек, босн. stećci), датируемых в промежутке от XII до XVI столетий и разбросанных в подавляющем большинстве по территории Боснии, а также Хорватии, Черногории и Сербии, причем в последней они тяготеют к мусульманскому анклаву Санджак, а во втором случае расположены на границе с Боснией. На стечках практически отсутствует форма креста (да и понятно, ведь катарская и богомильская ереси отличались «крестоборчеством»), зато часто изображаются манихейские клирики или миряне в ритуальных позах или с символическим сложением рук. Замечательный боснийский поэт Мехмедалия Мак Диздар (1917–1971), вдохновляемый традиционным исламским мистицизмом, посвятил стечкам своих предков богомилов, пожалуй, лучшую книгу в своем творчестве «Каменный сон» (1966 год). Для Диздара стечки предстают в метафорическом смысле мостом от могилы к звездам. Наверное, недалек тот день, когда откроются документы о пребывании трубадуров или катарских «совершенных» из Прованса и Лангедока при дворах ранних боснийских банов, которые еще более свяжут между собой две страны готского арианского наследия – Боснию и Юг Франции.
Но почему же Дени де Ружмон совершенно умолчал в своей книге «Любовь и Западный мир» о Боснии, средневековая культура которой еще мало изучена, но, как мы полагаем, судя по потрясающим символическим надгробиям вполне могла бы соперничать с окситанской и тулузской еретической культурой? Дело в том, что Дени де Ружмон расценивал катарскую ересь в качестве крайнего предела Реформации, пусть она и возникла почти за пять веков до самой Реформации. Но если по ту сторону Страсти – Ночь, Хаос и Смерть, пусть они и преображающие, как кажется героям романа «Тристан и Изольда»; то что же находится за гранью Реформации, упершейся в манихейскую ересь, к чему, кстати, пришли и многие секты кальвинистского толка, однажды отказавшись от тринитарного учения, в главном разделяемого основными христианскими деноминациями?.. В этом и заключается последняя тайна Европы, что, как представляется, понимал и Дени де Ружмон. Но стоит ли вглядываться в пространство по ту сторону Реформации, каково оно и какое время ему, возможно, отмерено?.. Дуализм иссякает, разрешаясь в монизме, что, повторимся, блестяще выявляет Дени де Ружмон, для чего отнюдь необязательно быть представителем философии персонализма, коим он являлся.
А теперь обратимся к недавней истории – Боснийской войне 1992–1995 гг., в ходе которой боснийские мусульмане воевали под символикой династии Котроманичей, правившей богомильской Боснией с XIII по XV столетие: шесть золотых лилий на лазоревом щите с правосторонней перевязью. В ту пору «реформированный» в христианском смысле Евросоюз при поддержке США помог Боснии и по сути «Второй Альбигойский Крестовый поход» провалился: сербские и хорватские крестоносцы потерпели неудачу, а на останках бывшей Югославии и на богомильской закваске возникло государство Босния и Герцеговина, ныне состоящее из Мусульмано-хорватской федерации и Республики Сербской. Флаг и герб нынешней Боснии и Герцеговины фактически взяты из символики Евросоюза, созданного Маастрихтским договором от 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года. Интересно, что основой флага для Евросоюза послужило знамя Пан-европейского союза графа Куденхове-Калерги, основанного в 1923 году, правда, с его полотнища удалили красный каролингский крест на золотом фоне, оставив кольцо из двенадцати звезд вокруг него (о «крестоборчестве» нами уже упоминалось немногим выше; кстати, оно вовсю практиковалось альбигойцами, о чем свидетельствует в своей монографии профессор Н. А. Осокин). Не наводит ли нас на определенные размышления фактическое единство символики Боснии и Герцеговины и Евросоюза? Да и могильный холм на могиле Дени де Ружмона в Женеве в стиле антитринитария Льва Толстого напоминает нам скорее об упокоении посвященного или катарского «совершенного», нежели сына протестантского пастора (в его случае простой холм, поросший кустарником, может являться аллегорией последнего пристанища катаров – замка Монсегюр, возведенного по указанию катарского духовенства на крутой горе сеньором Раймоном де Перейлем, вассалом графа де Фуа, куда в 1232 году переместился центр Катарской церкви, и взятого крестоносцами после 11-месячной осады весной 1244 года под предводительством королевского сенешаля Каркассона Гуго дез Арси и римско-католического епископа Нарбонна Петра Амьеля). И мы понимаем, что его книга «Любовь и Западный мир» предстает больше сокровенной летописью еретической страсти, нежели христианизированной любви, никогда не умиравшего Эроса, воплощавшегося в разнообразных сообществах и формах, – от «хиж» богомилов, катарских собраний и до кораблей хлыстов и радений молокан и духоборов. У них повсюду один и тот же этос, один и тот же порыв, за которым эндура Страсти, а за ней – Ночь, Хаос и Смерть, которые, вероятно, стали преображающими для «совершенного» Дени де Ружмона.
Могила Дени де Ружмона на Кладбище Королей в Женеве
Впрочем, выдающийся швейцарец, сторонник вместе с Александром Марком европейского интегрального федерализма, заглянул и по ту сторону Реформации, увидев там отнюдь не расцвет либерализма и толерантности, но… грядущий евро-ислам, чем некогда уже завершилась Боснийская церковь с боснийской государственностью, став неким прообразом и примером на столетия вперед. Воодушевленная и захватывающая поэтизация ереси в итоге призывает к замещению иную религию, что, как представляется, прекрасно понимал автор знаковой и даже судьбоносной книги «Любовь и Западный мир». Ведь благородным людям очень сложно бывает отказываться от своих ошибочных заблуждений, которые некогда и надолго трансформировали их мировоззрение. Воистину сказано Фридрихом Ницше: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя» («По ту сторону добра и зла»). Что, на наш взгляд, в действительности и произошло с всемирно известным философом, писателем и публицистом из Невшателя. Вот почему на могиле Дени де Ружмона на Кладбище Королей в Женеве нет креста!..
Владимир ТКАЧЕНКО-ГИЛЬДЕБРАНДТ (ПРАНДАУ), военный историк, переводчик, KCTJ
Любовь и Западный мир
Любовь и Западный мир
Перевод с французского Владимира Ткаченко-Гильдебрандта
Предуведомление
Я назвал «книгами» различные части этого произведения, поскольку каждая из них сжато набрасывает содержание тома обычных размеров. Огромное количество цитируемых фактов и текстов, игра переплетенных «лейтмотивов» могли бы сбить с толку некоторых читателей, если бы я не дал здесь ключ к своему сочинению. В первой книге излагается скрытое содержание легенды или мифа о Тристане. Это нисхождение к последовательным кругам страсти. Последняя книга указывает на диаметрально противоположную человеческую позицию, чем завершает описание страсти, ибо известно лишь то, что устарело, или, по крайней мере, то, к чему можно было прикоснуться, даже не переступив их, границы.
Что касается промежуточных книг: вторая пытается проследить религиозные истоки мифа, в то время как следующие описывают его последствия в самых разнообразных областях: мистика, литература, искусство войны и мораль брака.
Удовольствие говорить о вещах любви весьма неубедительный довод, когда речь идет о столь сжатом объеме. Вот и еще одно сомнительное преимущество: нам было бы неловко разделить его со многими успешными авторами. Отсюда у меня возникли некоторые сложности. Я не желал ни льстить тому, ни обесценивать то, что Стендаль называл любовью-страстью, но попытался описать ее как исторический феномен чисто религиозного происхождения. Итак, мужчины и женщины довольно терпимо относятся к разговорам о любви и даже никогда не устают от них, как бы часто о ней ни заходила речь; но они опасаются того, чтобы ее определяли страстью, когда мы привносим сюда малейшую строгость. Большинство, как считает Лакло, «отказались бы даже от своих удовольствий, если бы им это стоило усталости от размышления». Следовательно, данная книга покажет свою необходимость сначала в той мере, в какой будет неприятной; и она принесет пользу только в том случае, если убедит тех, кто, прочитав ее, осознают причины, почему изначально они могли найти ее неприятной. Такой подход будет стоить мне упреков. Влюбленные сочтут меня циником, а те, кто никогда не испытывал настоящей страсти, изумятся, увидев, что я ей посвящаю целую книгу. Кому я понравлюсь? Тем, кто желает знать или, быть может, даже исцелиться?
Я исходил из одного типа страсти – той, которую переживают Западные люди; страсти крайней формы и исключительной по внешнему виду – мифу о Тристане и Изольде. Нам необходим сей сказочный ориентир, этот яркий и «банальный» пример, – как говорится, из печи, ведь он банален настолько, насколько уникален, – если мы хотим понять в нашей жизни смысл и конец страсти.
Отсюда очевидно почему я упрощаю. Зачем тратить время и стиль на непрестанные разъяснения, что действительность намного сложнее всего того, что можно о ней сказать? То, что жизнь пребывает в смятении, отнюдь не означает, что написанное произведение должно ей подражать. Если я порой и догматизировал, то попрошу прощения лишь у тех из моих читателей, кто считают, что мои стилизации ошибочны в отношении глубинного смысла мифа.
Увлекаемый своими размышлениями в области, обычно предназначенные для «специалистов», я использовал, насколько мог, известные классические труды и некоторые другие; и если я приводил довольно незначительное число их, то это не всегда по незнанию, но ради того, чтобы придерживаться сути. Простят ли меня специалисты за попытку синтеза, осуждаемую всем их техническим образованием? Не обладая универсальным знанием, для овладения коим потребовалось бы несколько жизней, я ограничился здесь и там поиском своевременных подтверждений для некоторых весьма интуитивных представлений. Впрочем, я обнаружил больше, чем требовалось, составив лишь обобщение своих расследований. Этот компромисс подвергает меня двойной опасности. Возможно, я бы убедил некоторых читательниц, если бы не приводил доказательств. И я бы заслужил уважение специалистов, если бы не извлекал из их трудов заключений… В этом досадном положении у меня остается только одно упование: наставлять читательниц, развлекая ученых мужей.
Я пережил эту книгу на протяжении своей юности и молодости; я воспринял ее в форме написанного произведения, напитывая ее прочитанными источниками в течение двух лет; наконец, я составил ее за четыре месяца. Это мне напомнило высказывание Верне в отношении картины, продаваемой им очень дорого: «Она потребовала от меня час работы и всю жизнь».
Д. де Р.21 июня 1938 года
Предисловие к изданию 1956 года
Именно по совету моего английского издателя, коим по счастливой случайности оказался Томас Стернз Элиот, я должен был приступить к пересмотру этой книги.
Со времени ее выхода в свет прошло уже три пятилетия, в том числе и война, многими опытами подвергнув жестокому испытанию мои тезисы. Я ничего не забыл, но немалому и научился, впрочем, больше живя, нежели читая своих критиков, ведь последние вряд ли соглашались между собой. Все же некоторые из них убедили меня: в этой новой версии я заменил отдельные преувеличения пера на несколько аналитических рассмотрений, которые, как я чувствую, еще больше усугубили мое дело.
Историки с прискорбием восприняли мою настойчивость в пользу напряженных отношений между катарами и трубадурами: их это не смутило ввиду отсутствия достаточных «доказательств». Несколько богословов римской или греческой традиции меня дружно упрекали в том, что я слишком неотвратимо противопоставляю Эрос и Агапе[1], что совсем не оставляет места переходным формам, без которых стало бы невозможно жить. Историкам я отвечу просто, что находился в поиске экзистенциального смысла. Посему и не думал охотиться в их угодьях. Приводимые мной документы и предлагаемые мной сопоставления являются скорее иллюстрациями, нежели доказательствами. Тем не менее, новые исследования, начатые с 1939 года, только подкрепили мои предположения: я широко воспользовался ими, чтобы почти полностью переписать книгу II, трактующую о XII-м столетии – о катарской ереси, трубадурах и Тристане. Здесь находится главное из этой новой версии.
Для тех, чья критика сосредотачивалась на том же самом смысле, от которого мне показалось возможным освободиться, я постарался предоставить им право на более чем один пункт: мне пришлось расчищать поле, отмечая контрасты, и мне не всегда удавалось обозначить оттенки на картине. Дополнительная глава к VI-й книге и множество подробных исправлений, надеюсь, свидетельствуют о возросшем реализме.
Описать необходимый конфликт страсти и брака на Западе – таковым являлся мой основной замысел; и это остается в моих глазах подлинной темой, подлинным тезисом моей книги в том виде, в котором она и вышла.
Что касается злободневности моего расследования, то после Второй Мировой войны, я не вижу ее в чем-то изменившейся. В завершении V-й книги я, в частности, упоминал о вероятности конфликта, который бы положил конец изучаемым мной проблемам. Этот страх почти что оправдался в действительности, и я могу лишь перенести его на предсказуемые результаты межконтинентальной ядерной войны. Кроме того, семилетнее пребывание в Америке меня заставило увидеть, что миф о Страсти, деградировавшей в простой романс, еще не исчерпал своих последствий; кино распространяет их по всему миру, и статистика разводов позволяет измерить их масштабы. Если нашей цивилизации суждено сохраниться, то ей необходимо совершить великую революцию: она должна признать, что брак, от которого зависит ее социальная структура, более ценен, нежели любовь, культивируемая ей, и желать иных оснований, нежели прекрасная лихорадка.
Пути этой революции пока еще непредсказуемы для нас; что я и объясняю в VI-й книге. Мое честолюбие ограничивается тем, чтобы привлечь внимание моих читателей к присутствию мифа; тем самым заставив их ощутить его излучение как в жизни, так и в произведениях искусства. Приведение определенного числа умов к подобному осознанию не может оказаться совершенно напрасным. Ведь если верно, что изменения сердца подготавливаются и происходят в бессознательном, то фактически они датируются своей епифанией (проявлением) в письменном, пластическом или живописном выражении – как и любовь по первому своему признанию.
Д. де Р.
Книга 1. Миф о Тристане
1. Триумф романа и того, что он скрывает
«Сеньоры, не угодно ли вам услышать прекрасную сказку о любви и смерти?..»
Ничего на свете не сможет нас больше порадовать.
До такой степени, что это начало Тристана Бедье должно перейти на идеальный образ с первой фразы романа. Это черта непогрешимого искусства, бросающая нас с порога сказки в состояние страстного ожидания, в котором рождается романтическая иллюзия. Откуда берется это очарование? И какую причастность это пиротехническое средство «глубокой риторики» умеет сообщать нашим сердцам?
Поскольку аккорд любви и смерти является тем, что вызывает в нас наиболее глубокие резонансы; постольку это факт при первом рассмотрении устанавливающий успех романа. Есть и другие более сокровенные причины, выявляющие его в качестве определения западного сознания.
Любовь и смерть: смертельная любовь: это если не вся поэзия, то, по крайней мере, то, что в ней есть народного, универсально трогательного в наших литературах и в наших самых древних легендах, и в наших наиболее прекрасных песнях. Счастливая любовь не имеет истории. Нет романа без смертельной любви, то есть любви, угрожаемой и осужденной самой жизнью. Западный лиризм возвышает отнюдь не наслаждение чувствами и не плодотворный покой влюбленной пары. В нем меньше любви, нежели любовной страсти. И страсть обозначает страдание. Вот фундаментальный факт.
Но воодушевление, которое мы проявляем к роману, к фильму, рожденному от романа; идеализированный эротизм, рассеянный по всей нашей культуре, в нашем воспитании, в образах, составляющих украшение нашей жизни; наконец, потребность в бегстве, вызванном механической скукой, – все в нас и вокруг нас прославляет страсть настолько, насколько мы стали видеть в ней обетование более живой жизни, преображающую силу, нечто находящееся по ту сторону счастья и страдания, пламенное блаженство.
В страсти мы чувствуем уже не то, что страдает, а то, что тревожит. И все же любовная страсть обозначает, по сути, несчастье. Общество, в котором мы живем, и нравы которого вряд ли изменились, столетиями сводит к соответствию любовь-страсть девять раз из десяти, облекая его формой адюльтера. И я прекрасно понимаю, что возлюбленные станут ссылаться на всякие исключительные случаи, но статистика неумолима: она опровергает нашу поэзию.
Неужели мы живем с такой иллюзии, в такой «мистификации», что действительно позабыли об этом несчастье? Или, надо полагать, что втайне мы предпочитаем то, что нас ранит, тому, что, казалось бы, наполняет наш идеал гармоничной жизнью?
Давайте же ближе привлечем это противоречие усилием, которое должно показаться неприятным, поскольку оно стремится разрушить иллюзию. Утверждать то, что любовь-страсть, по сути, обозначает прелюбодеяние, это настаивать на реальности, что одновременно скрывает и преображает наш культ любви; это разоблачать то, что сей культ таит в себе, как бы отторгая и отказываясь называть, дабы нам позволить яростно отказаться от того, на что мы не осмеливались притязать. Само сопротивление, испытуемое читателем в признании, что страсть и прелюбодеяние зачастую смешиваются в нашем обществе, не является ли первым доказательством следующего парадоксального факта: мы хотим страсти и несчастья при условии непрестанного непризнания, что мы их желаем в подобном качестве?
Для тех, кто судил бы о нас по нашей литературе, прелюбодеяние могло бы показаться одним из самых замечательных занятий, коим предаются Западные люди. Тогда бы мы быстро составили перечень романов, в которых нет на это никакого намека; и успех, достигнутый другими, пробуждаемое ими благодушие, даже страсть, которую мы в них порой осуждаем, – все это достаточно говорит, о чем мечтают супружеские пары, пребывая в состоянии, сделавшем брак обязанностью и удобством. Если бы не прелюбодеяние, то что сталось бы с нашей литературой? Она живет «кризисом брака». Вполне вероятно, что она это поддерживает, либо «воспевая» в прозе и в стихах то, что религия считает за преступление, а закон нарушение, либо, наоборот, она забавляется этим, извлекая неисчерпаемый репертуар комических или циничных ситуаций. Божественное право страсти, мирская психология, успех трио в театре, – идеализируют ли они ее, утончают ли ее или иронизируют ли над ней, – но что же нам делать, если не изменять бесчисленным и навязчивым терзаниям любви, нарушающей закон? Разве мы не попытаемся вырваться из ее ужасной реальности? Обращать ситуацию в мистику или в фарс – это всегда признавать, что она невыносима… Неудачно женатые, разочарованные, возмущенные, экзальтированные или циничные, неверные или введенные в заблуждение, будь то на самом деле или во сне, в раскаянии или в страхе, в мятежном восторге или в тревоге искушения, – существует мало людей, которые бы не признали себя принадлежащими, по крайней мере, к одной из данных категорий. Отречения, компромиссы, разрывы, неврастении, раздражающие смятения и мелочность мечтаний, обязательств, тайных удовольствий – половина человеческого несчастья обобщается словом прелюбодеяние. Несмотря на всю нашу литературу, – или, возможно, благодаря ей, – может статься, что мы еще ничего и не выразили о реальности вышеуказанного несчастья.
И некоторые наиболее наивные вопросы в этой области зачастую оказывались более решенными, нежели поставленными…
Например, обнаруживая зло, следует ли сваливать вину за него на институт брака или, наоборот, на «что-то» разрушающее в самом средоточии нашего честолюбия? Верно ли, как многие думают, что вызывает все наши мучения так называемая «христианская» концепция брака, или же, напротив, сама концепция любви, которую мы, возможно, не замечали, делает с самого начала эту связь невыносимой?
Я констатирую, что Западный человек любит, по крайней мере, настолько, насколько и разрушает то, что обеспечивает «счастье супругов». Откуда происходит подобное противоречие? Если секрет кризиса брака состоит в простом влечении к запретному плоду, то откуда у нас сей вкус к несчастью? Какой идеи любви он изменяет? Какова тайна нашего существования, нашего духа и, быть может, нашей истории?
2. Миф
Существует великий европейский миф о прелюбодеянии: Роман о Тристане и Изольде. В крайнем нестроении наших нравов, в смятении морального и аморального, в них существующего в самые чистые мгновения драмы, получается, что мы видим филигранно прозрачной эту мифическую форму. Насколько прост великий образ, как своего рода первоначальный тип наших наиболее сложных терзаний.
И подобно тому, как для удаления путаниц из нашего языка, у поэтов принято обращаться к далекому происхождению слов, то есть к вещи или поступку, которые, как считается, они обозначали изначально, я желал бы соотнести с данным мифом и определенные смятения наших нравов. Этимология страстей, разочаровывающая меньше, нежели этимология слов, поскольку пребывает в нашем существовании, – и отнюдь не в области гипотетического знания, – тому прямое подтверждение.
Но, во-первых, скажут, точно ли Роман о Тристане являлся мифом? И в этом случае не разрушается ли его очарование попыткой его анализа?
Мы больше не склонны полагать, что миф предстает синонимом ирреального или иллюзии. Слишком много мифов среди нас проявляют слишком неоспоримую силу. Но злоупотребление словом обязывает его пересмотреть.
В общем можно сказать, что миф представляется историей, простой и поразительной символическая сказкой, подытоживающей бесконечное количество более или менее схожих ситуаций. Одним взглядом миф позволяет уловить некоторые типы постоянных отношений, освободив их от наслоений повседневных видимостей.
В более узком смысле мифы передают правила поведения того или иного социального или религиозного сообщества. Значит, они проистекают от священного элемента, вокруг которого образуется сообщество (символические повествования о жизни и смерти богов, легенды, объясняющие жертвоприношения или происхождение табу и пр.). Часто отмечалось: у мифа нет автора. Его возникновение должно оставаться темным. И сам его смысл отчасти таков. Он предстает как совершенно анонимное выражение коллективных, а точнее общих реальностей. Вот почему произведение искусства, – поэма, сказка или роман, – коренным образом отличается от мифа. Его ценность зависит лишь от дарования его создателя. В нем важно то, что не имеет значения в отношении мифа: его «красота» или его «правдоподобие» и все его качества, присущие успешности (оригинальность, мастерство, стиль и пр.).
Но наиболее глубинный характер мифа – это власть, которую он получает над нами без нашего ведома. И поскольку история, событие или даже личность становятся мифами, постольку в этом заключено господство, которым они воздействуют на нас и независимо от нас. Произведение искусство, как таковое, собственно говоря, не обладает властью принуждения над публикой. Каким бы прекрасным оно ни было, его всегда можно критиковать или воспринимать его, исходя из индивидуальных доводов. Совсем иначе обстоит дело с мифом: его констатация обезоруживает любую критику, приводит к безмолвию рассудок или, по крайней мере, делает его бесполезным.
Итак, я предлагаю рассмотреть Тристана отнюдь не как литературное сочинение, но как тип отношений мужчины и женщины в данном историческом сообществе: социальной элите, куртуазном обществе, проникнутом рыцарством XII-го и XIII-го столетий. Эта сообщество, по правде сказать, растворилось с течением времени. Однако его законы по-прежнему действуют в нас тайным и рассеянным образом. Оскверненные и отвергнутые нашими официальными кодексами они стали настолько более обязывающими, насколько обладают властью лишь над нашими мечтами.
Многие черты легенды о Тристане относятся к тем, которые указывают на миф. И прежде всего, тот факт, что автор предположительно был один и только один, нам совершенно неизвестен. Оставшиеся у нас пять оригинальных версий являются художественными переделками архетипа, от которого не удалось найти и малейшего следа.
Другой мифический аспект легенды о Тристане – это используемый ей священный элемент (Приложение 1). Воздействие и последствия, осуществлявшиеся ей на слушателя, в определенной степени зависят (что нам придется уточнить) от свода правил и церемоний, которые не что иное, как обычаи средневекового рыцарства. Однако рыцарские «ордена» часть назывались «религиями». Шастеллен, летописец Бургундии, подобным образом называет Орден золотого руна (последний по времени), и говорит о нем, как о священной мистерии в век, когда рыцарство уже представлялось только пережитком (Приложение 2).
Наконец, сама природа тьмы, которую мы обнаруживаем в легенде, обозначает ее глубинное родство с мифом. Темнота мифа в целом не заключается в его форме выражения (здесь тогда бы имел место язык поэмы: впрочем, известно, что он из наиболее простых идиом). Легенда связана, с одной стороны, с тайной своего происхождения, а с другой стороны – с жизненной значимостью фактов, символизируемых мифом. Если бы эти факты не являлись темными, или если бы не было никакого интереса в затемнении их происхождения и их масштабов в целях уклонения от критики. Можно было бы довольствоваться законом, трактатом о морали или даже рассказом, играющим роль мнемонического обобщения. Мифа не существует до тех пор, пока нам необходимо придерживаться очевидностей, выражая их явным или прямым путем. Напротив, миф предстает лишь тогда, когда оказалось бы опасным или невозможным признаться в ряде социальных или религиозных деяний, или эмоциональных отношениях, которые, тем не менее, желательно сохранить, или которые невозможно уничтожить. Мы больше не нуждаемся в мифах, например, для выражения истин науки: мы в действительности их рассматриваем совершенно «профаническим» способом, а посему они обладают всем, что необходимо для индивидуальной критики. Но мы нуждаемся в мифе для выражения темного и постыдного факта того, что страсть связана со смертью, и что она влечет за собой разрушение для тех, кто ей предается со всеми своими силами. Вот почему мы желаем спасти эту страсть, и мы лелеем несчастье, хотя наша официальная мораль и наш рассудок их осуждают. Тем самым сумрак мифа дает нам возможность вместить его потаенное содержание и насладиться им в воображении, все же, не осознавая его достаточно четко, чтобы вспыхнуло противоречие. Таким образом, некоторые человеческие реалии, ощущаемые или предчувствуемые нами в качестве фундаментальных, остаются защищенными от критики. Миф выражает эти реалии в той мере, в какой требует наш инстинкт, но он их также скрывает, когда им угрожает великий день разума[2].
Неизвестного или мало известного происхождения, – изначально священного характера, – скрывающий выражаемую им тайну, обладал ли мифический роман о Тристане в той же самой степени обязательными качествами подлинного мифа? От этого вопроса невозможно уклониться. Он нас приводит к сердцу проблемы и ее актуальности.
Уточним, что рыцарские правила, прекрасно и много игравшие в XIII-м столетии роль абсолютного принуждения, выступают в романе только в качестве мифического препятствия и ритуальных фигур риторики. Без них сказка не нашла бы для себя оправданий, а тем более не смогла бы бесспорно навязывать себя слушателям. Необходимо отметить, что эти общественные «церемонии» суть средства принятия антисоциального содержания, коим является страсть. Слово «содержание» получает здесь всю свою силу: страсть Тристана и Изольды буквально «содержится» в рыцарских правилах. Только при том условии, что смогла бы выражать себя в полумраке мифа. Ибо как страсть, жаждущая Ночи и торжествующая в преображающей Смерти, она представляет для всякого Общества чудовищно непереносимую угрозу. Значит, необходимо, чтобы составленные сообщества имели бы возможность противопоставить ей свою плотно отстроенную структуру, чтобы она, выйдя наружу, не нанесла худшего ущерба.
Если впоследствии социальная связь ослабнет или распадется сообщество, миф перестанет быть мифом в строгом смысле слова. Но то, что он потеряет в принуждающей силе и средствах общения в прикрытой и допустимой форме, он обретет в подпольном влиянии и анархическом исступлении. По мере того, как рыцарство, даже в своей профанированной форме знания жизни, – обычаев, которые должно соблюдать, чтобы оставаться благородным человеком, – утратит свои последние добродетели; страсть, «содержащаяся» в первоначальном мифе, распространится в повседневном жизни, вторгнется в подсознание, вызовет новые принуждения, изобретя их по своей необходимости… Ведь мы увидим, что не только естество общества, но и сам пыл темной страсти требует сокровенного признания.
В строгом смысле слова сам миф сложился к XII-му столетию, то есть в период, когда элиты предпринимали могущественные усилия по установлению социального и морального порядка. Речь шла именно о «сдерживании» вспышек разрушительного инстинкта; ведь религия, нападая на него, раздражала его. Летописцы, проповеди и сатиры этого столетия раскрывают нам, что оно познало уже первый «кризис брака». Последний вызвал резкую реакцию. Тем самым успех Романа о Тристане состоял в том, чтобы упорядочить страсть в рамках, когда она смогла бы выразиться в символическом удовлетворении (так Церковь «включала» язычество в свои обряды).
Но если эти рамки исчезнут, то страсть не перестанет существовать. Она всегда столь же опасна для общественной жизни. Она всегда стремится вызвать со стороны общество наведение полноценного порядка. Отсюда историческое постоянство отнюдь не мифа в его первоначальной форме, но мифического требования











