Читать онлайн И проступают вдруг черты Отца… Беседы о духовном богословии
- Автор: Юджин Х. Питерсон
- Жанр: Богословие, Священное Писание, Зарубежная религиозная литература, Христианство
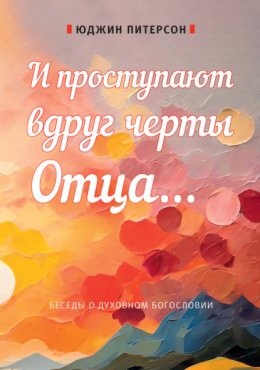
© 2005 Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. МРОЕХ «ХЦ «Мирт», 2024
…Христос играет в нём и веселится.
И проступают вдруг черты Отца
Сквозь дни земные и людские лица.
Джерард Мэнли Хопкинс
Посвящается Джеймсу и Рите Хьюстон
Благодарность
Долгим практическим опытом духовного богословия я обязан трём общинам: Пресвитерианской церкви города Таусон (штат Мэриленд), Пресвитерианской церкви города Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) и Пресвитерианской церкви Христа Царя штата Мэриленд. Именно там и именно с этими людьми я впервые начал этот разговор.
В течение многих лет самые разные учебные заведения принимали меня в качестве приглашенного лектора или внештатного преподавателя, что, безусловно, давало мне дополнительный стимул для размышлений, значительно углубляя и расширяя моё понимание духовного богословия и выводя меня далеко за пределы моего местного контекста. Многое из изложенного в этой книге не раз проверялось в ходе дискуссий и обсуждений с коллегами и студентами, когда я преподавал в семинарии св. Марии в Балтиморе, в Питтсбургской теологической семинарии и Риджент-колледже в Ванкувере (Канада).
Первые варианты отдельных фрагментов книги публиковались в журналах The Christian Century, Christianity Today, Crux, Ex Auditu, Journal for Preachers, Reformed Review и The Rutherford Journal (Шотландия). Благодаря возможности прочитать Тиессеновские лекции по систематическому богословию в Канадском меннонитском колледже (г. Виннипег), а также один из ежегодных курсов лекций имени епископа Дж. Сельвина в Личфилдском соборе (Англия), я смог ещё раз проверить и окончательно оформить свои мысли, что очень помогло мне в написании и редактировании окончательного варианта книги.
Пасторы Майкл Кроу и Стивен Троттер оказали мне особую помощь на последних этапах работы над книгой. Я безмерно благодарен этим и многим другим друзьям и коллегам за разговоры и молитвы, которые на протяжении многих лет способствовали моему духовному формированию и в итоге воплотились в этой книге. Спасибо!
Предисловие
На этих страницах соединились две сферы деятельности: работа пастора и работа университетского преподавателя. Большую часть своей трудовой жизни я служил пастором в разных христианских общинах. Именно так осуществлялась большая часть той практической работы, о которой пойдёт речь в этом обширном разговоре о духовном богословии – то есть о том, как Божье откровение живёт в нас и среди нас, как оно воплощается в нашей жизни. Писать о христианской жизни (здесь это называется «духовным богословием») – всё равно что художнику писать птицу в полёте. Сама природа предмета описания, который постоянно движется и контекст которого постоянно меняется – ритмично машущие крылья, отблески солнца на перьях, плывущие облака (и многое другое), – исключает абсолютную точность. Вот почему определения и объяснения чаще всего упускают самое главное. Истории, метафоры, поэзия, молитва, неспешные беседы – всё это куда лучше подходит для моей темы, для разговора, в котором непременно участвует Другой.
Но моя преподавательская работа тоже сыграла в написании этой книги немалую роль. Одновременно с пасторским служением я много лет читал лекции и вёл семинары в качестве приглашённого или внештатного преподавателя в колледжах и семинариях, и вместе со студентами и другими пасторами мне часто доводилось размышлять о том, как Писание, богословие, история и жизнь церковной общины пересекаются в христианской жизни, в повседневном воплощении Евангелия в реальных условиях жизни в Северной Америке. Затем, после тридцати трёх лет пасторского служения, я полностью ушёл на преподавательскую работу, получив должность профессора духовного богословия в Риджент-колледже (Канада) на кафедре, основанной видным богословом нашего времени Джеймсом Х. Хьюстоном.
Эти две сферы деятельности – пасторская и преподавательская – постоянно подпитывали и дополняли друг друга и в каком-то смысле подтолкнули меня к написанию этой книги. В процессе я общался с самыми разными людьми, как в церкви, так и в университетских стенах; среди них были фермеры и другие пасторы, домашние хозяйки и инженеры, дети и пенсионеры, родители и учёные, члены моей общины и мои студенты, и потому книга получилась несколько смешанной в плане стиля, отчасти научной и отчасти очень личной.
Я старался писать о духовном богословии именно так, как его следует воплощать в жизни, пользуясь живым языком нашей очень многообразной жизни. Какие-то её фрагменты взяты прямо из библиотеки, а какие-то – из разговора в кафешке за углом; какие-то страницы выросли из вопросов во время лекций, а какие-то – из того, чему я научился, сплавляясь на байдарке по реке. Моя главная цель состояла в том, чтобы придать популярной, но весьма неопределённой духовности нашего времени более-менее чёткую структуру и последовательность, опираясь на Священное Писание и позволив Святой Троице задать парадигму моего мышления.
Все эти разговоры и в церкви, и за её пределами окончательно оформились в книгу в особенно удачное для меня время, когда мне посчастливилось работать в Риджент-колледже вместе с д-ром Джеймсом Хьюстоном и его женой Ритой Хьюстон. Всей своей жизнью они воплощали смысл и значимость духовного богословия (Джеймс – своим преподаванием и наставничеством, а Рита – своим гостеприимством). Именно им я с благодарностью посвящаю эту книгу.
Адвент 2003 г.
Введение
Мы всегда начинаем с конца. «В моем начале мой конец»[1]. Конец всегда важнее начала. Любое путешествие начинается с того, что мы решаем, куда поехать. Мы собираем информацию и с помощью воображения мысленно готовимся к тому, что нас ждёт. Целью жизни является жизнь: жизнь, жизнь и ещё раз жизнь.
Цель всей христианской веры и послушания, свидетельства и учения, супружества и семьи, отдыха и работы, проповеди и душепопечения – это проживание, воплощение в жизнь всего, что мы знаем о Боге: жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Если не знаешь, куда идёшь, подойдёт любая дорога. Но если цель у нас всё-таки есть – а в данном случае, это жизнь, прожитая во славу Бога, – стало быть, имеется чётко обозначенный Путь, открытый нам Иисусом, и духовное богословие – это внимательное отношение к тому, как именно следует жить, если мы хотим идти по этому пути. Это протест против того, чтобы богословие обезличивалось, сводясь к накоплению информации о Боге, или превращалось в чисто функциональный инструмент стратегического планирования для Бога.
Сонет, написанный поэтом и священником Джерардом Мэнли Хопкинсом, очень пронзительно и точно описывает, как выглядит человеческая жизнь, проживаемая по-настоящему хорошо:
- Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя;
- В ущелье – камня раздаётся крик;
- Колокола хотят, чтоб за язык
- Тянули их, – зовя колоколами;
- Всяк просит имени и роли в драме,
- Красуясь напоказ и напрямик,
- И, как разносчик или зеленщик,
- Кричит: вот я! вот мой товар пред вами!
- Но тот, на ком особый знак Творца,
- Молчит; ему не нужно очевидца,
- Чтоб быть собой; он ясен до конца:
- Христос играет в нём и веселится.
- И проступают вдруг черты Отца
- Сквозь дни земные и людские лица[2].
Мы чувствуем, что жизнь – это нечто большее, чем только нынешний момент, но одновременно она и нынешний момент тоже. Мы улавливаем отзвуки целостности и жизненной силы, которые явно превосходят наши собственные способности и ресурсы. Время от времени мы чувствуем странную связь и гармонию с окружающим миром, с его камнями и деревьями, лугами и горами, птицами и рыбами, собаками и кошками, щеглами и стрекозами, и это смутное, мимолетное, но убедительное чувство снова и снова подтверждает, что все мы – в одной вселенской лодке и неразрывно связаны родственными узами со всем, что было, есть и будет. Мы нутром чувствуем, что участвуем в чём-то гораздо большем, чем простая сумма тех частей, на которые можно разложить наше бытие, если оглядеться и проанализировать все составляющие наших тел, семей, мыслей, чувств, погоды, новостей, работы и отдыха. Мы смутно сознаём, что никогда не сможем полностью понять, объяснить или описать всё это и жизнь наша всегда будет оставаться тайной – но тайной в хорошем смысле слова.
Все, кто живут сегодня в мире (а значит, и вы, читатель этих слов, и я, их автор), уже потому что глаза наши открыты, а лёгкие продолжают вбирать в себя воздух, могут лично подтвердить существование и присутствие этого Большего, этой Гармонии, этого Родства, этой Тайны – того, у которого…
- Всяк просит имени и роли в драме:
- Красуясь напоказ и напрямик…
- Кричит: вот я!
Самое простое слово для всего этого и есть «Жизнь», и последние строки сонета Дж. М. Хопкинса дали мне тот образ, с помощью которого я хочу более тщательно и подробно поразмышлять над тем, какой является подлинная христианская жизнь:
- Христос играет в нём и веселится.
- И проступают вдруг черты Отца
- Сквозь дни земные и людские лица.
Строки этого сонета наполнены той самой энергией, искрой, спонтанностью, которые присущи всякой жизни, и главная его мысль в том, что за этой жизнью и в самом её центре стоит не кто иной, как Христос: Христос, являющий нам Бога. Поэт говорит нам, что вся эта жизнь, искрящаяся щеглами и пламенеющая стрекозами, эта жизнь с её кричащими камнями и звенящими колоколами разыгрывается в нас – в наших руках и глазах, в нашей походке и нашей речи, в лицах людей, которых мы видим с утра до вечера, каждый день, в зеркале и на улице, в университетской аудитории и на собственной кухне, на работе и на детской площадке, в храмах и на заседаниях всевозможных комитетов. Христос воистину играет во всём этом и во всех нас, и сам этот глагол, «играет», отражает всю полноту радости и свободы той жизни, которая выходит за пределы голой нужды и перестаёт быть просто выживанием. Кроме того, в этой «игре» угадываются слова, звуки и жесты, совершаемые для кого-то другого, ведь играя мы сознательно и осмысленно создаём и передаём красоту, истину или благость. В сонете этот другой – Сам Бог[3], а значит вся жизнь становится (или может стать) поклонением.
Сонет Хопкинса как нельзя лучше отражает то, к чему мы стремимся в своих попытках понять жизнь, тот самый «конец», к которому мы хотим прийти: ту энергию, спонтанность и самозабвенную радость, в которую Христос, являющий Собой Бога, вовлекает и окунает всех нас, так что в результате вся жизнь становится игрой и поклонением. Чтобы избежать недопонимания и подмены понятий, некоторые из нас прикрепляют к этой жизни уточняющее определение и говорят о христианской жизни, и действительно именно христиане призваны к тому, чтобы свидетельствовать о реальности этой жизни и помогать людям учиться так жить посреди общества, где эту жизнь постоянно пытаются ограничить, свести к чему-то более примитивному или сломить.
Вот почему я выбрал сонет Хопкинса, чтобы задать тон всей этой книге и с самого начала определить сущность того, о чем собираюсь писать. Мне хотелось бы максимально ясно и верно описать ту жизнь, которую христианская церковь вот уже две тысячи лет ведёт в мире и ради мира. В каком-то смысле мне хотелось бы сделать то же, что сделал Хопкинс в своём сонете. Любое стихотворение – это сложное переплетение звуков и ритма, очевидных и куда менее очевидных смыслов, где обычное и неожиданное оказываются рядом, вовлекая нас в жизнь: настоящую, глубокую, реальную жизнь. Именно этого я и хочу: не просто что-то объяснить или снабдить вас полезной информацией, но вовлечь вас – моих друзей и родных, соседей и прихожан церкви, читателей и студентов – в игру и помочь нам всем научиться играть вместе с Христом. Я не скажу ничего нового: христиане давно знакомы со всеми изложенными здесь основными принципами уже потому, что они живы и приняли крещение. Мы уже участвуем в этой жизни, потому что Христос действительно играет в «десятках тысяч мест». Но я надеюсь, что мне удастся хоть немного больше и глубже вовлечь вас в эту игру – ведь именно мы и есть те самые лица, руки, ноги и тела, в которых и посредством которых играет Христос.
Эта книга – разговор о духовном богословии; разговор, потому что разговор предполагает беседу, обмен репликами и присутствие разных людей, которые не только размышляют о предложенной теме, исследуя и обсуждая её, но и радуются возможности делать это вместе. Само это словосочетание, «духовное богословие», соединяет воедино два компонента, которые нередко оказываются оторванными друг от друга, органически сочетая внимание, с каким церковь относится к нашим представлениям о Боге (богословие), с тем, как мы день за днём живём с Богом (духовность).
За несколько последних десятилетий всеобщий интерес к духовности резко возрос, и произошло это главным образом из-за глубокого разочарования в предлагающихся нам подходах к жизни, которые оказываются либо чрезмерно рационалистичными (когда психологи, пасторы, богословы или эксперты по стратегическому планированию засыпают нас схемами, диаграммами, определениями и инструкциями), либо безлично-функциональными (со всеми лозунгами, целями, стимулирующими посылами и программами, которые продвигают рекламщики, коучи, консультанты по развитию мотивации, лидеры церквей или евангелисты). Рано или поздно большинство из нас ощущает в себе глубинное желание всем сердцем и душой проживать то, что мы уже и так знаем головой и делаем руками. Но «к кому нам идти?» (Ин. 6:68). Образовательным учреждениям практически нет дела до наших желаний: они выдают нам списки книг и назначают экзамены, но почти не обращают внимания на нас самих. На работе быстро выясняется, что нас ценят преимущественно (если не исключительно) за полезность и продуктивность: когда мы работаем хорошо, нас хвалят, а когда плохо – увольняют. Тем временем религиозные институты, куда раньше было принято обращаться по вопросам Бога и души, все чаще и чаще вызывают лишь разочарование у современных людей, видящих, что и здесь их либо энергично обрабатывают с целью превратить в потребителей духовно-религиозного рынка, либо воспринимают как тупых и нерадивых учеников, которых надо натаскать перед страшным выпускным экзаменом, где их будут спрашивать про то, «как обставлены небеса и какая температура огня в аду»[4].
Из-за этой повсеместной духовной нищеты и безразличия к тому, что интересует нас больше всего, – причем с этим безразличием мы сталкиваемся и в школе, и на работе, и в церкви, – «духовность» (если употреблять самый общий термин) выскользнула из-под опеки официальных структур и оказалась в более-менее свободном полете. Духовность, как говорится, витает в воздухе. И с одной стороны, это хорошо, что самые глубокие и важные аспекты жизни стали предметом всеобщего внимания и интереса, что люди повсюду открыто признают и выражают свою жажду по чему-то надёжному и вечному и решительно не дают сводить себя к экзаменационным оценкам и должностным инструкциям. Однако с другой стороны, получается, что каждому из нас в каком-то смысле предлагается создать собственную подходящую ему духовность. В результате – даже при самых благих намерениях – многие, очень многие люди сами собирают себе «духовность» и образ жизни, смешивая в кучу цитаты из рассказов о знаменитостях, советы медиагуру, обрывочные восторги и личные фантазии. К сожалению, эта сборная солянка нередко приводит к зависимостям, разорванным отношениям, изоляции и насилию. А ведь в итоге всё это происходит потому, что люди просто оказались предоставлены самим себе.
Понятно, что людям всё чаще и больше хочется жить за рамками тех ролей и функций, которые навязывает им общество. Однако часто выходит, что получающаяся в результате духовность оказывается сформированной тем же самым обществом. Поэтому термином «духовное богословие» я буду называть специфически христианскую попытку описать человеческую жизнь, опираясь на Священное Писание и богатое духовное наследие наших предков, чтобы понять, как нам жить этой жизнью сейчас, в современном мире, где «жажда праведности» утратила определённость и, что называется, рассеялась в воздухе.
Два термина, «духовное» и «богословие», идут рука об руку. «Богословие» – это то внимание, которое мы уделяем Богу, и те усилия, которые мы прилагаем к познанию Бога, явленного нам в Писании и в Иисусе Христе. «Духовное» означает упор на то, что обычные люди могут – прямо у себя дома или на работе – проживать всё, что Бог открыл нам о Себе и Своих делах. «Духовное» не даёт «богословию» скатиться к абстрактным, чисто умозрительным философствованиям о Боге. «Богословие» же не даёт «духовному» превратиться в разговоры исключительно о том, что каждый из нас лично думает и чувствует о Боге. Оба эти слова нуждаются друг в друге, ведь мы знаем, как легко отделить попытки познать Бога (богословие) от практической жизни и как легко отделить желание жить полноценно, с подлинным удовлетворением (то есть желание жить духовной жизнью) от того, кто такой Бог на самом деле и как Он действует среди нас.
Духовное богословие – это внимание, которое мы уделяем проживаемому богословию: богословию, которое воплощается в жизни и в молитве, – потому что если оно не будет воплощаться в молитве, то рано или поздно утратит всякую связь с Господом жизни, а значит, и всякую глубину. Духовное богословие – это внимание, которое мы уделяем тому, чтобы проживать на личном опыте то, во что мы верим и что знаем о Боге. Это вдумчивое и послушное культивирование жизни как коленопреклонённого обожания Бога Отца, жизни как живой жертвы следования за Богом Сыном и жизни как любви, радостно принимающей общение Бога Духа.
Духовное богословие – это не ещё один раздел богословия, расположившийся на одной научной полке с систематическим, историческим, библейским и практическим богословием. Скорее, оно отражает убеждение в том, что всё богословие без исключений имеет дело с живым Богом, творящим нас для того, чтобы мы жили ради Его славы. Оно помогает нам научиться распознавать проявления Божьей руки не только в церкви, но и на работе, откликаться на них не только во время медитации в березовой роще, но и в процессе смены подгузника в детской, и осознавать их важность не только при толковании древнееврейского текста, но и во время чтения газетной передовицы.
Кому-то ради простоты захочется убрать богословие и оставить только духовное. Кому-то, напротив, будет вполне комфортно и дальше заниматься богословием, забыв о духовном. Однако мы живём лишь потому, что жив Бог, и жить по-настоящему хорошо можно только в соответствии с тем, как именно Бог созидает, спасает и благословляет нас. Духовность начинается в богословии (в откровении и понимании Бога) и следует его водительству. Богословие же, в свою очередь, становится полноценным, лишь воплощаясь в телах реальных людей, которым Бог даёт жизнь для того, чтобы в Его спасении они познали подлинную жизнь с избытком (духовность).
«Троица» – это богословская формулировка той реальности, благодаря которой наши рассуждения о христианской жизни остаются связными, понятными, целенаправленными и личностно значимыми для каждого. Первые христиане довольно быстро поняли, что всё в нас и вокруг нас – поклоняемся мы или учимся, говорим или слушаем, учим или проповедуем, повинуемся или принимаем решения, работаем или играем, едим или спим – всё это происходит «на территории» Троицы, то есть в непосредственном присутствии и в поле действия Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Если мы не осознаем, что Божье присутствие и действие определяют нас самих и все наши дела, нам не удастся ни понять, ни как следует прожить ни одно из наших начинаний.
«Троице» пришлось претерпеть немало унижений от престарелых артритиков (вроде того «мёртвого до половины» грамматика, которого так едко разделал Роберт Браунинг)[5], пытавшихся со всех сторон тыкать и прощупывать её, словно высушенный словесный артефакт. На деле же это самое выдающееся и смелое интеллектуальное достижение человека в его попытках размышлять о Боге[6]. Троица – это концептуальная попытка увязать в одно целое то, что Бог многообразно открыл нам о Себе в Писании как об Отце, Сыне и Святом Духе: Его подчёркнутую личностность; тот факт, что Он всегда и исключительно является Богом в личных взаимоотношениях. Троица – это не попытка объяснить или определить Бога с помощью абстрактных понятий (хотя кое-что от этой попытки тут всё же есть), а свидетельство о том, что Бог являет Себя как личность и через личные взаимоотношения. В практическом плане оно избавляет Бога от умозрительных домыслов метафизиков и смело помещает Его в сообщество мужчин, женщин и детей, призванных войти в эту общую жизнь любви – подчеркнуто личную жизнь, где они ощущают и осознают себя в контексте любви, прощения, надежды и желания. В образе Троицы мы обнаруживаем, что познаём Бога не благодаря тому, что даём Ему определение, а благодаря тому, что Он любит нас и мы в ответ любим Его. В результате каждый из нас получает личное откровение: я узнаю другого человека, а он меня, не посредством определений, объяснений, категоризации и психологических выкладок, а исключительно через взаимоотношения, когда мы принимаем и любим друг друга, что-то даём и что-то приобретаем. Личное и межличностное – первые и основные образы (Отец, Сын и Святой Дух) для того, чтобы познавать Бога и быть познанным Богом. Это и есть жизнь, а не просто размышления о жизни, и мы именно живём с Богом, а не просто совершаем по Его команде те или иные действия.
Таким образом, все мои размышления о духовном богословии будут разворачиваться в контексте этого обозначенного Троицей пространства, в котором мы познаём Бога, веруем в Него и служим Ему: Отцу с Его творением, Сыну с Его историей и Духу с Его сообществом.
Троица – это не только попытка верно сформулировать богословский догмат. Пространство Троицы позволяет нам понять творение (мир, в котором мы живём), историю (то, что происходит с нами и вокруг нас) и сообщество (как лично мы участвуем в повседневной жизни среди всех остальных окружающих нас людей). Троица – это не искусственно навязанное нам понятие; это свидетельство о соприсущности Бога (Отца, Сына и Святого Духа) и о соприсущности нашей жизни образу и подобию Бога (где мы живём, что с нами происходит и кто мы такие, по мере того как мы говорим, действуем и вступаем в личные отношения друг с другом).
Итак, Троица обозначает и определяет то пространство, тот ландшафт, в контексте которого мы знаем Бога, принимаем Его и повинуемся Ему. Это не само пространство, а его разметка, его карта – и, надо сказать, карта весьма полезная, ибо Бог неизмеримо велик и многообразен и действует как явно, так и незримо. Когда мы предоставлены самим себе, мы то и дело упираемся в тупики, запутываемся в чащобах, теряемся и не можем понять, где оказались. Карта помогает нам определить наши координаты: она даёт нам нужную терминологию и показывает, как можно познавать Бога, когда вокруг нет ни малейшего признака Его присутствия и когда в нашем словаре нет точного обозначения для необычной мысли или чувства, с которыми мы столкнулись.
У карты есть ещё одно важное свойство. Хотя она является артефактом, искусственно изготовленным предметом, никто не станет насильственно подгонять под неё ландшафт. Наоборот, карта является результатом тщательных наблюдений и точных записей того, что существует в действительности. Карты должны быть честными и надёжными. А ещё карта – весьма смиренная штука: она не пытается заменять собой реальную местность. Изучать карту местности и идти по этой местности – совершенно разные вещи. Цель карты состоит в том, чтобы показать, как добраться туда, куда нужно, и помочь не потеряться в пути.
Итак, структурой и контекстом для наших размышлений будет Святая Троица, разговор наш пойдёт в русле метафоры «Христа, играющего в десяти тысячах мест», и для начала нам предстоит расчистить игровое поле, а затем чуть более пристально посмотреть на три пересекающиеся измерения, в которых мы проживаем нашу жизнь, а именно: на творение, на историю и на сообщество.
Расчищая игровое поле. Мы живём во время всеобщего интереса к тому, что обычно называется «духовностью». У христианской церкви нет монополии на раздачу указаний о том, как жить. Игровое поле духовности буквально завалено обломками самодельных правил, разъясняющих, как лучше прожить на свете, и импровизированных попыток это сделать. Я попытаюсь максимально расчистить это поле и установить общие параметры для разговора, расставив по местам основные нарративы, метафоры и термины, которые помогут нам понять христианскую жизнь как в библейском, так и в личном плане.
Христос играет в творении. Мы живём в чрезвычайно сложной вселенной, рядом с миллионами других форм жизни, связанных с нами самым непосредственным образом. В мире происходит очень много всего, и нам не хочется ничего упускать. Сейчас, когда всё и вся рассматривается преимущественно с прагматической, функциональной точки зрения и ощущение сокровенности, сакральности всего живого и неживого неуклонно размывается, мы поговорим о том, что христианин должен принимать всё творение, радоваться ему и почитать его как сокровенный дар, исходящий от Бога и обретающий свою полноту в рождении Христа.
Христос играет в истории. Но жизнь – это не только дар творения. Все мы также погружены в историю, где не последнюю роль играют грех и смерть: нам не понаслышке известны страдания и боль, разочарования и потери, катастрофы и зло. В наш век стремительно нарастающего знания и блестящих технических достижений легко решить, что ещё немного знаний и технологий – и мы переломим ход событий, и мир наконец-то начнёт становиться лучше. Однако до сих пор ничего подобного не произошло. И не произойдёт. Неопровержимые исторические факты и документы из недавно закончившегося (двадцатого) столетия четко показывают, что оно было самым кровопролитным за всю историю[7]. Нам нужна помощь. Мы будем размышлять о том, как христианам войти в ту историю, которая обретает свой окончательный смысл в смерти Христа и в проистекающей из неё жизни спасения.
Христос играет в сообществе. Христианская жизнь – это жизнь рядом с другими и ради других. Мы ничего не можем делать в одиночку или исключительно для себя. В наш век крайнего индивидуализма легко подумать, что христианская жизнь – это прежде всего то, за что отвечаю я сам, лично. Однако в духовном богословии нет места ни эгоизму, ни философии типа «помоги себе сам». Мы подумаем о том, как выглядит наше место в сообществе, созидаемом Христовым Святым Духом, и как нам стать полноценными участниками всего, чем является и что делает воскресший Христос и как жить жизнью Его воскресения.
Расчищая игровое поле
«Придите ко Мне… научитесь от Меня; ибо Я кроток и смирен сердцем…»
Мф. 11:28–29
Как только были написаны Евангелия, начались рассуждения, не подкреплённые личным опытом и заигрывающие с новыми фактами, исходящими из существования Церкви… Люди пытались представлять себе новую жизнь, не познав её лично в форме призыва, слушания, страсти или перемены сердца.
Ойген Розеншток-Хьюсси [8]
Энергия духовности кипит повсюду, и это, в общем, хорошо. Однако в то же самое время духовность склонна к неточностям, которые засоряют игровое поле и затрудняют разговор. Особенно часто такие неточности возникают в следующих четырёх аспектах. Во-первых, духовность очень быстро, почти неизбежно, приобретает оттенок высокомерного элитизма, когда мы вдруг замечаем, как «бездуховны» многие из тех, кто работает рядом с нами и ходит в нашу церковь. Во-вторых, на волне энтузиазма, порождённого первым личным опытом, духовность незаметно отходит от своего основного текста, от Библии, и кидается в привлекательный мир книг по самопомощи. В-третьих, оказавшись наедине с современной культурой, которая с готовностью подсовывает ей свои термины и понятия, духовность размывается или полностью утрачивает своё отличительное евангельское содержание. Наконец, реагируя на якобы «мёртвое» богословие, духовность быстро впадает в богословскую амнезию, отрезая себя от осознания величественных и обширных горизонтов познания Бога, от тех поистине необъятных просторов, в которых мы призваны проживать свою христианскую жизнь.
Мне хотелось бы облечь эти современные, но расплывчатые энергии духовности в добротные библейские одежды и направить их навстречу Иисусу, чтобы потом, после должной подготовки, они могли по-настоящему «играть» в творении, истории и сообществе вместе с Христом. Чтобы расчистить поле для разговора и убрать завалы недопониманий и неточностей в этих четырёх сферах мне понадобятся две библейские истории, три текста, четыре термина и один танец. Две библейские истории помогут мне выровнять игровое поле, чтобы мы могли жить в смирении и без притворства (противодействуя элитизму); три текста заложат библейское основание для жизни в послушании (противодействуя философии «помоги себе сам»); четыре термина позволят нам сфокусироваться на Евангелии, чтобы жить точно и верно (противодействуя культурной расплывчатости), а танец выведет богословие вперёд, на поле действия, чтобы наше воображение расширилось и смогло вместить в себя подлинную жизнь (противодействуя убогим горизонтам чисто секулярного мира).
Две библейские истории
Рассказать человеку какую-то историю – самый естественный способ не только расширить и углубить его ощущение реальности, но и помочь ему войти в эту реальность. Истории открывают перед нами дверь в такие стороны жизни, о которых мы или не знали, или забыли из-за их привычности, или вообще не думали, потому что считали, что они не для нас. Но истории – это словесное выражение гостеприимства, и теперь, когда дверь открыта, они приглашают нас войти.
В начале своего Евангелия св. Иоанн записывает две истории, которые явно приглашают всех войти в христианскую жизнь.
В первой речь идёт о Никодиме, иудейском раввине (Ин. 3). Опасаясь за свою репутацию, он пришёл побеседовать с Иисусом под покровом ночи. Он лишился бы авторитета среди коллег-раввинов, если бы те узнали, что он ходил за советом к этому непонятному странствующему учителю, этому пророку-назарянину из галилейской тьмутаракани, от которого явно можно ожидать вообще чего угодно. Поэтому он пришёл к Иисусу ночью. На первый взгляд, никакой особой цели у него не было; он просто хотел познакомиться с Иисусом и начал разговор с комплимента: «Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3:2).
Но Иисус услышал стоящий за этими словами невысказанный вопрос: какая-то цель у Никодима всё-таки была. Он не стал тратить время на предварительные любезности и сразу перешёл к делу; Он прочитал, что было у Никодима на сердце, и заговорил сразу об этом: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (3:3). Так вот зачем пришёл к нему Никодим – спросить о том, как попасть в Божье Царство, как жить под Божьим правлением, как войти в Божью реальность. Очень странно.
А странно это потому, что как раз во всех этих вопросах Никодим должен был разбираться досконально. Так почему же он тайком от всех пробрался ночью поговорить об этом с Иисусом? Неужели он был таким смиренным человеком? Кстати, очень может быть. Лидеры, которые пользуются уважением, компетентно отвечают на вопросы и, судя по всему, действительно живут в соответствии с тем, что говорят, нередко испытывают острый внутренний разлад: «На самом деле я совсем не такой, каким считают меня люди. Чем лучше я проповедую, чем больше меня уважают, тем больше я чувствую себя лицемером. Я все прекрасно знаю – но живу совсем не так, как надо бы. И чем старше я становлюсь, чем больше знаю, тем шире становится пропасть между тем, что я знаю, и тем, как я живу. С каждым днём я становлюсь всё хуже…»
Так что да, может быть, Никодим действительно пришёл к Иисусу из чувства глубокого смирения. Он искал не богословскую информацию, а способ войти; не новое знание о Царстве, а друга или проводника, который мог бы подвести его к двери и помочь ему попасть внутрь. «Как мне войти?..»
Или, может быть, его привело к Иисусу любопытство. Чтобы удержать своё влияние, лидерам необходимо опережать конкурентов, следить за последними трендами и знать, что именно пользуется спросом. К Иисусу стекаются толпы народа – так чем же Он их привлекает? Как Он это делает? В чём Его секрет? Никодим был настоящим профессионалом, но прекрасно знал, что просто почивать на лаврах нельзя. К тому же мир вокруг стремительно менялся. В Израиле смешалось сразу множество культур: греческая мудрость, римские политические структуры и еврейские нравственные традиции, перемешанные с сектами гностиков, тайными культами, террористическими группировками и всевозможными авантюристами и фанатиками мессианского толка. Ситуация менялась чуть ли не еженедельно, и Никодиму надо было зорко следить за тем, куда дует ветер, если он хотел оставаться осведомлённым и удерживать власть в своих руках. Сейчас главной новостью дня был именно Иисус, и, возможно, Никодим пришёл к Нему, чтобы выведать что-нибудь полезное в плане стратегии или информации. Что ж, и это тоже вполне правдоподобно.
Но евангелист Иоанн совершенно не разделяет нашего с вами любопытства о том, что именно привело Никодима к Иисусу. Его не интересуют мотивы; он рассказывает нам не о Никодиме, а об Иисусе. Иисус не спрашивает Никодима, почему тот пришёл, и Иоанн тоже об этом не думает. После короткого гамбита Иисус перехватывает инициативу и предлагает гостю поразительную метафору, требующую отдельного внимания: «родиться свыше» или «родиться заново»: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (3:3). И сразу же, не давая Никодиму даже перевести дух, Иисус добавляет ещё один, ещё более странный образ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (3:5). В арамейском языке, на котором, судя по всему, говорил Иисус, как и в греческом, на котором писал св. Иоанн, «ветер», «дыхание» и «дух» передаются одним и тем же словом. Поскольку в этих языках одно и то же слово обозначает и движение воздуха в результате сокращения лёгких, и движение воздуха в результате перепадов атмосферного давления, и животворное движение живого Бога внутри нас, каждый раз, когда это слово употреблялось, слушателю необходимо было напрячь воображение и спросить себя, о чем идёт речь: о дыхании, о погоде или о Боге?
Не успели мы задать себе этот вопрос, как Иоанн проясняет ситуацию, употребляя это слово и в буквальном, и в переносном значении в одном предложении: «Ветер [пневма] дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа [пневма]» (3:8).
Никодим качает головой. Он ничего не понимает.
Следом евангелист рассказывает ещё одну историю, на этот раз про женщину из Самарии (Ин. 4). Здесь действие происходит не ночью, как в случае с Никодимом, а среди бела дня, в Самарии, возле Иаковлева колодца. Когда самарянка приходит за водой, Иисус сидит у колодца один. Он начинает разговор с просьбы дать Ему напиться. Женщина удивляется, что с ней заговорил этот мужчина, этот еврей, ведь между евреями и самарянами уже не одно столетие продолжается религиозная вражда. Возможно, она не только удивилась, но и насторожилась. Прислушайтесь к её голосу, когда она спрашивает: «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, самарянки?» (4:9). Нет ли в нём нотки вызова, нотки недоверия к этому незнакомцу, сидящему у колодца? Надо сказать, что для недоверия у неё были все основания. Жизнь изрядно её потрепала. Чуть позже мы узнаем, что она уже пять раз была замужем и сейчас живёт с мужчиной, который ей не муж. Нетрудно представить себе, сколько чувства отвержения, сколько горьких неудач стоит за всем этим, сколько ран, обид и печалей накопилось за эти годы в её теле и душе. Для неё быть женщиной – значит быть жертвой. Быть рядом с мужчиной – значит быть в опасности. Никогда не знаешь, что дальше скажет и сделает этот чужак. Расслабляться нельзя ни на секунду.
Или всё как раз наоборот? Может быть, в её голосе вам слышится не настороженность, а призывное кокетство? Может быть, она пытается его соблазнить? Может быть, она безжалостно, одного за другим использовала своих пятерых мужей, а теперь пытается найти себе ещё одну, шестую жертву? Может быть, мужчины для неё – всего лишь средство, чтобы обеспечить себя комфортом, повысить социальный статус или получить доступ к власти, и когда очередной муж перестаёт удовлетворять её амбиции, похоть или гордыню, она просто его бросает? Вполне возможно, что при первом же взгляде на Иисуса она тут же начала измышлять, как Его соблазнить: «О, вот ещё один! А он ничего! Надо подумать, на что можно его раскрутить!»
Вообще, это всегда интересно – представлять, что там произошло на самом деле, заполнять пустоты, угадывать мотивы и чувства, стоящие за действиями и словами, и пытаться заглянуть в жизнь другого человека. Но, как и в случае с Никодимом, Иисус не выказывает ни малейшего интереса к этой игре, да и Иоанна тоже не интересуют мотивы самарянки. Он принимает женщину и её слова как есть, без вопросов. Мы понимаем, что, как и в эпизоде с Никодимом, главное действующее лицо здесь не женщина, а Иисус.
Теперь, когда разговор уже начался, Иисус вдруг начинает говорить загадками: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (4:10). Вскоре становится ясно, что Он использует слово «вода» в переносном смысле – точно так же, как «ветер» в беседе с Никодимом. Если вначале «вода» означала воду, которую можно достать из колодца ведром, то теперь имеется в виду нечто совершенно иное, нечто внутреннее: «источник воды, текущей в жизнь вечную» (4:14). А затем к ней добавляется метафора, которую мы уже слышали в разговоре с Никодимом: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (4:24).
Здесь в слове «дух» физическое ощущение дыхания и ветра снова соединяется с природой Бога и тем, как Он действует. Именно в тот момент, когда разговор, как кажется, вот-вот скатится к спору о том, где правильнее поклоняться Богу, слова Иисуса вдруг создают новую реальность, в центре которой оказывается Бог.
И женщина это понимает. Она проводит параллель между тем, что знает о Мессии, и тем, что говорит ей Иисус, кто Он для неё. И тут же начинает в Него верить.
Важно отметить, что в обеих этих историях (которые св. Иоанн явно не случайно ставит рядом) в центре действия оказывается Божий Дух: жизнь и реальность Бога, созидающее Божье присутствие, Его дыхание, наполняющее нашу жизнь, как когда-то оно наполнило Адама, – то самое дыхание, дающее нам жизнь, которую не даст и не объяснит никакая биология.
Между этими эпизодами есть ещё одна параллель: они настоятельно подчёркивают доступность Божьего Духа для всех. К сожалению, современное употребление слова «духовность» нередко имеет оттенок некой элитарности, ощущение того, что она доступна лишь немногим избранным. Но в этих двух историях нет ни малейшего намёка на что-то подобное. Боговдохновенная жизнь предлагается всем и доступна самым разным людям. Бог зовёт нас в жизнь. Без каких-либо предварительных условий – и точка.
Всеобъемлющая щедрость этого приглашения-призыва видна, прежде всего, в самом выборе слов. Метафоры, которые использует Иисус, доступны абсолютно всем; они понятны без словаря и взяты из повседневной жизни. С Никодимом Он говорит о рождении, с самарянкой – о воде. Все мы непосредственно знакомы и с тем и с другим и без дополнительных пояснений прекрасно знаем, о чём идёт речь. Все мы знаем, что такое рождение: мы живы, а значит, когда-то родились на свет. Все мы знаем, что такое вода: мы несколько раз в день используем её для питья, для умывания и так далее. Общая для обеих историй метафора ветра/дыхания тоже всем понятна. Все мы знаем, что такое ветер/дыхание: подуйте на свою ладонь, сделайте глубокий вдох и посмотрите, как колышутся на ветру листья.
Но есть тут и кое-какие дополнительные моменты.
Первая история – о мужчине; вторая – о женщине. В христианской жизни нет места гендерному неравенству.
Первая история разворачивается в большом городе, центре светской культуры, науки и моды; вторая – на окраине провинциального городка. Так что география тоже никак не влияет ни на способность воспринять Божью истину и жизнь, ни на глубину этого восприятия.
Никодим является респектабельным членом строго ортодоксальной еврейской секты фарисеев; женщина принадлежит к числу презираемой секты еретиков-самарян, да ещё и сама обладает весьма сомнительной репутацией. Получается, что расовая и этническая принадлежность, религиозная практика и личная нравственность тоже не являются предопределяющими фактами в вопросах духовности.
Мужчину мы знаем по имени; женщина так и остаётся безымянной. Судя по всему, репутация и положение в обществе тоже не имеют особого значения.
И ещё одно: Никодим начинает разговор с Иисусом с религиозного утверждения: «Равви, мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога». Начиная разговор с женщиной, Иисус просит у неё воды; в Его словах нет ничего религиозного. Такое чувство, что в христианской жизни неважно, кто именно начинает разговор, мы или Иисус, и о чём идёт речь, о небесном или земном.
Кстати, в обеих историях на карту поставлена репутация: Никодим рискует своей репутацией, если Его увидят в обществе Иисуса; Иисус рискует Своей репутацией, если Его увидят в обществе самарянки. И тут и там есть ощущение, что с обеих сторон собеседники несколько пренебрегают общепринятыми устоями, переступают порог осторожности и внутренне готовы к риску, что их могут понять неправильно. Когда мы подступаем к самому главному, к самому важному, нет ни гарантированных результатов, ни привычных условностей поведения. Итак:
Мужчина и женщина.
Город и деревня.
Влиятельная личность и изгой.
Профессионал и дилетант.
Респектабельный мужчина и женщина с сомнительной репутацией.
Ортодоксальный верующий и еретичка.
Проявляющий инициативу и отвечающая на чужую инициативу.
Названный по имени и безымянная.
Человек, рискующий свой репутацией; Бог, рискующий Своей репутацией.
И вот ещё что: в обоих эпизодах ключевым словом является «дух». «Дух» связывает все различия и контрасты в обеих историях, соединяя их в одно повествование. В обоих разговорах «Дух» обозначает, главным образом, Бога и только косвенно отсылает нас к мужчине и женщине: в первом случае человек рождается от Духа («так бывает со всяким, рождённым от Духа»), и Дух является главным источником, основным действующим лицом, главной причиной того, что человек обретает способность «увидеть» Царство и «войти» в него (оба эти глагола используются в разговоре). Во втором эпизоде мы узнаём, что Бог есть Дух; соответственно, поклоняться Ему следует в духе и истине. Получается, что говорить о том, что нам делать, а чего не делать, в принципе можно только потому, что Бог есть Дух.
И наконец, последний момент: в обоих эпизодах главный герой – Иисус. Никодим и самарянка предоставляют Ему возможность что-то сказать, но содержанием разговор наполняет именно Он. Когда речь идёт о жизни – то есть о том широком контексте, в котором мы говорим все свои слова и делаем все свои дела, – в центре её всегда действует Иисус. Он куда активнее любого из нас, и именно Он придаёт энергию всему происходящему.
Мы к этому не привыкли. Чаще всего мы используем слово «духовный» (образованное от деятельности Божьего Святого Духа) для описания собственных качеств, желаний, настроений или достижений. Как это ни печально, в результате его смысл оказывается безнадёжно искажённым. Но эти две истории помогают нам вернуться к первоначальной ясности: мы перестаём обращаться исключительно к собственному и чужому опыту, чувствам или достижениям, когда в Иисусе Христе пытаемся понять ходящего среди нас Бога, Божьи пути и то, как Он призывает нас вступить на эти пути. Эти истории помогут нам расчистить место для отправной точки. Мы уже убрали кое-какой мусор, когда установили, что:
– духовность – это не свод тайных знаний;
– духовность никак не связана с темпераментом и личными способностями;
– в духовности самое главное не вы и не я, не личная сила, власть или обогащение; самое главное здесь – Бог.
Но поскольку сейчас слова «духовный» и «духовность» так часто используются в полном отрыве от библейского откровения (а порой и наперекор ему), в этой книге мы будем часто (но не всегда) употреблять словосочетание «христианская жизнь» в качестве синонима слова «духовность».
Подлинно библейская христианская церковь всегда открыто и радушно принимала «заблудших», людей, не отличавшихся высоким социальным статусом, образованностью или благочестием, а также тех, кого отвергали официальные религиозные институты. Однако нередко – и особенно в те времена, когда церковь становилась общепризнанной частью культуры и заметно разрасталась численно, – её решимость принимать изгоев явно ослабевала, так что людей, оказавшихся на обочине общества, не пускали и в церковь. Но в результате именно эти люди и их голоса помогали церкви вспомнить её изначальное предназначение и открыть двери для тех, кому не нашлось места в обществе.
Во всех вопросах духовности необходимо сохранять бдительность. Искушение впасть в элитизм всегда «лежит у порога» (Быт. 4:7): даже если Евангелие – это действительно для всех, «продвинутые» дела Царства вдруг оказываются доступны лишь избранным, и в социальном и культурном плане эти «избранные» почему-то всегда принадлежат к среднему или высшему классу, в то время как неимущим и необразованным особого внимания не уделяется. Однако «евангельское» христианство с одинаковой силой и радушием направлено как на своих, так и на чужих. Христианская духовность процветала и давала удивительные плоды и в маленьких городских общинах, арендующих помещения бывших магазинов, и в далёких степных поселениях, даже если верующие там говорят совсем не так, как принято говорить в столичных мегацерквях или уединённых ретритных центрах где-нибудь в горах.
Три библейских текста
Две рассказанные выше истории уже поставили в центр внимания слово «дух», приглашая всех и каждого войти в жизнь возрастающей близости с Господом. Слово «дух», обозначающее Божьего Духа или Святого Духа, занимает важное место в Писании и Предании, постоянно напоминая нам, что живое Божье присутствие неизменно находится и действует среди нас. Оценить масштаб этого созидательного действия Духа в мире нам помогут три текста: Быт. 1:1–3, Мк. 1:9–11 и Деян. 2:1–4. Каждый из них отмечает некое начало, и в каждом из них инициатором этого начала становится именно Дух.
Как писал однажды Г. К. Честертон, в мире есть два типа людей: когда деревья качаются на ветру, одни говорят, что это ветер колышет деревья, а другие – что это деревья производят ветер[9]. На протяжении большей части истории большинство людей придерживалось первой точки зрения, и только в последние годы, по словам Честертона, возникла новая порода людей, беззастенчиво утверждающих, что именно движение деревьев и порождает ветер. До сих пор все были согласны, что за видимым эффектом стоит невидимая сила, придающая ему энергию. Как журналист, пристально наблюдающий за людьми и событиями, Честертон с беспокойством отмечает, что былого консенсуса по этому вопросу уже нет, так как большая часть наших современников наивно предполагает, что основной реальностью является именно то, что мы видим, слышим и трогаем, и именно эта чисто физическая реальность порождает всё то, что невозможно проверить пятью человеческими чувствами. Люди считают, что всё невидимое объясняется видимым.
Утратив метафорическое происхождение слова «дух», в повседневной речи мы неизбежно сталкиваемся с серьёзным словарным дефицитом. Представьте себе, как изменилось бы наше восприятие реальности, если бы слово «дух» вообще пропало из языка и вместо него мы употребляли слова «ветер» и «дыхание». Для наших предков «дух» не был чем-то «духовным»; его можно было ощутить чувственно. Он был невидимым, но производил видимый эффект. Он был невидимым, но игнорировать его было нельзя. Воздух не менее материален, чем гранитный утёс; его можно ощущать, слышать и измерять; в нём содержатся молекулы, необходимые для дыхания всего живого, как животных, так и людей, которым воздух нужен уже для того, чтобы спать и просыпаться, – будь то лёгкий выдох, на котором мы произносим слова, весенний ветерок, ласкающий кожу, порывистый бриз, надувающий паруса, или дикий ураган, срывающий с амбаров крыши и с корнем вырывающий деревья.
Всё было бы куда понятнее, если бы можно было хотя бы на время убрать из языка слова «дух» и «духовный».
Но эти три текста, если прочитать их внимательно, помогут нам расчистить вязкую грязь словесной неточности. Они описывают три начала: начало творения, начало спасения и начало церкви: святое творение, святое спасение и святое сообщество.
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».
Всё начинает Бог. И начинает Он с того, что творит. С этого акта творения начинается всё существующее, видимое и невидимое, «небо и земля». В результате из всего не-творения или анти-творения – то есть из всего «безвидного и пустого» и не имеющего света (из «тьмы над бездною») получается нечто имеющее форму и содержание и наполненное светом. Не-творение или пред-творение уподоблены волнам океана, тёмного и глубокого, бесформенного, анархического, дикого, непредсказуемого, сеющего смерть.
Бог дует или дышит над этими водами. Его дыхание есть жизнь и порождает жизнь. Мы видим, как ветер движется над этими неуправляемыми волнами, тёмными и смертельно опасными, как Бог вдыхает жизнь в эту не-жизнь, в эту анти-жизнь.
А затем это Божье дыхание, которое уже не является просто невнятным дуновением, начинает производить слова. То же дыхание/дух, благодаря которому появился ветер, теперь порождает язык. Сначала мы видим эффект Божьего дыхания над водами, а затем слышим, как это дыхание складывается в слова: «И сказал Бог…» В этом коротком отрывке Бог говорит восемь раз. Эти восемь предложений умещают в себя всё существующее, охватывают всю вселенную. «Творение» включает в себя всё, что есть на небе и на земле.
Но это ещё не всё. Божий Дух, витавший над бездной вод «в начале», продолжает двигаться, продолжает творить. Книга Бытие не только рассказывает о начале нашего мира, но и свидетельствует о том, что Божий Дух продолжает творить и сейчас. В Библии глагол «творить» используется исключительно по отношению к творящему Богу. Люди и ангелы ничего не творят. Творит только Бог. Однако чаще всего этот глагол встречается вовсе не в повествовании о том, как появились небо и земля, а в рассказе о пророческой и пасторской миссии во время Вавилонского пленения в VI веке до Р. Х. Тогда еврейский народ потерял буквально всё: свою государственность, свой храм, свои дома и хозяйство. Их насильно увели по пустыне за сотни километров, и теперь они были вынуждены кое-как выживать в чужой стране. У них не осталось ничего. У них отобрали не только имущество, но и главную их сущность: осознание себя как Божьего народа. Их лишили привычных корней и зашвырнули в незнакомую страну, кишащую идолопоклонством. Но именно здесь, в этих условиях, они услышали глагол «творить» из книги Бытие совершенно в неожиданном и новом контексте.
В Библии слово «творить» (и «Творец») чаще всего встречается в проповедях Исаии, звучавших во время Вавилонского пленения: если в рассказе о сотворении оно употребляется всего шесть раз, то у Исаии мы встречаем его целых семнадцать раз. В Вавилоне в VI веке до Р. Х. Божий Дух точно так же сотворил жизнь из ничего, как в тот первый раз, когда витал над бесформенными водами «тьмы над бездною». В пророчествах Исаии мы снова и снова видим, как Дух-Творец создает и пригодные для жизни структуры, и человеческие жизни, способные жить в этой структуре здесь и сейчас. Слово «творить» описывает не только былые деяния Духа; оно описывает то, чем Дух занят сейчас. Творение – не безликая среда, а дышащий личностью дом – дом, в котором мы живём. И во время Вавилонского пленения Исаии удалось перенести каждую подробность рассказа о сотворении в нынешнюю жизнь, когда мы чувствуем себя такими недосотворёнными, бесформенными, неприспособленными к жизни в этом мире. Думая о Духе и Его акте творения, мы уже не спрашиваем только о былых событиях: «Когда всё это было? Как всё это было?» Мы спрашиваем: «Как я могу принять в этом участие? Где моё место во всём этом?» И молимся: «Сотвори во мне…» (Пс. 50:10).
«И было в те дни, пришёл Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».
Перед нами ещё одно, второе начало: Иисус принимает крещение, и Бог называет его Своим «возлюбленным Сыном».
В книге Бытие мы видим космологию, историю происхождения мира, когда Бог Своим дыханием придал водному хаосу форму, вдохнул в него полноту и свет, произведя из не-жизни всю жизнь, органическую и неорганическую. В Евангелии от Марка мы видим местную речку с конкретным названием, в которой Иисус принимает крещение: сначала Его погружают под воду, а потом поднимают из неё. Крещение – это повторение сотворения. Когда Иисус поднимается из воды, Бог вдыхает в Него Свою жизнь. На этот раз Божье дыхание даже принимает видимую форму – вид голубя, спускающегося с небес.
Спускающийся на Иисуса голубь визуально связывает этот эпизод с Быт. 1. Глагол, описывающий, как Дух Божий «носился (merachepheth) над водою», можно перевести также как «витать» или «парить». Он встречается во Втор. 32:11, где речь идёт об орле, заботливо «носящемся» над своими птенцами[10]. Этот образ птицы – парящего орла из книги Бытие и спускающегося с неба голубя у Марка – помогает нам представить себе Божьего Духа.
В книге Бытие мы сначала видим Божье дыхание, а потом слышим его в речи («Да будет…»); то же самое происходит и в Евангелии от Марка: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мк. 1:11).
Между событиями первой главы книги Бытие и приходом Иисуса много всего произошло. Творение, возникшее благодаря живоносному Божьему дыханию, успело довольно серьёзно поистрепаться. В нём прочно утвердилась смерть – смерть как анти-творение, как отрицание и уничтожение жизни, как враг жизни. В смерти нет энергии, нет движения, нет слов. Однако за смертью никогда не остаётся последнее слово. Жизнь – движимая и вдохновляемая Божьим дыханием и словом – всегда продолжает пробиваться наверх, выживать и временами даже процветать. С проникновением смерти в творение в языке появилось великое множество слов для обозначения всевозможных её форм: «грех», «бунт», «беззаконие», «нечестие» и так далее. Библия разворачивает перед нами подробный рассказ о том, как жизнь то и дело подвергается нападкам смерти, но неизменно выживает и преодолевает смерть благодаря тому, что Бог постоянно, как прежде и по-новому, вдыхает жизнь в это стенающее от смерти творение, в измученных смертью людей. И в этом рассказе постепенно проступает сложный сюжет о том, как Бог сотворил путь жизни из этого хаоса и несчастья, как Бог противостоит смерти, как Бог вдыхает жизнь в творение и во всех живущих, и как Его жизнетворное дыхание снова и снова обретает звук в языке. Словарь жизни противостоит словарю смерти и превозмогает его: «любовь» и «надежда», «послушание» и «вера», «спасение» и «обетование», «благодать» и «хвала». Слова, снова и снова восклицающие «аллилуйя» и «аминь».
И теперь тот же Божий Дух, Который столь щедро провозгласил к жизни всё существующее, придав форму бесформенности, бездне и тьме и сотворив «на небе и земле» все звёзды и растения, всех животных, рыб и птиц, мужчину и женщину, – тот же Божий Дух спускается на Иисуса, Которому поручено провозгласить спасение нашему несчастному миру, изъеденному грехом и искалеченному смертью.
С этого самого момента Иисус, исполненный Божьим дыханием жизни и благословенный Богом, начинает вершить окончательное спасение от смерти.
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
Перед нами – ещё одно, третье начало: Бог дышит на собравшихся вместе учеников Иисуса и создаёт из этих ста двадцати человек святое сообщество, церковь.
В день Своего вознесения на небо Иисус сказал апостолам, что Бог вдохнёт в них жизнь – точно так же, как при сотворении Он вдохнул жизнь в небо и землю и как вдохнул благословение в Иисуса в момент Его крещения, подтверждая, что именно в Нём будет завершено дело спасения. И когда Бог таким образом вдохнёт в них жизнь – или, по словам Иисуса, когда они будут «крещены Святым Духом» (Деян. 1:5), – они обретут энергию и силу для того, чтобы продолжать боговдохновенное творение неба и земли и боговдохновенное крещение Иисуса. Иисус дал им новое наименование: «Мои свидетели».
Они поверили в Его обещание. Они рассказали об этом другим ученикам Иисуса, и вскоре их было уже сто двадцать: сто двадцать человек, ожидающих, что Бог вдохнёт в них боговдохновенное творение неба и земли и боговдохновенное крещение Иисуса. Они ждали десять дней. Когда же это наконец произошло (а это действительно произошло), их ожидали немалые сюрпризы. Тесная связь с тем, как Бог вдыхал жизнь в Своё творение и вдыхал благословение в Иисуса, была налицо, но одновременно всё как бы усилилось: святое дыхание превратилось в святой ветер, «несущийся сильный ветер» (Деян. 2:2), и наполнило всё то место, где они собрались (ст. 2). Вскоре этот ветер наполнил их самих (ст. 4). И как будто одного этого было недостаточно, добавилось третье знамение, огненные языки. Для собравшихся в тот день учеников огонь – обычно огонь жертвенника – был прочно связан с Божьим присутствием: со всесожжением, принесённым Авраамом в земле Мориа, с огнём на жертвеннике скинии при Аароне, с пламенем на горе Кармель при пророке Илии. Но здесь всё тоже было усилено: огонь был разделён и распределён на всех – каждый лично был запечатлен языком огня, каждый лично стал жертвенником, зримо и явственно пылающим огнём Божьего присутствия. Дыхание творения и крещения Иисуса переросло в сильный ветер, а прежнее пламя жертвенника разрослось в отделяющиеся языки огня, пылающие над каждым из ожидавших мужчин и женщин, так что каждый из них сам стал знамением живого и присутствующего среди нас Бога.
А затем, повторяя то, что уже произошло при сотворении и во время крещения Иисуса, это дыхание/ветер – то есть живое присутствие Бога, наполнившее их собою, – сформировалось в слова, которые произносил каждый из них. Огненные языки обрели звук в языках человеческой речи. Божье дыхание, оформившееся в речь, вырывалось из уст мужчин и женщин, говоривших на всех языках (в тексте их перечислено шестнадцать), представленных в тот день в Иерусалиме, и все они по большому счету говорили об одном и том же, «о великих делах Божьих» (ст. 11).
Конечно же, все были ошеломлены. И первым, что привлекло всеобщее внимание, было именно чудо языков – эта явно вдохновлённая Богом и свидетельствующая о Боге речь на (как минимум) шестнадцати языках, раздающаяся из уст обыкновенных мужчин и женщин («галилеян», то есть провинциалов, которые никак не могли знать больше одного-двух языков). Вавилонское смешение языков (Быт. 11) было преодолено и развёрнуто вспять. И это продолжающееся чудо, которое не переставало поражать людей, было тем самым Божьим дыханием (жизнью), что когда-то сотворило небо и землю, благословило Иисуса и наделило Его силой, а теперь наполняло обычных мужчин и женщин и превращалось в слова, свидетельствующие о великих делах Бога в творении и в спасении, совершённом через Иисуса.
Эти три текста похожи на треножник, укореняющий все аспекты жизни – творение, спасение, сообщество – в живом (дышащем) Боге. Только живой Бог творит жизнь. Только Божий Дух наделяет духом. Божий Дух не играет второстепенную роль в основном действии; Он и есть это самое основное действие. Дух объемлет собой всё. Эти три текста также показывают, что в творении, спасении и продолжении жизни всегда участвует язык.
В христианской традиции Дух и Слово органически связаны друг с другом. Они не просто дополняют друг друга или родственны друг другу; они представляют собой разные грани одной и той же сущности. Время от времени люди пытаются сконструировать духовность без слов, где молчание является главной целью. Да, в большинстве религий или духовности действительно слишком много разговоров. Но эти три текста авторитетно утверждают: рано или поздно что-то всё равно обязательно говорится, и именно посредством произносимого слова реальность обретает бытие.
Четыре библейских термина
Для того чтобы качественно исследовать природу и динамику христианской жизни (а значит, христианской духовности), нам понадобится четыре термина. Они действуют не поодиночке, а вместе, как квартет, и все четыре нужны нам одновременно, даже если время от времени один из них будет выходить на первый план. Подлинная значимость каждого из них складывается не только из значения этого самого термина, но и из того, как он функционирует в связи со всеми остальными. Вот этот квартет: «духовность», «Иисус», «душа» и «страх Господень». «Духовность» подчёркивает всеобъемлющий характер происходящего и включает в себя всё, что имеют в виду люди, когда говорят или думают о значимости своей жизни, а также о Боге, о мире и о личном смысле своего существования. «Иисус» даёт нам конкретный фокус. «Душа» выражает нашу человеческую индивидуальность. «Страх Господень» задаёт настроение и ритм, благодаря которому все четыре термина могут действовать вместе и двигаться в одном темпе.
В этих четырёх терминах нет ничего эзотерического или непонятного; все они являются частью обычной речи, и их вполне можно услышать в ближайшем кафе, в парикмахерской или на семейном празднике. Правда, употребляют их по-разному, достаточно небрежно – и чаще всего совсем не в том смысле, какой они имеют изначально. Так что, поскольку эти термины лежат в основе этой книги, будет полезно сначала подумать о том, как они звучат и какие ассоциации связаны с ними в христианской жизни – то есть в том естественном контексте, откуда они родом.
Если забросить невод «духовности» в море современной культуры, в нём окажется великое множество духовных рыб – пожалуй, не меньше, чем во время чудесного улова «больших рыб» в Ин. 21:11. В наше время для предпринимателей «духовность» превратилась в крупный бизнес, для тех, кому скучно, – в ещё один способ развлечения, а для остальных (много их или мало, сказать трудно) – в серьёзное и дисциплинированное решение жить по-настоящему полноценной и глубокой жизнью по отношению к Богу.
Если раньше слово «духовность» использовалось исключительно в традиционных религиозных контекстах, сейчас его употребляют почти без разбора самые разные люди в самых разных обстоятельствах, придавая ему самые разные смыслы. Когда-то это слово было чистым и высоким, но теперь его притащили в грязноватый и грубый мир рынка и развлечений. Многих это огорчает, но мне кажется, причитать по этому поводу не стоит. Нам действительно нужно именно такое слово.
Все попытки застолбить это слово исключительно для христианского или другого религиозного употребления обычно начинаются с того, что ему дают определение. Но все подобные попытки определить «духовность» – а их, поверьте, немало – оказываются тщетными. Это слово не поддаётся жёсткой дисциплине словаря. Но его полезность и употребительность в современной культуре состоит как раз не в его точности, а в том, что им называется нечто такое, что трудно определить, но легко узнать: трансцендентность, которая одновременно так или иначе переплетена с близостью. Трансцендентность – это ощущение присутствия в жизни чего-то большего, чем я сам, чем моя зарплата, уровень холестерина в крови и то, что думают обо мне жена и дети. Близость – это ощущение, что глубоко внутри меня есть некая сердцевина, нечто такое, что недоступно ни врачам, ни психологам, ни социологическим опросам, ни рекламным стратегиям. И даже если слово «духовность» не обладает особой точностью, тем не менее оно обозначает всё, что усматривает и признаёт эту органическую связь с чем-то Запредельным и чем-то Внутренним, глубинным, которые являются частью опыта каждого человека. Нам действительно необходим такой общий термин, который собирал бы в один невод всё, что указывает на Запредельное и Внутреннее, и этим всеобъемлющим термином остаётся «духовность».
Исторически слово «духовность» появилось в словарях сравнительно поздно и лишь недавно вошло в повседневную обиходную речь. Говоря о «духовном» (pneumatikos), апостол Павел имеет в виду поступки или настроения, связанные с действием Святого Духа во всех христианах[11]. Лишь много позднее, в средневековой церкви – и особенно в контексте монашества – это слово стало обозначать образ жизни некой христианской «элиты», стремящейся жить согласно вере на более высоком уровне, нежели обычные христиане. Жизнь «духовных» христиан (в основном, монахов и монахинь, давших обеты целомудрия, бедности и послушания) составляла резкий контраст с пёстрой и путаной жизнью обычных людей, которые женились и выходили замуж, рожали детей и не гнушались грязной работы в полях и на рынках в мире, где «торговли яд, труда тупого смрад и пот забот во всём»[12]. Тогда словом «духовность» стали обозначать науку и практику безупречной жизни перед Богом, исключительной и образцовой святости христианской жизни; оно превратилось в специализированный термин, относящийся лишь к очень небольшой группе людей и потому не употребляющийся в обиходной речи.
В повседневный язык оно вошло в каком-то смысле через чёрный ход. В семнадцатом веке во Франции среди католиков-мирян возникло движение, провозглашавшее радикальную по тем временам мысль: настоящей христианской жизнью можно жить не только в монастыре. Сторонники этого движения утверждали, что обычный христианин способен жить по-христиански точно так же, как любой монах или монахиня, – и ничуть не хуже! Мадам Жанну Гийон и Мигеля де Молиноса, выступавших от имени движения, официальная церковь объявила еретиками, назвав их верования «квиетизмом». Глядя на квиетистов свысока, религиозный истеблишмент стал употреблять термин la spiritualité как уничижительный по отношению к мирянам, слишком ревностно практикующим свою веру, высокомерно отмахиваясь от этих христиан-выскочек, которые не понимают, что делают, о чём пишут и что практикуют. Считалось, что некоторые вещи лучше оставлять в руках специалистов. Однако пытаться заставить этих мирян замолчать было уже поздно: их секрет успел стать всеобщим достоянием.
Надо сказать, что уничижительный оттенок слова «духовность» исчез довольно быстро. В протестантской среде серьёзное отношение к вере среди рядовых христиан называлось по-разному: пуритане называли его «благочестием», методисты – «совершенством», а лютеране – «пиетизмом». Сейчас «духовность», этот общий, несколько неопределённый, но всеобъемлющий термин, покрывает великое множество понятий и используется в общем и целом в одобрительном смысле. Сегодня духовным может быть любой.
Интересно отметить, что некоторые нынешние «специалисты» в сфере религии снова начали употреблять этот термин с пренебрежительным оттенком. Поскольку сейчас это модное слово используется в самом широком смысле и самыми разными людьми, некоторые авторитетные профессионалы считают этих людей невежественными и недисциплинированными и относятся к популярным формам духовности свысока, считая их досадными заблуждениями.
В центре всей серьёзной духовности стоит жизнь, умение жить полноценной, качественной жизнью. В трёх основных библейских языках (древнееврейском, древнегреческом и латинском) слово «дух» имеет корневое значение «дыхание» и легко становится метафорой для всей жизни. Это слово является ключевым в тех двух историях (о Никодиме и самарянке) и трёх текстах (из книги Бытие, Евангелия от Марка и Деяний апостолов), которые задают тон нашему разговору. В каждом случае «дух» – это Божий Дух: Бог живой, Бог творящий, Бог спасающий, Бог благословляющий. Бог живёт и даёт жизнь. Бог живёт, и из Него изливается жизнь. Бог живёт и пронизывает Собой весь наш опыт – всё, что мы видим, слышим, осязаем и чувствуем на вкус.
В данный момент истории слово «духовность» стало основным термином для обозначения этой обширной и сложной сети жизни, этой «живости». Может быть, это не самый удачный термин, но другого у нас пока нет. Главный его минус состоит в том, что (по крайней мере, в английском языке) слово «духовность» превратилось в нечто абстрактное, хотя метафора «дыхания» в нём всё же угадывается. И эта абстракция нередко затемняет изначальный смысл, стоящий за словом «духовность»: живой Бог, присутствующий и действующий среди нас.
Проблема состоит в том, что в современной культуре это слово по большому счёту утратило религиозный смысл и в результате стало обозначать просто «жизненную силу», «сфокусированную энергию», «скрытые источники полноты жизни» или «бодрость, исходящую изнутри». Для большинства людей духовность никак не связана с жизнью с Богом, с Божьим Духом, с Христовым Духом, со Святым Духом. Чем более секуляризованным становится это слово, тем больше оно утрачивает свою полезность. Тем не менее другого у нас нет, и потому, как и другие обескровленные до неузнаваемости слова (например, «супружество», «любовь», «грех» и т. п.), оно нуждается в постоянной реабилитации. Я сам взял за правило использовать его как можно реже, следуя примеру Писания, которое всячески избегает любых абстракций, и предпочитаю обращаться к историям и метафорам, позволяющим нам погрузиться в реальность того, о чём идёт речь, стать её участниками.
Абстрактная неопределённость этого слова легко становится удобным прикрытием для идолопоклонства. Во всех нас живёт склонность к идолопоклонству – то есть к стремлению свести Бога к концепции или объекту, которые мы можем использовать в своих интересах. И поскольку сейчас слово «духовность» в общем и целом ассоциируется с искренностью и стремлением ко всему доброму, нередко оно быстро и незаметно обрастает идолопоклонническими, потребительскими мотивами и утягивает нас в весьма нездоровый и вредный образ жизни и мышления.
С поверхностными заблуждениями разобраться достаточно просто. Не надо думать, что духовность неважна, поскольку нематериальна; что она никак не проявляется внешне, раз носит внутренний характер; что у духовности нет видимых эффектов, раз она невидима. Всё ровно наоборот: духовность очень тесно связана с материальным, внешним, зримым миром. На самом деле суть духовности в том, чтобы обозначать живое по контрасту с мёртвым. Когда в ком-то или в чём-то, будь то человек, предмет, традиция или институт, не остаётся жизни, мы быстро это чувствуем и в конечном счёте начинаем замечать (даже если далеко не сразу). Вот почему мы ищем какое-то общее слово, какую-то универсальную категорию, куда можно запихать все открытия, образы и желания, для которых у нас нет точного названия. Для этих целей ярлык «духовности» подойдёт не хуже любого другого.
Такое повсеместное и неразборчивое употребление слова «духовность» вполне понятно в обществе, где человека постоянно обезличивают, психологизируют и низводят до уровня функции. Уникальность каждой конкретной жизни сводится к редукционистским абстракциям. Жизнь вытекает из нас, словно вода из прохудившейся трубы, когда в нас видят исключительно имидж, роли, объекты, товары, экономический потенциал, человеческий капитал или потребительский рынок. И хотя в результате этих многообразных редукций повседневная жизнь становится намного проще и легче, что-то внутри нас противится и восстаёт против них – пусть даже не всегда, а время от времени. Большинство из нас хотя бы иногда ощущает, что есть нечто большее, нечто гораздо большее, и мы ищем слово, любое слово, чтобы назвать то, чего нам не хватает.
Но если мы всё-таки будем использовать термин «духовность» (а я не вижу, как мы можем его избежать), нам придётся делать это со всей внимательностью, не теряя бдительности. Бдительность – это умение распознавать признаки того, что духовность теряет своё основное качество, обездуховляется; это умение вовремя видеть и называть то великое множество способов, с помощью которых дьявол соблазняет нас стать «как боги» (Быт. 3:5). Чтобы сохранять эту бдительность, нам нужно прежде всего постоянно и с усердием читать Священное Писание.
Внимательность же – это умение видеть многообразные и неимоверно щедрые проявления того, как Бог даёт жизнь, обновляет жизнь и благословляет жизнь; это умение замечать и настойчиво утверждать, что всё в этом творении может наполниться жизнью. Чтобы подпитывать эту внимательность, нам нужны совместное поклонение и личная молитва.
Я вполне готов трудиться на этом поле духовности, употребляя в дело всё, что мне предлагается, каким бы расплывчатым и смутным оно ни было. Но мне также хочется придать духовности как можно больше ясности и определённости, утверждая, что жизнь – вся жизнь! – всегда берёт своё начало в Боге, продолжается благодаря Богу и несёт в себе Божье благословение: «Буду ходить пред лицом Господним на земле живых» (Пс. 114:8).
Если полезность термина «духовность» состоит в том, что он, оставаясь неопределённым, указывает на всё, что Больше, Выше и Глубже нас самих, слово «Иисус» полезно потому, что собирает всю эту рассеянную расплывчатость в чёткий, ясный, исполненный света фокус, так как в христианском понимании жизни нет ничего неопределённого (хотя двойственности в ней хватает!). Здесь духовность никогда не рассматривается как нечто самостоятельное и отдельное. Это всегда действие Бога, благодаря которому все люди вовлекаются в жизнь Бога и участвуют в ней, либо становясь Его друзьями, либо восставая против Него.
Христианское сообщество интересуется духовностью, поскольку интересуется жизнью. Мы относимся к духовности с пристальным вниманием, потому что по опыту давно знаем, как легко увлечься идеями о Боге и проектами ради Бога, но при этом постепенно терять интерес к Самому живому Богу, омертвляя свою жизнь этими самыми идеями и проектами. Такое происходит сплошь и рядом. Если на идеи и проекты наклеить имя Бога, легко подумать, что имеешь дело с Самим Богом. Дьявол как раз и стремится заставить нас ревностно трудиться ради Бога и думать о Боге, чтобы потом тихо и незаметно увести нас прочь от личного послушания и личного поклонения, заменив Бога нашим собственным «я», раздувшимся до сверхъестественных размеров.
Имя Иисуса помогает нам удерживать внимание на той жизни, которую открыл нам и определил для нас Сам Бог. Благодаря имени Иисуса у той бесформенной расплывчатости, с которой так часто ассоциируется духовность, появляется крепкий скелет, жилы, мышцы, форма и энергия. Иисус – это личное имя человека, жившего в конкретное время в конкретной стране, где есть горы, на которые можно взобраться, полевые цветы, которые можно сфотографировать, города, где и сейчас можно купить смоквы и гранаты, и вода, которую можно пить и в которой можно креститься. И это имя противостоит всякой неопределённости, от которой нередко страдает духовность.
Иисус – это центральная и определяющая фигура в духовной жизни. Его жизнь является не чем иным, как откровением. Он показывает нам то, о чём мы ни за что и никогда не смогли бы догадаться сами, даже за миллион лет. Он есть Бог среди нас: Бог говорящий, действующий, исцеляющий, помогающий. Всё это можно обозначить одним общим словом: «спасение». Имя «Иисус» означает «Бог спасает»: Бог присутствует и действует в нашем языке и в нашей истории.
Опираясь на обширный контекст, оставленный израильскими пророками и поэтами, четыре евангелиста рассказывают нам всё, что необходимо знать об Иисусе. А Иисус рассказывает нам всё, что необходимо знать о Боге. Когда мы читаем Евангелия, изучаем их, верим в них и молимся вместе с ними, перед нами открывается всё Писание и вся духовная жизнь, обретая фокус в притягательном и щедром присутствии Иисуса из Назарета – Божьего Слова, ставшего плотью.
Но хотя евангелисты показывают Иисуса в совершенно обычном, земном контексте, похожем на наши собственные города и сёла, и говорят о нём привычным нам языком, на каком мы разговариваем на работе, в магазине и дома, при этом они не спешат удовлетворять наше любопытство: есть очень много такого, чего они нам не рассказывают. Нам хотелось бы знать гораздо больше, и нашему воображению не терпится заполнить повествование конкретными подробностями. Как Иисус выглядел? Каким было Его детство? Как относились к Нему друзья? Что Он делал все те годы в плотницкой мастерской?
Неудивительно, что довольно быстро появились авторы, более чем готовые удовлетворить любопытство читателей и рассказать, каким Иисус был на самом деле. Таких авторов полно и сейчас. Однако на поверку любые «жизнеописания» Иисуса – попытки воссоздать жизнь Иисуса со всеми Его детскими взаимоотношениями, эмоциональным откликом на события, слухами и сплетнями со стороны соседей, а также социальными, культурными и политическими подробностями Его окружения – вызывают у нас только разочарование. Мы получаем не Иисуса, который являет нам Бога, а Иисуса, который воплощает собой некий идеал автора или оправдывает ту или иную его идею. Закрывая прочитанную книгу, мы понимаем, что в результате знаем Иисуса не лучше, а хуже.
Это нетерпеливое стремление узнать об Иисусе больше, чем о Нём написано в канонических Евангелиях, заявило о себе уже в начале второго века. Первые авторы, попытавшиеся заполнить «пробелы» в евангельских повествованиях, обладали ярким воображением, но не особо заботились о достоверности: они забыли сообщить нам, что все эти дополнительные и весьма занимательные подробности являются плодом их личного домысла. Некоторые из них писали под апостольскими псевдонимами, чтобы придать своим выдумкам авторитетность. Другие заявляли, что их писания вдохновлены Самим Святым Духом. Однако Церкви довольно быстро надоели все эти художественные домыслы и творческие дополнения жизни Иисуса, и она решила положить им конец. Было принято решение: последним и окончательным словом об Иисусе являются Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Эта тема была закрыта раз и навсегда.
Однако, вопреки утверждениям некоторых, этот запрет на изобретение новых историй о жизни и учении Иисуса не имел репрессивного характера. В результате воображению открылось иное, вполне законное и продуктивное русло: вместе с Марией, матерью Иисуса, мы начали учиться размышлять об Иисусе в своём сердце (Лк. 2:19, 51), размышлять о себе в присутствии Иисуса, каким Его представили нам евангелисты, или размышлять о других местах и контекстах, в которых мы встречаем Иисуса и либо снова распинаем Его, либо снова решаем в Него уверовать. С тех пор именно этим мы и занимаемся, когда проповедуем и изучаем вместе Библию, когда пишем рассказы и стихи, когда отправляемся в паломничества и уезжаем на ретриты молчания, когда поём гимны и молимся, когда совершаем дела послушания и служения во имя Иисуса.
Во всём нам важно с почтением относиться к сдержанности евангелистов. Духовность не становится лучше от фантазий, и христианская жизнь – не место для набожных грёз.
Принимая Иисуса как окончательное и авторитетное самооткровение Бога, христианская церковь не позволяет нам безнаказанно придумывать собственные версии духовной жизни – хотя, признаться, это не особенно нас останавливает. Но у нас не получится ни обойти Иисуса, ни уйти от Него: Иисус – это воплощение Бога, Бог среди нас и Бог с нами. В Иисусе собраны все слова Бога, которые Он когда-либо говорил Своему народу и через Свой народ и которые даны нам в Священном Писании. Иисус говорил их лично нам. Он совершал Божье дело исцеления и сострадания, прощения и спасения, любви и жертвенности среди нас, мужчин и женщин с конкретными именами и уникальными биографиями. Поскольку Иисус родился в Вифлееме, вырос в Назарете, собрал учеников в Галилее, поклонялся в местных синагогах, обедал в Вифании, был на свадьбе в Кане, рассказывал притчи в Иерихоне, молился в Гефсимании, возглавлял шествие по Масличной горе, учил в храме в Иерусалиме, был убит на Голгофском холме, а через три дня ужинал с Клеопой и его другом в Эммаусе, мы не вправе изобретать собственную приватную духовность: мы слишком много знаем о Его жизни, о Его духовности. Рассказ об Иисусе открывает перед нами сотни конкретных событий и слов, связанных с конкретными именами, местами и даже датами, и все они сплетены воедино и дополняют друг друга, образуя стройное, последовательное откровение того, какой Он, Бог, как Он действует и что говорит. Иисус не даёт нам думать, что главное в жизни – идеи и концепции для осмысления и обсуждения. Он не даёт нам отвлекаться на тривиальности и растрачивать жизнь в погоне за дешёвыми ощущениями. Он даёт нам возможность со всей серьёзностью отнестись к тому, кто мы такие и где находимся; побуждает нас не поддаваться на витающие в воздухе иллюзии и пугающую нас ложь и помнить, что нам вовсе не нужно быть кем-то другим и находиться в каком-то другом месте. Иисус не даёт нам утратить почву под ногами, призывает нас со вниманием относиться к детям, разговаривать с обычными людьми, преломлять хлеб с друзьями и незнакомцами, прислушиваться к ветру, присматриваться к полевым цветам, прикасаться к больным и раненым, молиться просто и естественно. Иисус настаивает на том, чтобы мы обращались к Богу здесь и сейчас, там, где мы есть, и посреди тех людей, которые находятся сейчас рядом с нами. Иисус и есть Бог, здесь и сейчас.
Учение о том, что Иисус реально и фактически является Богом среди нас, лежит в самой основе христианской веры. Это трудно принять и трудно даже вообразить, но христиане действительно в это верят. Всё сложное и многогранное дело спасения «прежде создания мира» (Еф. 1:4) собрано и завершено в Его рождении, жизни, смерти и воскресении – чуде совершенно потрясающего, беспрецедентного масштаба. Мы принимаем всё это, когда вслед за апостолом Павлом добавляем титул «Христос» к имени Иисуса и называем его Христом Иисусом. Христос – это Божий помазанник; Бог среди нас, пришедший спасти нас от греха; Бог, говорящий с нами на языке, который мы усвоили с молоком матери; Бог, воскрешающий нас из мёртвых к реальной вечной жизни.
Можно подумать, что самое трудное – это поверить в то, что Иисус действительно есть Бог среди нас. Но это не так. Как выясняется, нам гораздо труднее поверить в то, что Божье дело – всё это ослепительное творение, невероятное спасение, нескончаемые потоки благословений – совершается в контексте и в условиях обычной человеческой жизни: во время пикников и за семейным ужином, в разговорах по дороге, в недоумённых вопросах и незамысловатых историях, на свадьбах и на похоронах, в слепых попрошайках и покрытых гнойными язвами прокажённых. Всё, что говорит и делает Иисус, происходит в рамках и ограничениях нашей человеческой природы. Никаких спецэффектов и фейерверков. Да, в этой истории есть чудеса и их немало, но большинство из них так тесно вплетены в ткань повседневной жизни, что их мало кто замечает. Чудесность чуда заслоняется привычностью обстановки и обычностью участвующих в нём людей.
Таким Он остаётся и сейчас – Иисус, Бог среди нас. И нам до сих пор трудно в это поверить. Нам трудно поверить, что чудесное дело спасения прямо сейчас вершится в нашем районе, в наших семьях, в правительстве нашей страны, в наших школах, предприятиях и больницах, на городских улицах и в офисных коридорах, среди знакомых нам людей. Когда Иисус жил среди нас во плоти, Его обычность очень мешала людям верить в то, кто Он такой и что делает. Мешает она нам и сейчас.
Св. Иоанн рассказывает, как люди, оказавшиеся в капернаумской синагоге в тот день, когда Иисус обратился к ним с совершенно поразительным, невероятно мощным словом – предлагая им Своё тело и кровь в пищу и питие для вечной жизни, – не поверили Ему, потому что сочли Его слишком непримечательным: «Как может этот [αὐτοῦ] дать нам есть свою плоть?» (Ин. 6:52). Если вспомнить, как они возмутились в ответ на невероятные слова Иисуса («Я есмь хлеб, сшедший с небес», 6:41), указав ему, что Он всего лишь человек («не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем?», 6:42), их пренебрежительное «этот» явно означает «этот ничтожный выскочка». Как раз здесь многие из учеников Иисуса перестают Ему верить: в их голове чудеса и проповедь никак не совмещались с непримечательным «этим», стоящим перед ними. Их риторический вопрос: «Кто может это слушать?» – явно предполагал отрицательный ответ: «Никто».
Иисус озвучивает их невысказанные мысли: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит; плоть не пользует нимало» (Ин. 6:61–63). Иными словами: «Что вас смущает? Если бы вы здесь и сейчас увидели, как Я поднимаюсь в воздух, прямо на небеса, вы бы поверили Моим словам? Наверное, да. Но только жизнь вам даёт вовсе не плоть, не поразительные чудеса, а дух, похожий на невидимый ветер». Он снова говорит о духе. Это ключевое слово из историй о Никодиме и самарянке означает тихое, часто скрытое для глаз действие, посредством которого Бог совершает среди нас Своё спасение.
Но на слушателей Иисуса это не производит никакого впечатления. Они уходят прочь и больше не следуют за Ним: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (6:66). Почему? Потому что Иисус явно был человеком – совершенно обычным, нехаризматичным, неромантичным, обыденным. Обращаясь к двенадцати, Иисус спрашивает, не собираются ли они тоже оставить Его, и св. Иоанн записывает для нас замечательный ответ св. Петра: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни… Ты Христос, Сын Бога живого» (6:68–69). Пётр достиг такого состояния, к которому должны прийти мы все, если собираемся и дальше следовать за Иисусом: он не навязывает Иисусу свои амбиции или представления о том, как должен действовать Бог; он готов позволить Иисусу оставаться человеком и действовать так, как Тот считает нужным.
Постоянной угрозой для подлинной, честной и истинной жизни остаётся искушение увильнуть от «этого» Иисуса, обойти Его обычную человеческую природу, как-то избежать Его ничем не примечательных спутников и либо самонадеянно попробовать стать богом самим себе, либо состряпать себе куда более приличного, гламурного бога или богов, которые льстили бы нашему тщеславию[13]. Большинство из нас тратят очень много времени и сил на то, чтобы либо быть богами, либо творить себе богов. Но Иисус не даёт нам этого делать. Его Самого явно придумали не мы, и Он точно не из тех богов, которые будут пользоваться всеобщей популярностью.
Когда мы начинаем смотреть на себя и на тех, с кем работаем, «согласно Писанию», выясняется, что главное в нас – это то, что каждый из нас является человеком, состоящим во взаимоотношениях. Каждый человек – это уникальное создание, сотворённое «по образу Божьему». Помимо всего прочего, эта фраза означает, что каждый человек обладает невероятным достоинством и изначально предназначен для взаимоотношений.
Всё это мы будем описывать словом «душа»[14]. Это самый личный из всех имеющихся у нас терминов для обозначения того, кто мы такие. Слово «душа» утверждает целостность, совокупность всего, что значит быть человеком. Оно не даёт нам свести человеческую жизнь к биологии и гениталиям, к культуре и утилитарности, к расовой и этнической принадлежности. Оно указывает на глубинную сущность, которая пронизывает всё внешнее; на то невидимое, которое живёт во всём видимом. В слове «душа» мы слышим отголоски Божьего творения, Божьей поддержки и Божьего благословения. Это самый ёмкий термин для обозначения внутреннего ядра, глубинной сущности человека.
В древнееврейском языке слово «душа» (нефеш) является метафорой для шеи. Шея – это довольно узкая часть человеческого тела, которая соединяет голову (отвечающую за разум и нервную систему) со всем остальным; иными словами, она буквально «скрепляет» нас воедино. Физически голова находится выше тела (по крайней мере, когда мы стоим), и поэтому иногда мы говорим о так называемых «высших» функциях (способности мыслить, видеть, слышать и ощущать на вкус) по контрасту с так называемыми «низшими» функциями пищеварения и экскреции, потоотделения и совокупления. Но даже если в человеческой жизни и есть высокие и низкие аспекты (в чём я лично очень сомневаюсь), они всё равно не могут существовать независимо друг от друга. И соединяет их шея. Внутри шеи содержится узкий проход, по которому воздух проходит ото рта к лёгким и обратно, выходя из нас в виде речи – дыхания, духа, жизни, которую вдохнул в нас Бог. Через шею пролегает вся нервная система, разветвляющаяся от мозга. И именно на шее десять-двенадцать сантиметров самой крупной и могучей яремной вены, несущей кровь всему организму, оказываются в опасной близости к поверхности тела. Душа, нефеш, соединяет всё это в одно целое. Без души мы были бы нагромождением несоединимых частей, сгустками протоплазмы. Библии не свойственна страсть современных людей всё препарировать и изучать, чтобы понять, как мы устроены. Писание смотрит на нас иначе; в нём передаётся идея сознательно сотворённой цельности. Древние евреи прекрасно умели подбирать уместные метафоры, и «душа» остаётся одной из самых удачных их находок. У неё немало синонимов – это и сердце, и почки, и чресла, так что с каждой новой метафорой ощущение глубины, чего-то внутреннего, сокровенного только усиливается. Но «душа» остаётся среди них главной и основной.
Термин «душа», как магнит, стягивает все аспекты нашей жизни воедино, в одно целое. Человек – это одно громадное целое, и «душа» подразумевает именно это[15]











