Читать онлайн Военная история казачества (вторая часть)
- Автор: Борис Александрович Алмазов
- Жанр: Историческая литература, Военное дело, Спецслужбы, Книги о войне
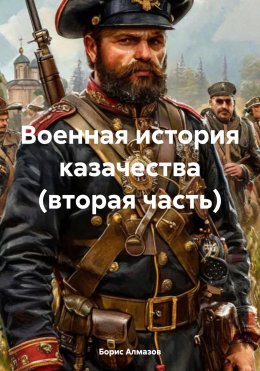
«Гроза двенадцатого года»
Грянул внезапно гром над Москвою….
Грянул внезапно гром над Москвою
Выступил с шумом Дон из брегов,
Все запылало мщеньем, войною,
Мщеньем, войною против врагов!
Припев:
Ай, донцы-молодцы! Ай, донцы-молодцы!
Ай, да донцы! Донцы-молодцы!
(Припев после каждого куплета исполняется дважды.)
Время! На коней! Враг наступает!
Вера святая к брани зовет!
Правому делу Бог помогает,
Бог помогает.... Донцы, вперед!
Страшен аркан наш, сабля ужасна —
Донского войска сила крепка!
Донского войска сила ужасна,
Донского войска пика метка!
Грянули чада Тихого Дона —
Мир изумился, враг задрожал!
Рушилась слава Наполеона,
Наполеона – враг побежал! И т.д.
( в некоторых песенниках указывается: «слова Шатрова»)
Это над Москвою гром грянул внезапно, а над казаками военный гром, вообще, никогда грохотать не переставал. Что же касается войн с французами, то с краткими перерывами они шли с 1798 года по 1815 год, вместив в себя и Швейцарский поход А.В. Суворова, и Аустерлиц и Бородино и, наконец, взятие Парижа. Мы, нынешние, как то не задумываемся , что это несколько войн, следовавших друг за другом, почти два десятилетия державшие армию и уж, во всяком случае, казаков в страшном напряжении. К длинному перечню войн, шедших в Европе, следует прибавить войны на Кавказе, которые, то затухая, то разгораясь, фактически, полыхали непрерывно. Кроме того, велись боевые действия, которые войнами то не считались, с горцами и степными кочевниками, буквально, висевшими на южных границах. Как то «забылось», что последний набег на Оренбург, имевший целью взятие рабов, произошел в 1861 году, то есть в год отмены крепостного права в России.
Что же касается «правильных, европейских войн», то для казаков они были одним нескончаемым походом и многолетней жизнью вдали от дома., в местах абсолютно чужих и по климату, и по ландшафту, и уж, само собой разумеется, по населению.
Но мы поведем разговор об Отечественной войне 1812 года, которая, по легенде, началась словами урядника Урюпинского (скорее всего это не фамилия, а станица откуда он был родом)
– Вашбродь! Хранцы в Расее! («Расеей» в данном случае считалась, территория Российской Империи, ныне независимая, Литва. Ставка же командования находилась Тильзите (Восточная Пруссия) ныне город Советск Калининградской области).После чего, «казачьим военным чиновником», то есть, офицером, ротмистром Рубашкиным, было отправлено донесение Графу Орлову – Денисову – командиру Лейб-гвардии Казачьего полка: «Французы огромными силами переправляются через Неман. Не будет ли Вашего приказания казакам, вверенной мне сотни, ополчиться и погнать их обратно?» Можно, конечно, посмеяться наивной самоуверенности казака. А можно и преклониться перед силою его духа и неколебимой уверенности в победе. Можно и припомнить, что через полгода именно казаки, (поскольку армия за отступающими французами не поспевала, и потери несла от мороза такие же – как и отступающие войска Наполеона), погнали супостата за Неман и дальше до Парижа, вынеся на своих плечах основную тяжесть этого нашествия.
Собственно, Отечественная война 1812 года началась 12 июня и 3 декабря закончилась фактической полной гибелью остатков «великой армии» на берегах Березины, то есть, менее 6-ти месяцев или ровно 25 недель (175 суток), а далее был Заграничный поход – война на чужой территории, в общем, такая – как те, что вела Россия и до 1812 года. Так вот, когда мы разделим эти войны и рассмотрим их события поэтапно, роль казаков нам станет яснее, и место казаков в Российской Империи точнее обозначится, поскольку и война 1812 года и Заграничный поход – важнейший этап в Российской истории, а для казаков – ворота в новое время и разительные перемены в судьбе.
Первыми, кого увидели солдаты и офицеры собранной со всей Европы великой армии императора французов Наполеона, вторгшейся в июне 1812 года на территорию России, были донские казаки из корпуса атамана Платова. Для очень многих из них казаки были последним, что довелось им увидеть в их трагически завершившихся жизнях. В первых же сражениях Отечественной войны 1812 года донские казаки, громя авангардные части наступающего противника, продемонстрировали высочайшее воинское искусство и нацеленность на победу. Они прикрывали отступление соединившихся русских армий Барклая-де-Толли и Багратиона, неся основную тяжесть арьергардных боев на пути от Смоленска к Бородину. В разгар Бородинского сражения лихая атака донских казаков Платова и Орлова-Денисова, обошедших с левого фланга и ударивших в тыл неприятелю, сорвала планы Наполеона разгромить русскую армию. Кутузов оставил поле Бородинской битвы и отступил, отдав французам Москву. Казаки вновь прикрывали отход русских армий. В то же самое время от Платова к остававшемуся на Дону наказному атаману Андриану Денисову пошло предписание ставить под ружье всех, кто способен его носить, и в 24 часа прямыми дорогами без отдыха отправлять к Москве. В поход поднялись все. К Тарутину, где находился лагерь русских войск, прибыли 26 полков казачьего ополчения. Помимо донских казаков, чье участие в этой войне было особенно заметным, было немало казаков украинских полков, башкирских, оренбургских и других, в том числе созданных по типу казачьих ополченческих полков Петербургской и других губерний.
В сражении на реке Чернишне у Тарутина б октября 1812 года донские и черноморские казаки под командованием графа Орлова-Денисова разгромили кавалерию маршала Мюрата. С этого момента началось контрнаступление русских армий. В одном из сражений казаки едва не пленили самого Наполеона, да увлеклись преследованием французского обоза – военные трофеи всегда были существенной частью казачьего бюджета. Но и без этого казакам хватало и забот, и славы, которая очень скоро стала мировой. Казачьи соединения вступали в бои с крупными частями отступающей армии. Казачьи подразделения были в составе практически всех партизанских отрядов. Они блокировали всякие попытки французов и их сателлитов организовать хоть какое-то снабжение армии самым необходимым, уничтожая их отряды, посылаемые по деревням в поисках продовольствия и фуража, перехватывая курьеров, отбивая награбленное. Так, донские казаки генерала Кутейникова отбили обоз с обезличенным уже церковным серебром из разграбленных и оскверненных храмов Москвы и других городов и сел. Серебро это казаками было пожертвовано на изготовление иконостаса в Казанском соборе Санкт-Петербурга, воздвигнутом в честь победы в войне 1812 года. Не давая французам покоя ни днем ни ночью, преследуя их по пятам, казаки неумолимо вели отступающее воинство к полной его гибели. В обратном направлении российскую границу пересекла лишь жалкая кучка чудом уцелевших незадачливых завоевателей. Начинался заграничный поход русских армий.
В Европе казаки провели два года – 1813-й и 1814-й. Они освобождали от французов крупные города – Берлин, Гамбург и т. д., принимая участие во всех крупных сражениях, так как входили небольшими группами в состав почти всех самостоятельно действовавших соединений русской и союзных с нею армий. Черноморские казаки стремительной атакой 16 сентября 1813 года овладели городом Цейц, захватив при этом 1400 пленных. Триумфом стало вхождение казачьих полков в Париж. Свой лагерь они разбили на Елисейских полях, где на кострах готовили пищу. Свое упущение в сражении 1812 года под Малоярославцем казаки все-таки исправили. Наполеон оказался у них в плену. В ссылку на остров Эльба в Средиземном море его сопровождали казаки лейб-гвардии Казачьего полка. После возвращения казаков на Дон – все, в их повседневной жизни коренным образом, переменилось, даже женский костюм: на смену татарским шароварам, запаскам и «кубелечным» платьям пришла знаменитая «парочка» – юбка и кофта, дожившая, в станицах, до Великой Отечественной и демонстрируемая нынче, как «старинный национальный казачий костюм» разнообразными «народными» ансамблями «косак ля рюс» в стиле «рашен баляляйка»..
В сражении при Ватерлоо, глядя на атаку английской легкой кавалерии, Наполеон скажет знаменитую фразу: «Вот скачет самая лучшая конница мира под командованием самых плохих генералов!». Казаков он самой лучшей конницей не считал и был глубоко не прав. Именно казаки оказались самой эффективной кавалерией того времени, пожалуй, затмив славу «потрясателей вселенной» монголов Чингисхана и скифов. О казачьей коннице Наполеон мечтал и не скрывал этого, воздыхая что, мол, если бы под его командой были казаки, он завоевал бы весь мир. Так что же это за легендарная конница?
Казачья конница
Преимуществом русской кавалерии над любой конницей Европы было массовое использование природных всадников из донских, бугских, украинских, уральских, оренбургских казаков, а также калмыков, башкир, киргизов. Эта кавалерия являлась сущим бедствием для наполеоновских войск в период кампаний 1812—1814 гг.
Противопоставить им какие-то силы, способные вести рейдовую войну, не в состоянии была ни одна европейская армия. Иррегулярную русскую конницу могла бы нейтрализовать только турецко-персидская, если бы таковая имелась в войске Наполеона, но история распорядилась иначе.
Войско Донское в 1812г. выставило 90 полков, в основном 5-сотенного состава. Уральское войско в начале года 4 полка, позже, видимо, их число увеличилось до 10; Оренбургское – 3 полка; Бугское – 3, калмыки – 2, крымские татары – 4; башкиры и мещеряки – 22; ставропольцы – 1. Вооружение конного войска было самым различным, каких-то строгих уставных ограничений в те годы ещё не существовало. Калмыки, башкиры, киргизы наряду с огнестрельным оружием, использовали луки, о чём есть свидетельства французских офицеров. Генрих Росс вспоминает о бое под Инковом (8 авг. 1812 г.):
«Прусские уланы сомкнутым строем, с заметным успехом оттеснили правое крыло русских; наши егеря действовали в центре, между тем, как польские гусары защищали дорогу около поместья, старались удержать её до нашего отступления и долго препятствовали движению вперёд казаков и башкир. Здесь мы в первый раз подверглись обстрелу стрелами, которые по большей части летят и свищут в воздухе, как пули. Одному польскому офицеру стрела попала в бедро, у другого она застряла в платье; мы потом долгое время возили их с собой на память».
О том же пишет Комб, вспоминая сражение при Бородино:
«… и прикрывая своё отступление частой цепью стрелков, составленной из казаков, калмыков и башкир. Последние были вооружены луками и стрелами, свист которых был для нас нов, и ранили нескольких из наших стрелков. Шея лошади капитана Депену из моего полка была пронзена под гривой одною из этих стрел, имевших приблизительно 4 фута в длину».
Русская иррегулярная конница практически всегда использовалась в полевых сражениях для поддержки регулярных полков, прикрывая их в случае неудачи или преследуя отступающего врага. Так, например, Комб, описывая одну из атак французской кавалерии против русских кирасир при Бородино, упоминает об их совместных действиях с казаками.
Пожалуй, наиболее выделяющимся сражением казачьей кавалерии периода Наполеоновских войн можно назвать бой под Миром (1812 г.), когда 8 казачьих полков и 2 полка регулярной кавалерии (Ахтырский гусарский и Киевский драгунский) под командованием атамана Платова разбили 6 польских уланских полков (№№ 2, 3, 7, 11, 15 и 16) 4-й дивизии Рожнецкого из корпуса Латур-Мобура. В этом бою казаки использовали типичную для них тактику рассыпного строя. Они не принимали лобовых атак сомкнутых польских эскадронов, предоставляя эту возможность обученной и экипированной для такого рода боя регулярной коннице; сами же охватывали фланги неприятельских колонн и атаковали их врассыпную, или построившись тесными шеренгами.
Будучи прекрасными наездниками, казаки и другие иррегулярные всадники не боялись рассыпного боя, в отличие от регулярных кавалеристов. Используя это преимущество, они постоянно маневрировали и нападали отдельными группами на любой участок вражеского построения; кавалеристам приходилось поворачиваться лицом к казакам и тем самым расстраивать боевой порядок. В этом случае единственным спасением для вражеских конников было наличие прикрытия из природных кавалеристов, подобного казачьему или пехоты с артиллерией, либо удачный выбор местности. Характерно описана тактика казаков прусским офицером Ганцауге (1813 г.): «..когда мы прошли Мюльбергский лес, то увидели всю французскую кавалерию, расположенную в окрестностях Боракка. Часть её находилась уже в сборе, а остальная, в виде небольших отрядов, выходила из занимаемых ею деревень. Пленные впоследствии говорили нам, что число неприятельских войск простиралось в этих деревнях до 2000.
Французы кончили уже собираться, а казаки, между тем, развернулись и построились, наподобие стены, в одну линию, с незначительными резервами в тылу у себя. Казаки пошли в атаку, но были встречены сильным огнём. Французы в этом деле не обнажали сабель; но выстрелы их заставили русских несколько изменить своё расположение. Покамест эти последние перестраивались, неприятель свернулся в колонну, чтобы взять интервалы и потом снова развернуться в линию. Сначала мы думали, что французы приготовляются к атаке, но впоследствии оказалось, что они только растягивали свои линии, для избежания обхода, весьма опасного в тех случаях, когда приходилось иметь дело с казаками.
С обеих сторон, в одно и то же время были приняты новые предосторожности. Казаки не должны были укрываться от неприятельских выстрелов, и офицеры их получили строжайшее приказание рубить насмерть первого, кто обратится в бегство. Некоторые эскадроны должны были во время боя обойти неприятеля и атаковать его с тыла и во фланг. Все эти приказания были в точности исполнены. Казаки кинулись на французов и со всех сторон окружили их, я сам видел, как некоторые драгуны, выпустивши один только выстрел и не имея даже времени обнажить своих сабель, были выбиты из сёдел и тут же насквозь проколоты пиками. Сначала французы упорно защищались и действовали так, как, вообще, должна действовать каждая хорошая кавалерия, когда имеет дело с ловким противником, беспрестанно возобновляющим свои атаки; но потом некоторые обратились в бегство, и вскоре их примеру последовали остальные».
Казаки не боялись спешиваться с коней и успешно вели бои даже с пехотой в пересечённой местности. Об этом также сообщает Ганцауге: «Большую часть последней войны против французов я находился при донских казаках. В то время эти всадники мало ещё были знакомы с надлежащим употреблением огнестрельного оружия; но, по мере того, как они подвигались к пределам Западной Европы, они сознавали те выгоды, которые могут извлечь из него, в особенности на местах неровных и труднопроходимых. Казаки вооружались обыкновенно ружьями неприятельской пехоты, которые подбирали на поле сражения. Они приняли за правило, если местность благоприятствует, поочерёдно спешиваться и, таким образом, стрелять по неприятелю. Я видел, как казаки, на основании подобной тактики, побеждали не только кавалерию, превосходившую их своей численностью, но даже и пехоту, когда эти оба рода войск атаковали их своими стрелками. В подобных случаях, пехотинцы, им противопоставленные, сильно опасались тех всадников, которые, оставаясь в сёдлах, следовали с лошадьми в руках за своими спешившимися товарищами. Что касается до спешенных казаков, то они всегда были в полной готовности вскочить на лошадей и кинуться на неприятеля, если только предоставляется случай к этому, или если противник был выбиваем из-за прикрытия».
О том же есть воспоминания И. Р. Дрейлинга, служившего с Малороссийском кирасирском полку.
В строках, написанных генералом Мораном, сквозит откровенное отчаяние от того, что французы не могут придумать ничего, чтобы действенно отражать наскоки «дикарей»: «Эти дикие наездники совершенно не знают нашего строя, равнения и той правильности в движениях, которая исключительно уважается нами. Казаки имеют обыкновение крепко сжимать своих лошадей и ноги свои привыкли упирать на широкие стремена, которые, вместе с этим, служат им и точкой опоры в тех случаях, когда они употребляют в дело своё оружие. Кидаясь в атаку, они, обыкновенно, несутся марш-маршем и коротко останавливаются на этом аллюре. Их лошади много способствуют смелости, и со своими всадниками составляют как будто одно целое. Эти люди, будучи весьма осторожны, не требуют особенных попечений о себе, отличаются необыкновенной стремительностью в своих действиях и редкой смелостью в своих движениях. Не правда ли, какое великолепное зрелище представляла собой наша кавалерия, когда, блистая при лучах июньского солнца, золотом и сталью, пылая отвагой, она гордо развёртывала свои стройные линии на берегах Немана?.. Какие грустные размышления возбуждали они, бесполезные в делах с теми самыми казаками, которые до сих пор были презираемы всеми, но которые, при всем этом, более сделали для славы России, чем даже регулярные войска этой империи».
«Чтобы вполне высказать это грустное сознание, необходимо добавить и то ещё, что наша кавалерия, при всей своей многочисленности в сравнении с казаками, весьма часто действовала против них вместе с артиллерией, которая в то время считалась самой подвижной и была столь неустрашима, что презирала смерть и опасность. Наконец, несмотря на то, что главный начальник всей кавалерии, считавшийся одним из славных героев этой эпохи, принял за правило свои движения поддерживать самой отборной пехотой, казаки всё-таки возвратились с добычей и славой на берега своего родного Дона…».
Казачья манера боя вырабатывалась на протяжении двух столетий в постоянных стычках со степняками. Доходчиво объяснены все составные военного устройства и боевой тактики казаков В. Миткевичем в работе «Казачья лава»: «Есть много самых серьёзных причин, препятствующих казакам сделаться хорошей конницей типа регулярной кавалерии, действовавшей силой и сомкнутостью удара:
1. Казаки сидят на малорослых лошадях, хотя и представляющих хороший военный материал, но не отличающихся быстротой карьера накоротке. Легко себе представить картину полка неприятельской конной части, сидящих на 4 – и даже 5-вершковых конях и нашего казачьего, например, Оренбургского или Уральского полка на крошечных лошадях (средний рост донской казачьей лошади, наиболее высокой из казачьих лошадей, по измерениям в одной из кавалерийских дивизий, оказался 2 аршина и 15/16, вершка, причём следует иметь в виду, что льготные части, число которых вдвое больше первоочередных, имеют вообще лошадей ещё меньших)». ( аршин -ок.72 см. Вершок – 4,5 см. 4 -х и 5 -ти вершковая лошадь рост лошади в холке 2 аршина 142 см. + 4 вершка 18 см, 5 вершков 22,5 см. Соответственно 160 и ок. 170 см. в холке – высокие лошади. Прим. Б.А)
2. Способ езды казаков на уздечке, хотя и представляет много преимуществ перед мундштуком, лишает сомкнутости казачий строй, той сплочённости и стройности построения, которые необходимы при действии кавалерийскими массами.
3. Казаки ездят на лошадях своей собственной выездки или, лучше сказать, без всякой выездки, на лошадях только укрощённых, что, конечно, в значительной степени препятствует довести казачьи части в отношении сомкнутости строя до уровня регулярной конницы…»
4. По основному положению казачьей повинности, казак является на службу на собственном коне. Казачьи полки формируются чисто территориальным путём, то есть люди одной какой-нибудь станицы или группы станиц попадают постоянно в одну и ту же часть. Эти две причины обуславливают полное отсутствие подбора коней в казачьих частях, мешающее им развить такой сплошной разгон и сомкнутый удар, как регулярные части, сидящие на подобранных и однообразно воспитанных лошадях.
5. При мобилизации льготные части казачьих войск формируются заново казаками, прибывающими из своих станиц, причём приводимые ими лошади поступают в сотни с подножного корма, в большинстве случаев сильно исхудалые за зиму. Конечно, при таком конском составе трудно рассчитывать на успешную борьбу льготных казачьих частей в сомкнутом строю с регулярной кавалерией противника, лошади которой всё время держатся на сухом фураже и натаскиваются для сомкнутых ударов» (263 с. 38—39).
Лишь во второй половине XIX – начале XX в. правительству удалось регламентировать казачье вооружение. До этого оно покупалось казаками за свой счёт, и было любых типов и образцов.
Много свидетелей говорят, например, о дротиках, использовавшихся казаками. Об этом пишет неизвестный автор, участвовавший в бою у Юргайчине (1807 г.):
«Неоднократно неприятельские колонны бросались на казаков, старались сбить их с места. Лёгкий фронт казаков расступался, и неприятели видели себя окружёнными и поражаемыми дротиками со всех сторон» (263 с. 23).
Яков Петрович Бакланов, герой войны с турками 1828—1829 годов, бывший грозой чеченских отрядов на Кавказе в 40—50 годах XIX в., вспоминает: «… всё то, что ими употребляется в бою, то есть строили лаву для ударов, бросались в дротики со своим обычным азиатским гиком, рассыпались, джигитовали и стреляли из ружей на карьере».
О дротиках говорит Платов в донесении о сражении под Миром:
«… перестрелки с неприятелем не вели, а бросились дружно в дротики и тем скоро опрокинули, не дав им под держаться стрельбою».
В остальном вооружение казака включало, по его желанию, саблю, пистолеты (1 или 2), ружьё и пику. Надо сказать, что Генрих Росс, служивший врачом в Великой армии, был невысокого мнения о казачьих пиках, как средстве нападения:
«… среди немногочисленного состава было много таких, которые в нескольких сражениях получили по 10—15 ран казацкими пиками; был даже один егерь, раненый пикой 24 раза; звали его Гегеле…»
«В среднем удары пикой редко бывают опасны. Я назвал бы их в общем лёгкими поранениями, ибо они всегда задевали лишь кожу и мускулы и лишь редко давали глубокие и сквозные раны, – тогда только, когда удары пики были особенно сильны, когда пикой действовали с разлёта. Гораздо серьёзней и в общем опаснее бывают удары копьём, ибо они одновременно и колют и режут. Копья вонзаются вглубь тела, задевают благородные органы и сосуды и нередко вызывают смерть».
Объяснить это можно довольно просто. Казаки использовали иную посадку при верховой езде – более высокую, чем уланы или гусары. Соответственно, они не могли атаковать врага таранными ударом так же эффективно, как регулярные кавалеристы, прижав пику к боку локтем и направив её остриё в сторону противника. Удар всё равно не имел бы такой силы, как удар кавалериста, использующего «длинные» стремена. Поэтому часто на изображениях можно видеть, как казаки атакуют врага, взявшись за пику обеими руками и подавшись вперёд всем корпусом, чтобы увеличить силу удара и самому при этом не вылететь из седла. Этот нюанс точно подметил художник Дезарно в картине под названием «Преследование казаками отступающих французов». Так что дело было вовсе не в конструкции пик, как считал Роос или Нолан (271 с. 72), а в своеобразие посадке казаков, позволяющей им свободнее действовать в индивидуальном, рассыпном бою.
* верста – 500 саженей – 1068 м. Межевая верста – 1000 саженей – 2136 м. использовалась для измерения расстояний. «Конница на войне» Минск, Харвест 1999 г.
Сыны степей
Выступившая из Москвы неприятельская армия скоро всецело поступила на попечение казаков, окруживших, провожавших ее до самой границы, и далее и надоевших ей на этом долгом пути до такой степени, что вскоре французская нация, а за нею и вся Европа, без ужаса не произносили слова «казак», сделавшегося синонимом варварства, бессердечия, алчности, вероломства и жестокости. В сущности, казаки, преследуя и истребляя по мере своих сил неприятеля, только исполняли свою прямую обязанность, и если дело не обошлось без проявлений жестокости и алчности, то, наоборот, бывали случаи и гуманнейшего отношения их к своим врагам.
«Казаки,– говорит Констант,– как будто созданы для того, чтобы составлять с лошадью одно целое. Ничего нет смешнее походки их, пеших: ноги, привыкшие бить по лошадиным бокам, какие-то выгнутые, похожие на железные клещи; когда они сойдут на землю – сейчас видно, что им не по себе. Лошади маленькие, с длинными хвостами, и, по-видимому, очень послушные. Когда император выезжал в Гжатск, за ним ехало двое этих варваров. Он приказал дать им водки, они выпили ее, как воду, и смело подставили снова свои стаканы, дескать: еще!»
Отдельные отряды и обозы очень страдали от казаков; так, на Можайской дороге 300 человек их напали ночью на лагерь обоза в 350 фур, шедших под прикрытием четырех кавалерийских полков и двух батальонов пехоты, и так перепортили все упряжки повозок, что те не могли двигаться далее.
Но с Вяземского сражения пехота русская, шедшая стороною для перегорождения обозам пути впереди, не показывалась на большой дороге, и арьергард Нея опять имел дело только с казаками, «надоедливыми насекомыми», по выражению Сегюра. На своих маленьких лошадках, хорошо подкованных и приученных бегать по снегу, они не покидали отступающую армию».
«В довершение беспорядка нашего отступления, которого одного было довольно, чтобы нас погубить,– говорит Буржуа,– казаки ежеминутно налетали на нас. Как только наши завидят их, так сейчас бросаются в стороны, одни очертя голову, другие в некотором порядке, под прикрытие вооруженных групп, кое-где державшихся. Число бредших отдельно было так велико, что казаки брали далеко не всех, а выбирали своих пленных; они забирали только тех, что казались получше одетыми и обещали какую-нибудь поживу, других же пропускали, будто не замечая…»
Платов совершенно расстроил, почти уничтожил отряд принца Евгения, убил более 1500 и взял в плен 3500 человек, захватил 62 пушки, знамена и множество багажа. Наполеон назвал казаков в одном из своих бюллетеней: «Презренная кавалерия, только шумящая, но неспособная прорвать роту стрелков, сделавшаяся страшною только при данных обстоятельствах». Он не знал или не принимал во внимание, что казацкое войско совсем отлично от регулярной кавалерии, что казаки сражаются только тогда, когда наверное рассчитывают одержать победу,– ему было нужно видеть того казака, который, нарядившись в мундир его «храброго из храбрых» маршала Нея, преспокойно справлял свой казачьи обязанности, чтобы понять, сколько наивной удали в этих «сынах степей».
Констан пресерьезно уверяет, что Неаполитанский король имел большое влияние на «этих варваров», т. в. казаков. Один раз будто бы императору говорили, что они хотят провозгласить Мюрата своим гетманом, Наполеон, посмеясь этому предложению, ответил, что не прочь поддержать избрание. Будто бы Неаполитанский, король своею осанкою и своим богатым театральным костюмом очаровывал казаков и один взмах его огромной сабли обращал в бегство целые орды варваров».
Автор «История наполеоновских войн» рассказывает о том, что, несмотря на свое критическое положение во время отступления, они искренно посмеялись над одним, из налетевших на них казаков, схватившим тюк тонкого полотна и бросившимся с ним наутек: так как он успел схватить кусок за один конец, а французы держались другой и не выпускали из рук, то полотно продолжало все развертываться до тех пор, пока «варвар» не скрылся в лес. В захваченном казаками собственном обозе Наполеона всего больше понравились им и офицерам бутылки с буквами N и императорскою короной – в бутылках было старое Шато-Марго! Интересны захваченные казаками походные кровати Наполеона, находящиеся теперь в Москве, в Оружейной палате: одна побольше, расставлявшаяся в городах и местах более долгих остановок, другая небольшая – для повседневного употребления. Чехлы на кроватях – лилового шелка, снабжены карманами для книг, бумаг и привходящих ночью донесений. После множества павших на казаков обвинений —частью, вероятно, справедливых,– может быть, нелишне будет привести несколько свидетельств самих французов, указывающих на казачье добродушие.
«Наша артиллерия была взята в плен в битве (под Тарутином),– говорит автор «Походного журнала»,– артиллеристы обезоружены и уведены. В тот же вечер захватившие их казаки, празднуя победу и уже изрядно выпившие, вздумали закончить день – радостный для них и горький для нас – национальными танцами, причем, разумеется, выпивка была забыта. Сердца их размягчились, они захотели всех сделать участникам веселья, радости, вспомнили о своих пленных и пригласили их принять участие в веселье. Наши бедные артиллеристы сначала воспользовались этим приглашением только как отдыхом от своей смертельной усталости, но потом, мало-помалу, под впечатлением дружеского общения, присоединились к танцам и приняли искреннее участие в них. Казакам так это понравилось, что они совсем разнежились, и когда обоюдная дружба дошла до высшей точки – французы наши оделись в полную форму, взяли оружие и после самых сердечных рукопожатий, объятий и поцелуев расстались с казаками – их отпустили домой, и таким образом артиллеристы возвратились к своими частям».
Вот еще рассказ пленного солдата морской гвардии: «Пока мы грелись около нескольких березовых полешков, подошел казак, высокий, худой, сухой, до того свирепый видом, что мы невольно попятились. Он подошел к нам по-военному и стал что-то говорить, но мы не понимали: вероятно, он спрашивал о чем-нибудь. В нетерпении на то, что мы ничего не поняли, он сделал знак недовольства, обеспокоивший нас; однако, заметивши это, он в ту же минуту придал своему лицу доброе выражение и, увидев, что одежда моего приятеля была в крови, выказал желание осмотреть его рану и сделал знак следовать за ним.
Он свел нас в ближайшую избушку. Вышла женщина, которой он приказал постлать соломы и согреть воды, а сам ушел, дав понять, что воротится. Она бросила нам немного соломы, но позабыла о воде, а мы не смели слишком настойчиво напоминать ей. Когда он воротился, то прежде всего, спросил жестом: ели ли мы? Мы и отрицательно покачали головами. Вероятно, он потребовал от женщины, чтобы она дала нам поужинать, и за ее отказ крепко стал бранить ее. Тогда она показала к ему чашку с каким-то варевом и, по-видимому, уверяла его, что больше у нее ничего нет. Казак стал шуметь. Даже грозить, но безуспешно: она поставила только греть воду для нас. Он опять ушел и скоро воротился с куском соленого свиного жира, на который мы набросились, несмотря на то, что он был сырой. Пока мы ели, казак смотрел на нас с видимым удовольствием и рукою показывал, чтобы мы не наедались сразу.
Когда мы понасытились, он снова что-то стал говорить женщине, как мы поняли, насчет нашей перевязки. Он требовал от нее тряпок, но та отговаривалась отбивалась со словами: «Нема, нет». Тогда почтенный воин, взявши ее за руку, заставил перерыть все углы избы, но ничего не добыл. Рассерженный таким упрямством, он вынул свою саблю: крестьянка закричала, а мы, тоже подумавши, что он убьет ее, бросились к его ногам. Он улыбнулся нам, как будто хотел сказать: «Вы меня не знаете, я хочу только попугать ее».
Женщина вся дрожала, но все-таки ничего не давала; тогда он снял сюртук, скинул рубашку, разрезал ее саблею на бинты и стал перевязывать наши раны. В продолжение этой работы он все время говорил, вставляя в свою речь много польских и немецких слов; но если это бормотанье было нам мало понятно, то самые поступки хорошо указывали на благородство его чувств. Он старался, кажется, дать нам понять, что знаком с войной уже более 20 лет (ему было около 40), что он был во многих больших битвах и понимает, что после победы нужно уметь быть милостивым к несчастным. Он показал на свои кресты, как бы давая понять, что такие доказательства храбрости налагали на него известные обязанности. Мы только радовались этому великодушию, и он мог, конечно, прочитать на наших лицах выражение нашей благодарности. Я хотел бы ему сказать: товарищ, будь уверен, что твое благодеяние никогда не изгладится из нашей памяти. Только двое здесь свидетелей твоего человеколюбия, потому что эта женщина не оценит его, но скажи нам твое имя, чтобы мы могли передать его и другим нашим товарищам.
Он стоял на коленях, но потом, уставши, сел на пол, посадив меж ног моего товарища, подставившего ему свою раненую спину; он вымыл, вычистил рану плеча с величайшим старанием и, как будто спрашивая моего совета, намеревался, с помощью дрянного ножичка, у него бывшего, вытащить засевшую пулю. Он попробовал открыть края раны, но приятель так вскрикнул, что казак остановился и, упершись в его голову своей головой, видимо стал извиняться за причиненную боль. Я не, утерпел перед таким нежным вниманием и, схвативши его руки, крепко пожал их: собравши в голове все, что знал польских, русских и немецких слов, я хотел было говорить, но не мог – от умиления глаза мои были полны слез!
«Добре, добре, камарад!» – сказал он мне, торопясь окончить перевязку, для которой, кажется, боялся, что не хватит времени. Когда пришел мой черед, добрый казак осмотрел рану и, положивши указательный палец на палец мизинца, показал, что она не более нескольких линий в глубину и что она закроется сама собою, должно быть, удар пики был смягчен одеждой.
Он еще возился с нами, когда один из его товарищей позвал его с улицы: Павловский! – так узнал я его имя – и он ушел, сопровождаемый нашими благословениями. (скорее всего это была не фамилия, а принадлежность к Павловской станице Прим. Б.А.) Мы уж думали, что не увидим более этого бравого казака, но он пришел на другой день, очень рано и осмотрел перевязки наших ран. Он принес нам также по два русских сухаря, выразивши сожаление, что не мог сделать большего…» В.В. Верещагин.
«Ради страха иудейска»
Очерк господина Ю. Давыдова показался мне необходимым в книге о казаках. Несмотря на то, что большая часть анекдотов о Платове и прочей чепухи, никак не относится к истории казачьего народа, показательна точка зрения автора, его уверенность, что он может судить и разбирается в том , о чем не имеет ни малейшего представления. Очерк хорош тем, что он абсолютно типичен не только для узкого около интеллигентного круга российских либерала – демократов, но и вообще для представления современных россиянин о казаках.
Это еще самое начало. Это 1993 год. Но не думаю, что в сознании наших соотечественников с тех пор что – нибудь, в отношении казаков, изменилось. Свидетельством тому, реестровое казачество и принятие законов, которые казачьему народу не нужны, а нужны «ментам», в кого изо всех сил строят, в основном, ряженых казаков, с лентами на кальсонах. Именно для того, чтобы «пороли и карали», чего так, «ради страха иудейска», опасается господин Давыдов.
Забегая чуть вперед, выскажу свое восхищение господином Давыдовым, который никак не может понять, как это врач невропатолог, мог стать казачьим атаманом. Я и в свой адрес слышал: «Как это вы, писатель, и вдруг казачий атаман? Казаков, каких то возрождаете!» Никого бы не удивило, если бы анапский врач- невропатолог был калмыком или армянином и старостой калмыцкой или армянской общины. И я думаю, что решение любого старейшины наказать насильника, у любого народа нашло бы одобрение. Но только, если он не казак! Казакам – нельзя! (Правда, русские, которые сами себя защитить не решаются, все по старой холопской привычке ждут ни то барина, не то Сталина, но единогласно мечтают, что вот придут казаки и спасут Россию!)
Замечу только, что мой прадед, имел чин приказного (одна лычка). Служил срочную в казачьем полку, стал инвалидом, а затем учил казачат грамоте в двухклассной хуторской школе и был атаманом хутора, за что его в 1918 году красные и расстреляли, без суда и следствия. И никакого противоречия в том, что он был по чину приказной или затем младший урядник, атаман и учитель казаки не видели. Тем более , пришедшие на Дон красные. Казак? К стенке! Однако, не будем отвлекаться, почитаем очерк!
Юрий Давыдов. Казаки в Лондоне
Начну не Лондоном, начну Берлином. Вот они, казаки-то, на рысях, на рысях вступают в город. И что же? – Казаки опустошат столицу Фридриха Великого, разграбили в ней до трехсот домов, не пощадили загородного королевского дворца: изломали дорогую мебель, перебили фарфор и зеркала, изорвали, разнесли в клочки кабинет редкостей. Начальники не отставали от подчиненных.
Это не все. Слушайте:
– Дано было приказание прогнать сквозь строй «газетиров» за то, что эти публицисты слишком обидно и дерзко писали о русских.
Таков первый абзац романа «Мирович». У нас он известен любителям исторической прозы. Данилевский, автор романа, жил в прошлом веке. Странные времена! Никто не обвинил Григория Петровича в русофобии. Нет у меня ни малейшего желания порочить казачество. Знавал я в сталинских лагерях и донцов, и ку6анцев, славные были ребята, верные товарищи. Да вот теперь-то услышишь… ну, скажем, про анапских и пригорюнишься. Впрочем, не только про анапских.
Появились казачьи землячества. Возникло движение за возрождение, есть войсковой круг, атаманы, есть кокарды и шашки, есть нагаечки. Однако вопрос, куда громада двинется? К каким светлым горизонтам, ежели злобятся на демократов и инородцев? А розги пускают в ход не фигурально, а буквально. Именно эдак рукодельничают арапское казаки во главе с батькой, хоть тот и врач невропатолог.
Берлинских публицистов решили прогнать сквозь строй. Царский генерал Чернышев отменил экзекуцию. Советский генерал Макашов не отменил бы. А равно и другой бывший кандидат в президенты, г-н Жириновский. Вот и ёжишься: – то-то достанется нам на орехи, ежели, такие типажи прикарманят возрождающееся казачество. Да, натуре робкой впору праздновать труca. A тут еще, черт, помянуть недобрым словом казачьего генерала Иловайского, участника войны Двенадцатого года. Сын тихого Дона оказался буен в погорелой Москве, оставленной французами. Не обошел своим самобытным вниманием православные святыни. Говаривал, не моргнув глазом: я, мол, такой обет дал, чтобы все ценное отправлять на Дон. Hу, зачем, зачем было писать об этом?! Вот и посвистывает в ушах карающая нагаечка. «Страшно, страшно поневоле… » Но не страха ради иудейска берусь рассказать о лондонском фуроре двух донцов. Потому и охота рассказать, что они не имели решительно никакого сходства ни с Иловайским, ни тем паче с анапским невропатологом.
«В 1813 году, в марте месяце, при занятии русскими войсками города Гамбурга, был отправлен морем с этим известием в Лондон казак донского казачьего 9-го полка., Нагайской станицы, (Нагаевской! А.Б) Александр Земленухин лет 60-ти старик, с седой большою бородою».
Так писал в своих мемуарах, долго пребывавших в архивном забвении, подполковник Краснокутский.
В марте месяце да морем… Нетрудно вообразить, каково досталось за десять палубных суток станичнику-кавалеристу от весенних штормов. Но вестник очередной победы русского оружия, союзного английскому, в кровавом одолении Наполеона, достиг устья Темзы.
С того часа, как он ступил на берег, и до того часа, как он покинул этот берег, Земленухина окружали восторженные толпы: «Ура, казак! Ура!» Гравированный портрет статного бородача разошелся в сотнях экземпляров. Земленухина знали и лорды, и трубочисты. На каждом шагу его старались чем-нибудь да одарить. Он просил «не обижать подарками». Объяснял:
– Есть у нас старинный обычай: не обязываться чужеземцам, а лучше самим помогать им в нужде. А коли сам в беде, ищи помощи у своих, а за то старайся отплатить вдвойне. Прошу дать знать всем, что мне денег не надо. Спасибо за ласку, будем жить как братья, и вместе бить общего врага.
Отказ Земленухина приятно удивил островитян. Но когда он и от принца-регента не принял аж тысячу фунтов, удивление сменилось остолбенением. «Ура, казак! Ура!»
Апогея достиг он, демонстрируя на городской площади полевые действия казачьего эскадрона. Подполковник Краснокутский повествует об этом весьма энергично, но, пожалуй, слишком подробно. А если вкратце, то вот, извольте:
– В этот день триста английских всадников ожидали его на большой площади. По сему случаю несколько тысяч любопытных приехало из ближних городов. Толкотня была так велика, что казаку пришлось седлать коня не на улице, а в своей… комнате. Снарядившись, он выехал и сказал английским кавалеристам: "Не учен я наукам, по которым воюют великие генералы. Придерживаюсь нашего обыкновения: хитростью разведывать силу и расположение неприятеля; изнурять его денно-нощно, нападая с тылу, с фланга, а то и в лоб. Главное – натиск, быстрота, чтоб ни минутного промедления. Атаковать лавой, дугой, охватом. И вроссыпь, чтоб людей беречь, дабы и частые, плотные ружейные выстрелы давали промашку». Потом Земленухин велел выслать лазутчиков. Когда они доложили, где неприятель, он сказал:
"Прежде, ребята, помолимся, – скинул шапку, трижды осенился крестным знамением. Надев шапку, крикнул: 'На конь, ребята, без торопливости! Вперед!» – и nycтuл лошадь рысью, а за ним и английские кавалеристы… На скаку крикнул: "Ура, наша взяла!» – и осадив, коня, поздравил всех с победой. Провожали Земленухина как громом: "Виват. Донское войско!»
Имитацией театра военных действий завершилось пребывание станичника в столице заморского королевства. Нет, забыл, надо еще вот о чем. Землянухина, оказывается, приглашали насовсем остаться в Англии. Обещали дать землю, думается, парламент не отказал бы. Говорили, что и жену такой молодец сыщет без труда. Землянухин отказался еще прытче, чем от денег. «Нет и нет! Помирать надо, люди добрые, там, где кости свои положили отцы-прадеды, а старуху свою бросить совесть не велит».
Не пожелав страдать ностальгией, казак 9-го полка уроженец станицы Нагайской, (Нагаевской! Б.А.) взошел на борт фрегата, обещая провожающим передать привет своему атаману, графу Матвею Ивановичу Платову.
* * *
Mатвей Иванович, слушая рапорт Земленухина, курил корешковую трубку и потчевал цимлянским.
Сколь бы стремительны ни были передислокации, а дорожный погребец не оставался в арьергарде, не отставал от Платова. Его сиятельство нередко угощал друга-приятеля, прозванного русскими: «Форвертс», ибо приказ: «Вперед!» чаще всего срывался с губ фельдмаршала Блюхера. Цимлянское, конечно, некрепкое, но берет количеством. Блюхера, случалось, уносили на руках адъютанты. Платов задумчиво покачивал головой:
– Люблю Блюхера, славный, приятный человек, одно в нем плохо: не выдерживает.
В том, что казак Земленухин выдержит, Матвей Иванович не сомневался.
* * *
Весной следующего. 1814 года. был сыгран последний акт войны. Наполеон простился со старой гвардией. Париж капитулировал. Войска встали биваками. Казаки варили кашу на Елисейских полях. Походная униформа сменилась парадной. Батальонные марши – дипломатическими демаршами. Все блестело, все блистали. Победа!
После побед начинается, как известно, мирное обустройство. Не умея обустроить Россию, обустраивают Европу. Писатель Лесков называл это «междоусобными разговорами». Такие разговоры ведутся на высоком уровне. Тон задается – на высочайшем. Император русский отправился по ту сторону Ламанша об руку с королем прусским.
Газета «Тайме» известила: «Эти два великих государя вступили на британский берег в Дувре, и понедельник, в половине седьмого часа пополудни. Пушки военных кораблей выпалили салют в ту минуту, когда государи сошли с корабля, и повторили то же, когда они вступили на берег, причем им отвечал полный залп береговых батарей. И радостные восклицания тысяч британского народа, раздиравшие воздух. Вид был великолепен: матросы все одетые в новые голубые куртки и белые штаны, стоя на реях присоединяли свои громкие искренние приветствия к рукоплесканиям толпы.» Увы, нам придется огорчить «патриотов» суровой правдой истории. К сожалению, самодержца всероссийского сопровождали не только великороссы. Был явный «перебор» шотландцев: фельдмаршал Барклай де Толли и баронет Виллис. И поляков. Аж два Адама – князь Чарторижский и граф Ожаровский. Это бы еще куда ни шло, а то ведь и Карл Несссльроде полу еврей. Можно бы назвать и другие не очень-то благозвучные имена, но и Карлы довольно, чтобы разъярить заединщнков по кличке «памятники». Сдается, самые рьяные из них, еще не учтенные зоологами, измордовали бы атамана Платова. За что, спросите? А за то, что не гнушался полукровки. (Кстати сказать, не возьму в толк. отчего щадят Шолохова. Он же чего себе напозволял? В жилах Григория Мелехова течет басурманство!) Так вот, в свите Александра Первого был и граф Платов. Еще юношей командовал он казачьим полком – времена Очакова и покоренья Крыма. (Это уж под пером сов. историков – «присоединение», а так-то, попросту, как на самом деле было.– покорение.) С тех времен служил да служил и дослужился в боях до генерал-от-кавалерии до атамана Войска Донского. Теперь в громах британского салюта слышался басистый отзвук его, Платова, отмщения Наполеону за нашествие на Россию. Смоленск отбил, маршала Нея побил, Данциг осадой обложил, под Лейпцигом пленил пятнадцать тысяч.
Взгляните на портреты жрецов Марса. Величие, голубеющее, как сталь. Беспощадность, багровеющая, как пожарище. Печать мысли, холодной, как выкладки гениального штаба. А поищите-ка доброту, днем с огнем поищите… Тем неожиданней два-три штриха в дневнике, изданном некогда и Германии. Графиня Фосс, придворная дама, повидала на своем веку фалангу эполетных немцев, австрийцев, русских. Знавала и Платова. Писала: «Он необыкновенно высокий, смуглый, черноволосый человек с бесконечно добрым выражением лица, весьма обаятельный и любезный. Платов вполне достоин уважения, как и все порядочные русские люди.» Другое дело официальные отчеты. Там Платов в числе сопровождающих лиц, а то и вовсе безымянный. На моем столе выдержки из «Таймс» и других лондонских газет. Читаю: «Союзные государи отправились на скачки в Аскот в сопровождении фельдмаршала Блюхера, генерала Платова и многочисленной свиты. Они ехали по Фулгамской дороге. Император был в простом коричневом сюртуке. Король в синем пальто. В Аскот прибыли около часа. Потом приехали королева английская и принцессы, вслед за тем принц-регент со свитой.
На другой день поехали на празднество в дом Берлингтона. Ужин начался в два часа ночи, на нем присутствовало две тысячи пятьсот персон. Император, первым встав из-за стола, подал пример и танцевал до восхода солнца».
Сообщали газеты и об экскурсиях: арсеналы, доки, фабрики, музеи. По слову Лескова, хозяева демонстрировали «разные удивления». Платов вил усы кольцами, бурчал: «И у нас дома свое не хуже есть», на что государь отвечал вполголоса: «Не порть мне политику». Политикой заняты люди политичные. А Платов, как лозу шашкой, подсекал побеги низкопоклонства. Англичане, замечает Лесков, объезжали атамана на кривой. «Особенно в больших собраниях, где Платов не мог вполне по-французски говорить: но он этим и мало интересовался. Потому, что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения».
И верно, воображение женатого человека было занято другим. Лескову, наверное, не попалась на глаза «Старая записная книжка» Петра Вяземского, изданная в 1883 году. Жаль. В лесковском Сказе о Левше, вероятно, прибавилась бы колоритная страница. «Говорили,– писал Вяземский,– что Платов вывез из Лондона молодую англичанку и качестве компаньонки. Кто-то – помнится, Денис Давыдов,– выразил удивление, что он, не зная по-английски, сделал подобный выбор. «Я скажу тебе. братец,– отвечал Платов,– это совсем не для физики, а больше для морали. Она добрейшая душа и девка благонравная; а к тому же такая белая и дородная, что ни дать ни взять ярославская баба».
Не спешите укорять Матвея Ивановича примером земляка-станичника. Да, Земленухин остался верен своей законной старухе. Но Матвей-то Иванович не супругу привез, нет, компаньонку, и, значит, из закона не вышел. А главное, не «чужестранностью ея» пленился, а сходством с русской.
Платов умер четыре года спустя, не дожив до семидесяти. Я не стал доискиваться, что сталось с белотелой дочерью Альбиона. А, пожалуй, мог бы спроворить ходовой нынче товарец по части клубнички. Зависть берет, глядя на повсеместный триумф книженции про любовников Екатерины Второй. Но где ж платовской «ярославской бабе» конкурировать с неутомимой немкой, матерью нашего отечества?
Появилась у атамана и другая «подруга». Не благонравная и не дородная, но о ней минутой позже, а сейчас в контекст его лондонской жизни втиснем очередную цитату из «Тайме».
– Вчера утром император инкогнито вышел из отеля и несколько времени разговаривал на улице с графом Ярмутом. прежде чем народ узнал его. Потом со своим адъютантом и прочими отправился в Гайд-парк. Император был в красном английском мундире, на шляпе большой султан из перьев.
Прошу заметить, шляпа-то с перьями, а народ не сразу узнавал Александра Павловича. Оно и понятно: августейших понаехало сверх комплекта, пойди-ка разберись, кто есть кто. Пожелай Платов остаться инкогнито, потерпел бы фиаско. Его узнавали тотчас, с первого взгляда. И это тоже понятно, он был, так сказать, в единственном экземпляре, ни с кем не спутаешь. Спрашивается, почему же имя его столь редко встречаешь в выписках из «Таймс» и других газет? Вся штука в том. что выписки сделаны в свое время товарищем обер-прокурора святейшего Синода графом Толстым. Юрий Васильевич сосредоточился на особах голубой крови. Это не упрек, а всего лишь констатация. Надо ему и спасибо сказать. Он много занимался в Лондонском королевском архиве. Его перу принадлежит десяток исследований англо-русских связей XVI—XVII столетий. Он и в Девятнадцатое заглянул – опубликовал «Записки сэра Роберта Вильсона».
В грозу Двенадцатого года сэр Роберт состоял при главной квартире Кутузова, а прежде служил в русской армии, живал и в Петербурге. Не сочтите натяжкой предположение о лондонской встрече генерала Вильсона с генералом Платовым, было о чем вспомнить.
Было-то было, если только выдался часок, другой. У Матвея Ивановича скулы сводило – рауты и парады, обеды и ужины, этикетные визиты. Цимлянского, хоть убей, не поднесут. О водке-кизлярке и не мечтай. Сей кавказский продукт, замечает классик родной литературы, атаман любил «дерябнуть».
Протокольно скучая и маясь, Матвей Иванович не оставался равнодушным к почестям. Он посмеивался над жаждой наград, но от наград не шарахался.
На мой взгляд, самым почетным было присвоение его имени кораблю, спущенному со стапелей. Британская корабельщина, как признавали сами англичане, отличалась «военно-морским шовинизмом». И вот, пожалуйста, сочла за честь внести имя донского казака в адмиралтейские списки своего флота. Высший знак признания. Повторяю, это на мой взгляд, весьма субъективный.
А Матвею Ивановичу, может, больше пришлась по сердцу и, скажем так, по руке другая награда. Та, о которой мельком упоминалось в связи с младой компаньонкой.
Эта бьла в алмазном венце, с гербом Соединенного королевства и вензельным портретом своего нового владельца. Саблю преподнесли Платову от имени города Лондона. Ее сталь, изукрашенная надписями. казалось, пела гимны блистательному военному дарованию графа Платова, который с неколебимым мужеством сражался за мир, тишину и благоденствие Европы. На ее ножнах были оттиснуты золотом боевые эпизоды из походной судьбины Матвея Ивановича. Почетное оружие сопровождало лестное послание герцога Веллингтона, героя Ватерлоо. Лет десять тому «Известия» сообщили:
– После смерти Платова эта сабля некоторое время находилась у его потомков, потом была передана в музей истории донского казачества в Новочеркасске. В 1920 году она вместе со многими другими ценностями была вывезена за границу и оказалась в Чехословакии. В годы фашистской оккупации сотрудники Пражского Национального музея сохранили ценности, вывезенные из Новочеркасска. В числе переданных советским офицерам экспонатов, похищенных белогвардейцами, была и сабля Платова. Сейчас она вновь находится в экспозиции Новочеркасского музея истории донского казачества.
Информация эпохи застоя требует примечания эпохи гласности. Как ни относись к упомянутым белым офицерам, а «похитителями» не сочтешь. Похитители не отдают драгоценности в музей. Похитители – это те, кто, распевая «Вышли мы все из народа», крал драгоценности московского государственного хранилища. И привет, с концами, поминай, как звали!
Такая же участь, неровен час, постигла бы и алмазный венец, сработанный старинными мастерами-ювелирами. Возможен и вариант. Помнится, поднесли золотое оружие генсеку тов. Брежневу Л. И. То-то был бы хорош с платовской саблей на боку. Угодливость лакеев не есть догадливость. Видать, никто из политбюро не заглянул в Новочеркасский музей.
Напоследок вот еще что. В восемьсот пятьдесят третьем году, к столетию со дня рождения знаменитого земляка, в Новочеркасске, им же основанном, воздвигли памятник атаману Платову. Десятилетия спустя Матвея Ивановича сменил на постаменте Владимир Ильич, основатель и партии, и государства нового типа.
Слыхал, будто начался сбор на восстановление памятника Платову. Расчетный счет открыт в банке на… м-да, в банке на улице Ленина. А что ж прикажете делать с образцом монументальной пропаганды? Будь моя воля, перенес бы на другое место. В назиданье внукам: не сотвори себе кумира.»
***
Я позволил себе привести статью господина Давыдова¸ где за резвым стилем, все – таки сильно сквозит «страх иудейский» перед казачеством, без купюр и не омолаживая ее, поскольку она характерна и показательна для понимания проблем казаков современным около интеллигентным обществом. И как ни противно, а возражать на такие статьи нужно. Разумеется, не для того чтобы переубедить господина Давыдова (носящего фамилию, правда если свою), воспетого в Поднятой целине сына проститутки, приехавшего «исправлять» голодом и расстрелами наш народ для новой (лагерной) жизни, его не переубедить. У него и ему подобных, как забито между серым веществом и лобной костью, происхождением и воспитанием убеждение, что казаки – разбойники, с тем они и во гроб лягут, а для казаков! Им надо знать как искажают нашу историю, как мажут дегтем имена наших героев. Старшему поколению не привыкать молчать и терпеть , а молодым такое надо знать!
Памятник Платову мы восстановили! И стоит он на своем пьедестале. Не обошлось в этом восстановлении без чуда! Дело в том, что «вождь и учитель» стоял на квадратном подножье, а памятник Матвею Ивановичу, восстановленный по рисункам и фотографиям, на круглом. Так вот когда чугунного Ильича убрали, оказалось, что под квадратом его подножия, остался выбитый в камне круглый след от первого атаманского памятника. И новый монумент Матвею Ивановичу лег в старый след – миллиметр в миллиметр! А ведь никто не примерял! Восстанавливали памятник, так сказать, на глазок, по старым фотографиям. «Вона как оно все промыслительно!» – утирали в многотысячной толпе коричневыми своими натруженными руками глаза старые казаки. Те, кто помнили еще тот первый памятник герою атаману, и все что происходило на этой казачьей площади прежде, включая молебен Краснова, расказачивание, парад казаков вермахта, и расстрел 1962 года…
А статья – полезная. Она типична для восприятия казачества большинством наших современников. Лампасы, нагайки, исторические анекдоты… Не будем за это ругать господина Давыдова. Он, судя, по всему, из репрессированных. Сочувствуем. Но, думаю, что там, в лагерях и зонах, если он встречал донцов и кубанцев, он ни о чем их не расспросил, а и расспросил бы – так ничего бы не понял. Зона то у них была общая, правда, я уверен, что сидели то они по разным причинам. Не исключено , что казаки за то что служили в Вермахте, вероятно, про такое г-н Давыдов и не слыхал. Но ему, как настоящему «советянину» – все, всегда и так ясно. А мне вот нет! Потому и хочется разобраться, что же за человек был Матвей Иванович Платов, и соответствуют ли многочисленные анекдоты о нем исторической правде.
Граф Матвей Иванович Платов
(1751-1818 гг.)
Сын казачьего полковника, возведенного за услуги при усмирение Пугачевского бунта в потомственные дворяне с чином армии премьер-майора. Атаман войска Донского, генерал-от-кавалерии, граф Матвей Иванович Платов родился на Дону 6-го Августа 1751 года. Уже 13-ти лет он вступил в службу урядником. Вскоре произведенный в офицеры, Платов получил свое боевое крещение в 1770 году под знаменами князя Долгорукого-Крымского, успев побывать в разных делах с неприятелем, за которые, 4-го Декабря 1770 года, получил чин есаула.
В 1771 г. Платов находился при атаке и занятии Перекопской линии, а затем Кинбурна и 1 Января 1772 года был произведен в войсковые старшины. Неоднократно сражаясь под г. Копылом на Кубани в 1774 году. Платов особенно отличился 3-го Апреля, отбив при верховьях р. Калалы, в несколько раз превосходившие его силы крымско-татарских кочевников Девлет-Герея. В конце того же года он был переведен в войска, действовавшие против Пугачева.
В 1782 и 1783 гг. Платов, под начальством Суворова, сражался на Кубани и в Крыму.
В 1784 году ходил против лезгин и других горских народов, за что 25-го Ноября пожалован от армии майором. По случаю открывшейся в 1788 году войны с Турцией, Платов, состоя уже в чине полковника, вступил в Typецкие пределы под начальством князя Потемкина.
6-го Декабря он отличился при осаде Очакова, а потом переведенный в Чугуевский регулярный казачий полк, храбрыми подвигами под Бендерами, Каушанами и взятием укрепленного замка Паланки, обратил на себя внимание Главнокомандующего, по представлении которого, 24-го Сентября 1789 года, был пожалован в бригадиры.
Блистательные подвиги Платова при взятии Измаила 11-го Декабря 1790 года доставили ему чин генерал-майора и 25-го Марта 1791 года—орден Св. Георгия 3 степени.
2-го Сентября 1793 года он был пожалован орденом Св. Владимира 2 степени, а за командование передовым отрядом в Персидском походе 1796 года и участии во взятии Дербента графом Зубовым получил золотую, украшенную алмазами саблю.
15-го Сентября 1801 года Платов был произведен в генерал-лейтенанты, с назначением атаманом всего Донского войска, а 8-го Сентября пожалован орденом Св. Анны 1 степени. В звании атамана, Платов занялся усовершенствованием всех отраслей вверенного ему войска.
18-ю Ноября 1806 года Платов пожалован орденом Св. Александра Невского, а затем получил назначение командовать всеми казачьими полками при армии, собиравшейся тогда в Пруссию.
Прибыв к месту своего назначения 26-го Января 1807 г., Платов на другой же день успел отличиться в кровавом бою под Преисиш-Эйлау и неутомимо преследовал французов от Ландсберга до Гейпьсберга; наконец, он мужественно прикрывал отступление русских войск к Тильзиту, за что награжден алмазными знаками к ордену Св. Александра Невского, драгоценной табакеркой с портретом Императора Александра 1-го и, 22-го Ноября—орденом Св. Георгия 2 степени, а от Прусского короля получил ордена Красного и Черного Орлов и тоже драгоценную табакерку с королевским портретом.
В 1809 г. Платов находился в числе особ, сопровождавших Императора Александра 1-го на Финляндский сейм в г. Борго, после чего, он был отправлен в Молдавскую армию и 29 июня был уже за Дунаем. В Августе 1809 г. занял город Бабадах и принудил к сдаче крепость Гирсово; 1-го Сентября получил орден Св. Владимира 1 ст., 4-го Сентября содействовал победе князя Багратиона при Рассевате, а 23-го Сентября разбил между Силистрией и Рущуком пятитысячный турецкий корпус, за что произведен в генералы-от-кавалерии.
С началом Отечественной войны 1812 года Платов, командуя всеми казачьими полками легкого корпуса, прикрывал со стороны Поречья и Рудии отступление нашей армии, а после сражения 4—6-го Августа, у Смоленска, составлял арьергард соединившихся армий.
26-гс Августа, под Бородино, находясь на правом фланг русской позиции, он направил своих казаков, при знаменитой атаке генерал-адъютанта Уварова, на левый фланг позиций французов против вице-короля Итальянского.
При отступлении от Москвы шел в арьергарде, причем у Можайска выдержал сильный натиск кавалерии короля Неаполитанского.
19-го Октября, под Колоцким монастырем, опрокинул арьергард маршала Даву, потерявшего здесь 27 орудий.
22-го и 23-го Октября помог Милорадовичу разбить под Вязьмою соединенные корпуса Даву, Нея и вице-короля Итальянского.
27-го Октября сам поразил на р. Вопи вице-короля Итальянского, у которого отбил 23 орудия, за что 29-го Октября возведен в графское Российской Империи достоинство.
8-го Ноября добил остаток корпуса Нея на переправе за Днепр у Сырокоренья, 11-го занял Оршу, а 15-го—Борисов.
28-го Ноября истребил на Погулянке, близь Вильны, 30-ти тысячный неприятельский корпус.
2-го Декабря нанес окончательное поражение французам у Ковно и немедленно переправился за р. Неман, а 1-го Января 1813 года был уже за р. Вислою, где удостоился получить лестный рескрипт Императора Александра 1-го.
В течении Отечественной войны войсками Платова взято всего: 546 орудий, более 30-ти знамен и до 70.000 пленных.
Начав кампанию 1813 г. блокадой Данцига, граф Платов, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, сдал эту блокаду генерал-лейтенанту Левиэу и отправился в главную квартиру, где остался при Императоре Александре 1-м до Поишвнцка о перемирия.
16-го Сентября разбил у Ольтенбурга французский корпус Лефевра и преследовал его до Цейца.
4. 6 и 7-го Октября участвовал в «Битве народов» под Лейпцигом, и, преследуя неприятеля, взял в плен около 15 тыс. человек. За это дело он был награжден орденом Св. Андрея Первозванного.
10-го Октября снова поразил Лефевра под Веймарном.
Съ 16-го по 18-ое Октября помог баварскому корпусу генерала Вреде удерживать французов у Гайнау, за что награжден богатым бриллиантовым пером на шапку (челенгой) с вензелем Императора Александра I и лаврами для ношения на шапке.
В 1814 году, по вступлении союзных войск в пределы Франции, граф Платов, предводительствуя по прежнему легкими отрядами, ознаменовал себя новыми подвигами при Лионе, Эпинале, Шарме, взял Немюр, дрался при Арсисе, полонил у Сезанна отряд старой Наполеоновской гвардии, занял Фонтенебло и явился в Париж, откуда сопровождал Императора Александра I в Лондон, где англичане, восхищенные подвигами Донского атамана, поднесли графу Платову богатую почетную саблю и назвали именем его корабль, тогда же спущенный на воду, тогда как члены Оксфордского университета поднесли атаману докторский диплом.
В кампанию 1815 г. граф Платов хотя и был вторично во Франции, но не имел случая участвовать в военных действиях, а с водворением общего мира, возвратясь на родину проживал на Дону, пользуясь постоянным вниманием всех соотечественников. Умер граф Платов 3 Января 1818 года на Дону в слободе Еланчинской, и тело его погребено близ Новочеркасска, где на Александровской площади в честь знаменитого атамана воздвигнут памятник, открытый 9-го Мая 1853 г. с надписью: „Атаману графу Платову, за военные подвиги с 1770 по 1816 год признательные Донцы".
Сказки и правда об атамане Платове
Платов, граф Матвей Иванович (1753—1818), генерал от кавалерии, войсковой атаман в 1801-1818 гг., вечный шеф 4-го Донского казачьего полка. Прославленный герой Дона.
Его отец был выходцем из казачьих низов, казаком станицы Прибылянской в Черкасске, которая самим названием своим говорит о том, что в ней селили пришельцев (название станицы от «прибылых», а не от «прибыли – наживы») из самых разных мест. Дед Платова ловил рыбу по найму для богатых и знатных казаков. Отец, карьерой свой обязан успешной службе в Донском атаманском отряде – «Сотной команде казаков для секретных дел» – казачьем спецназе. Вероятно, как офицер пользующийся особым доверием, обладающий возможно, качествами, как бы мы сегодня сказали, контрразведчика, Иван Платов во время угрозы движения пугачевцев в сторону Москвы в 1774 г., перекрывает все пути для проникновения в древнюю столицу и далее на север агитаторов с «прелестными письмами» и лазутчиков «Мужицкого царя Петра Феодоровича», чем способствует тому, что здешние крепостные и прочий подлый люд (платящий подати) «в смущение не впадает».
Именно близостью к властям можно объяснить, что «безродному» Ивану Платову удается женить сына Матвея на дочери главы донской казачьей аристократии Степана Ефремова.
Увы! Родив сына Ивана Матвеевича, двадцатишестилетняя Надежда Степановна (1757 -1783 гг.) умерла. Потеря жены усугублялась для Матвея Платова еще и тем, что он сразу «вылетел из обоймы казачьих аристократов» и дорога к власти для него закрылась. Его ума и храбрости (таких то на Дону полно!) для карьеры оказалось недостаточно. Чин полковника он получил, поздно, только в 1788 году, долго командуя полком, то есть в 35 лет. Для сравнения: Иловайский 5 -й стал генерал –майором в 24 года , а Иловайский 12 –й в 27 лет.
Смешно читать резвую байку о том, как Платов «самый младший» на военном совете при взятии Измаила первым выкрикнул «Штурм!», чем завоевал любовь А.В. Суворова. Платов – самый младший по чину, а по возрасту едва ли не самый старший. И решение свое, совпавшее с мнением Суворова, произнес, не по юношеской петушиной горячности, а имея за спиной четверть века боевой службы! Платов был не знатен, но славен! Про полковника Платова уже пели песни!
В конце русско-турецкой войны в 1774 г., Платов приобрел легендарную, можно сказать, фольклорную известность победой над крымцами и ногайцами у степной речушки Калалах. Два казачьих полка, сопровождали транспорт с беженцами, уходившими на то время с Кубани и продовольствием для снабжения русских войск на Кавказской линии, подверглись внезапному нападению десятитысячной орды кочевников. Эта та самая история, когда
«На Великой Грязи (тюркск. калалах ),
Там где Черный ерик, ( тюркс. трещина, разлом, овраг)
Татарва нагнала сорок тысяч лошадей!»
Каждый конник в набеге вел три «заводных» (т.е в поводу) лошади. Одну – сменную верховую и вьючных, поскольку обозов, кочевники, (равно и казаки) с монгольских времен не имели. Далее по тексту:
«И покрылся ерик,
И покрылся берег –
Сотнями порубанных, пострелянных людей!
Любо, братцы любо,
Любо, братцы жить….!
Песню приписывают самому Платову, точных доказательств тому, пока, не имею, но скорее всего, что, в при любом авторстве, она про полковника Платова и про это сражение!
Укрывшиеся за мешками с мукой, «в чистом поле, как на скатерти», казаки постоянно, после залпа, (ружья то однозарядные!) переходя в рукопашную, выдержали двое суток почти непрерывной резни и дождались подмоги. «С нашим атаманом не приходится тужить!»
Дальше поется и про то как
«Жена погорюет – выйдет за другого!
Выйдет за другого да забудет про меня!»
И это из биографии Платова. Он тот самый «другой»! За Платова вышла замуж вдова его близкого друга Павла Фомича Кирсанова. (сына казачьего аристократа Сидора Фомича Кирсанова – Наказного атамана, свалившего всесильного Степана Ефремова, первого тестя Матвея Ивановича Платова! Вот какой интересный клубок отношений и связей!) Марфе Дмитриевне, в девичестве Мартыновой! А вот Мартыновы – самый цвет донских аристократов и, вторые, после Ефремовых, богатеи на Дону! Таким образом, Платов вернулся в круг самых знатных, ведущих родословные с ордынских времен, донцов, да еще стал отчимом Кирсана (Хрисанфа) Павловича Кирсанова – в будущем – командира легендарного Атаманского (его, графа М.И. Платова) полка. Но пока Матвею Ивановичу до графского титула еще как до неба! Благодаря «привенчанному» родству карьера его резко меняется!
Разумеется, донские аристократы не забыли, что Платов – безродный, и он, кстати испытывал к старой аристократии те же, далекие от любви, чувства, (что послужило одной из причин переноса донской казачьей столицы из Старочеркасска в Новочеркасск). Потому в 1792 году, когда донцы бунтовали, не желая переселяться на Линию, его во главе Чугуевского казачьего полка калмыков, отправляют на пресечение волнений в донских станицах,. И он подавляет их с неслыханной жестокостью, перепоров на майданах сотни казаков, не взирая на их возраст и награды, явив свое верноподданство престолу! Но это еще и демонстрация силы перед старой аристократией, не желавшей признавать Платова. Аристократы притихли. Однако, Платов зарвался! За что сразу и поплатился!
Безупречно честный и брезгливый ко всякому мздоимству аристократ и светлая головушка, храбрец из храбрецов и «почтительный сын», А.К Денисов сильно падению Платова поспособствовал. Вин Матвею Ивановичу насчитали много! В частности, многолетнюю задержку жалования тем же чугуевцам, поминок то Платову казачки не несли – плебей, а в деньгах оказывалась большая нужда! Но это, так сказать, формальный повод, а неформальный – ходил в любимцах Екатерины II, стало быть, при Павле I, по дорожке протоптанной бывшим тестем С.Д Ефремовым, отправился в каземат Петропавловской крепости, а оттуда в ссылку в Вятку. Могло быть и хуже! Спасла воинская славушка и государственная нужда в боевых командирах., так что, практически, прямо из русских северных снегов пошел донской атаман в заволжские снега несчастного похода на Индию.
Вернувшись, как тогда говорили, «в случай», Платов использовал его на 200%! В 1805 году он переносит административный центр Войска Донского из Старочеркасска в новостроенный город Новочеркасск.
О перенесении столицы на новое место казаки просили давно. Старочеркасск разросся, все более превращаясь из торгового, портового центра в заштатный городок, постоянно заливаемый наводнениями и паводками. Однако, идея о новой столице донских казаков, воплотилась в жизнь только благодаря энергии и связям М, И. Платова. Собственно, казачий атаман сделал то, что за столетие до него проделал Петр I, чтобы избавиться от давления бояр, перенеся столицу империи из Москвы в новопостроенный Петербург. Тоже совершил и Платов. Так же как и Петр, одной из руководящей его делами, идеей – освобождение от старой казачьей аристократии, чье гнездо (Старый) Черкасск.
Однако, было множество и других причин, которые при беглом взгляде на это событие не особенно заметны. Например, отрыв города от берегов Дона – не просто уход от широкой речной дороги, это переход от господства рыбацкой экономики к земледелию. (Еще Петр, подсекая старинную экономику казачества, запрещал донцам ловить рыбу. Платов переводил хозяйство на «земледельческие рельсы». Отныне Дон живет с «земли и травы» т.е. скотоводство- земледелие, а не «с воды» ) Есть и другие загадки.
Декларируя новую казачью столицу, как место для отдохновения заслуженных воинов, как город усадеб с комфортабельными, по тем временам, домами, утопающими в садах, с внутренними двориками и беломраморными фонтанами в них, Платов строил нечто иное. С точки зрения военной, Новочеркасск представлял собою весьма серьезное укрепление. Причем укрепление нового времени, без крепостных стен, но с одной ведущей в город дорогой, причем, по дамбе и территорией вокруг поселения, которая легко затоплялась и превращалась в непроходимое болото. Эта единственная дорога и все вокруг города хорошо простреливалось, поскольку Новочеркасск на горе. «Построил Платов город на горе, казакам на горе!» – известное на Дону присловье.
Ну, это ведь, необходимо! Угроза набегов на станицы с Кавказа и из Заволжья все еще существовала. Разумеется! Но Новочеркасск изначально был готов к обороне при нападениях со всех сторон! В том числе и со стороны России!
Не прост был «Вихрь – атаман», и при гениальном умении изображать простецкого малого, «косак ля рус», который только что и делает, что «крутит кольцами усы, пьет кизлярку на задумной укушетке», в общем, «мужественный старик» из Левши Н. Лескова, Платов никогда таким не был. При, как теперь говорят, «имидже» человека из народа, что сильно импонировало основной массе казаков, Платов – из новой элиты, смертельно враждовавшей со старой донской аристократией, ненавидевшей ее, но нуждавшейся в ее поддержке или хотя бы признании. Верный пес Империи, «слуга царю, отец солдатам», Родиной то он, по старинному казачьему обычаю, считал только Дон! И строил новый город так, чтобы, случись беда, от имперских войск отмахаться.
Платов – великий артист, человек изощренного не только воинского, но и дворцового ума, который в придворных интригах плавал, как рыба в воде. Будь он другим – не сделал бы одной саблей да верностью присяге, головокружительной карьеры. Будь он другим – не приобрел бы он посмертной славы среди казаков, все помнивших, но многое ему простивших.
Так что же, так его никто и «не раскусил»? Был не меньший интриган, карьерист и военный гений, который понимал Платова и, похоже, терпеть его не мог – М.И. Кутузов. Они, на мой взгляд, как – то похожи – один изображал черноземную простоту, другой – немощность старца, а друг друга видели насквозь! Доказательства? Платов от Кутузова не получил ни одной награды! А кроме итого был один эпизод в знаменитом Бородинском сражении, которое историки стараются обходить молчанием.
При изучении пристальном событий тех дней, бросается в глаза, что легкая кавалерия и казаки проявили себе только в рейде Уварова при обходном маневре французской армии, когда своей вылазкой задержали наступление французов на два часа. Дело, разумеется блистательное, но это все, ничего больше…
Да как же было устоять легкой кавалерии против кирасир? Это разговор отдельный. Эпизод же, о коем мы говорим, очень характерен. Французы в числе 30 тысяч кавалерии намеревались ударом с фланга по оврагу зайти русской армии в тыл. В овраге стояли 6 тысяч казаков под командой Платова. Узнав о готовящейся атаке французской конницы, Кутузов приказал казакам нанести упреждающий удар, то есть выйдя из оврага атаковать самим. Дальше произошло поразительное! Вернувшийся в ставку посланец, в ужасе сообщил ,что и приказа то отдать не смог – Платов – пьяный и все офицеры тоже! Чуть с коней не падают. Атаковать не могут.
О том , что Кутузов, понял суть происшедшего, свидетельствует то, что, скрепя сердце, он оставил это явное воинское преступление атамана без последствий.
Ларчик просто открывается! Французы, выстроившиеся у оврага, видели стоявших в нем казаков, но сколько их не знали. Авиационной разведки тогда не было, хотя французы уже и пользовались с этой целью воздушными шарами – монгольфьерами.
Чтобы атаковать казаков в овраге, они должны были выстроиться колонной, стало бы потерять все преимущества численного превосходства, а свалка в овраге «закупорила» бы его как пробка. Они так и простояли не решаясь атаковать.
А вот если бы казаки выступили, согласно приказу, на равнину, если бы французы увидели – сколько их, кирасиры раздавили бы все казачьих шесть тысяч, как паровой каток лягушку. Казаков бы смела стальная лавина тяжелой кавалерии. Конечно, это заняло бы некоторое время! Конечно, казаки бы, как всегда , «покрыли себя неувядаемой славой». Возможно, пока французы их уничтожали, подтянулись бы какие то резервы и не дали французам выйти русским в тыл… Но Платов посчитал, что лучше, вообще, обойтись без резни. Задачу – то он выполнил – французов в тылы не допустил, а главное, – казаков сберег!
Что для Кутузова шесть тысяч потерь иррегулярного войска! Мобилизационные ресурсы России тогда, в сравнении с Францией, неисчерпаемы. Под ружьем стоял один из 43 годных к службе рекрутов! «Чего их беречь – бабы новых нарожают!»
Для донских же казаков, коих тотальная мобилизация вымела из станиц, всех поголовно, когда в одном стою стояли отец, дед и внук и набиралось их не более 60 тысяч – 6 тысяч это каждый десятый! Да ведь еще при Платове в тот день стояли лучшие! Вот и «не дал батька атаман в трату своих детушек!» – потому и памятник ему стоит, и Новочеркасском соборе его каждодневно поминают!
Читая о Платове, мы как то все время упускаем из виду, что как всякий живой человек он менялся на протяжении жизни, и Платов под Измаилом уже только смутно проглядывает в Платове, вернувшимся из Парижа в Новочеркасск Когда кто, увидев на полевом параде, через поредевшие ряды, когда то такой монолитный конницы, идущей стремя в стремя, так плотно, что, как поется в песне, «пыль не смела подняться до лиц казаков», широкую и пустынную донскую степь, пал на колени и закричал, рыдая, «Господи, что я наделал! Прости, Батюшка, Тихий Дон!»
Платов, который за три года, успел прожить еще одну жизнь, ведь куда не посмотри – конные заводы – Платов, гимназии – Платов, богадельни – Платов, больницы – Платов! – совсем другой человек, чем тот «доблестный забавник» из дворцовых исторических анекдотов, и даже совсем не тот, с лубочных картинок, кто с обнаженной саблей летел впереди, полков, гоня супостата, ища славы!
Кстати, о славе… Умирал он тяжело, мучительно. Рак желудка. В последний день велел принести все награды и подарки. Стали их вынимать из коробок и футляров – ордена, табакерки, усыпанные бриллиантами, золотые кубки и чарки, драгоценные перстни и золоченые сабли… И всего оказалось столько, что покрыло это великолепие весь пол в горнице, где на кушетке лежал умирающий атаман. Глянул он на игру и блеск камней и золота, на блики, плясавшие в изразцах грубки, и сказал, закрываясь шинелью:
– Слава, слава… И на что же ты мне теперь?!
С тем и отошел, окончивши легендарную, и в общем, как и положено герою, трагическую и сложную жизнь «Вихорь-атаман». Трагичной была она и у других атаманов, особенно у тех, кто любил Дон, казаков, желал им счастья, и трудился во благо казачества.
P.S. Да, касательно англичанки, про которую роняя старческую сексуальную слюну, с жадностью и завистью импотента пишет г-н Давыдов, сравнивая его поведение с целомудрием казака Землянухина, искренне завидуя успехам бумагомарак и щелкоперов, пишущих похабель о Екатерине Великой.
Так вот к сведению г-на Давыдова. Платов, в пору его пребывания в Англии, второй раз вдовел, так что в отличии от состоящего в законном венчанном браке, в коем измена – смертный грех, Землянухина, никому зла не делал. Тем более, что по казачьим понятиям, в этом случае «Гульба молодцу не в укор!»
Как сказано у англичанина Редьярда Киплинга: «Мужчине нужна подруга! Бабам этого не понять! А тех, кто понимает – не принято замуж брать!»
Кроме того, какие были у них отношения и что связывало Матвея Ивановича с англичанкой, которая в казачьих сказках об атамане Платове именуется «Барышней Мисой» – не известно. И не следовало бы туда нос совать! Скорее всего, действительно, не «физика», а именно «мораль», ибо вспоминают ее по сю пору со словами благодарности, поскольку грозу гнева вспыльчивого, как все казаки, атамана только она одна могла «утишить» и от многих голов, воздетую над ними атаманскую нагайку, отводила не раз, бесстрашно становясь между атаманом и провинившимся… Да упокоит ее во Царствии Небесном святой Сампсоний странно приемник – молитвенник за всех не православных христиан, коей и была барышня Миса.
А теперь об Иловайском, который, как. утверждает г-н Давыдов, грабил православные церкви и порол по известной казачьей дикости и хамству «газетиров».
Род генералов Иловайских
Иловайские огромный и заслуженно прославленный казачий аристократический род. Двенадцать Иловайских с отличием участвовали в Отечественной войне 1812 г.
Господин Давыдов, ужасается поступкам генерала от кавалерии Василия Дмитриевича Иловайского 12 –го. того, что приказал пороть «газетиров», но, по всеобщей советской исторической малограмотности, путает его с Иловайским 4-м – Иваном Дмитриевичем, генерал-лейтенантом, который в 1812 году был комендантом Москвы, после оставления ее французами. Именно Иловайский – 4-й оправлял трофеи из французских обозов на Дон. А куда их было девать, если церкви, где они находились прежде, разрушены и сожжены? Между прочим, из серебра окладов русских икон, кои невозможно было вернуть в порушенные храмы, казаки отлили раку Св. Александра Невского в Петербурге, (что нынче находится в Эрмитаже и возвращать ее нынешняя демократическая власть церкви не собирается), и алтарь в Казанском соборе – его благополучно выломали, продали на Запад и барыш «раздуванили» большевики – ленинцы.
А вот послужной список «негодяя –нагаечника, душителя свободы слова» по Давыдову, а по – нашему – героя из героев казачества и России, чей портрет украшает Галерею Героев 1812 года в Эрмитаже, Иловайского – 12 –го.
Генерал Иловайский – 12-й, Василий Дмитриевич
Сын Наказного атамана войска Донского Дмитрия Ивановича Иловайского-1-го (1737-1800), Василий Дмитриевич Иловайский (12-й), родился в1785 году. В 1801 году он был выпущен в офицеры из 2-го кадетского корпуса, дававшее блестящее всестороннее образование. Не в пример большее, чем у дворянских недорослей с их домашними учителями и гувернерами Почитайте Н. Лескова Рассказы о трех святых. Б.А. И если вынужден был прибегнуть Иловайский 12-й к традиционным казачьим методам внушения, то , вероятно, иных средств не имелось! «Достали газетиры!»
Боевое свое поприще он начал на семнадцатом году от роду, сотником, в 1806 году в войне с французами, участвуя в деле у Плонска.
14-го Января 1807 года, встретив недалеко от Гоненштейна эскадрон французских конных егерей, он разбил его и взял в плен капитана и 24 рядовых: затем сражался с французами под Эйлау, за что и награжден, установленным в память этой битвы, золотым крестом на георгиевской ленте;
27-го Апреля, переправясь вплавь через р. Алле, Иловайский разбил неприятельский пикет: опасаясь той же участи, другой пикет спасся бегством;
24-го Мая в сражении под Гуштатом, опять переплыв с добровольцами через реку Алле, выбил из окопов неприятельские пикеты, положив многих на месте и взяв в плен одного офицера и 30 рядовых; на другой день во время преследования неприятеля за Пассаргу, он отбил у него орудие и взял в плен офицера и 44 рядовых.
За кампанию 1806—1807 гг. Иловайский получил золотое оружие и орден Св. Анны 4 степени.
В 1808 г. Иловайский был командирован в Молдавскую армию.
1-го Января 1809 г. он 24-х лет произведен в войсковые старшины,: 29-го июля того же года перешел через Дунай и принял участие в ряде схваток и дел, командуя полком. На марше от Гирсова к Силистрии,
30-го Августа, до 2000 турок высыпали из своего лагеря при Рассевате и с яростью напали на казаков, шедших впереди армии. Отступая, Иловайский заманил неприятеля в засаду, где был поставлен другой казачий полк, и ударил на них. Турки долго сопротивлялись, но были опрокинуты и преследованы через Троянов вал до самого лагеря, потеряв в этом деле много убитыми и пленными. Через день отряд турок, до 4000 конных и пеших, выйдя из лагеря, возобновил атаку на передовые наши посты, но турки опять были удержаны Иловайским, который, опрокинув турецкую конницу на пехоту, лично рубил бегущих. За это блестящее дело Иловайский награжден орденом Св. Георгия 4 степени.
4-го Сентября турки, разбитые на голову при Рассевате, бросили весь свой лагерь и спешно бежали к Силистрии, устилая путь своими трупами. В этом сражении Иловайский, начальствуя охотниками из казаков, на правом нашем крыле атаковал появившуюся из окрестностей турецкую конницу, отбросил ее, врезался в пехоту, выгнал ее из окопов и взял одно орудие. Затем, он опять разбил собравшуюся пехоту и конницу и овладел еще двумя орудиями, а разбитых и спасавшихся бегством турок, он преследовал на 30 верст по лесам и болотам, возвратясь с многими пленными и с 5-ю отбитыми знаменами; за это дело он был награжден орд. Св. Анны 2 степени. На другой день он напал на турок, бежавших к Кузгуну и захватил 4 орудия, 13 зарядных ящиков и запасы хлеба.
10-го Сентября он вызвал охотников из казаков, переправился с ними вплавь через Дунай, вступил на один из его островов и истребил до последнего человека, находившихся там турок.
22-го мая 1810 г; разбитые и вытесненные из Базарджика турки бросились конными группами на Шумлинскую дорогу; Иловайский понесся за ними и, преследуя их 20 верст, рассеял их совершенно, при чем захватил три знамени и 98 пленных, в том числе одного пашу и 22 чиновных турок. За этот подвиг он был награжден чином подполковника.
26-го Апреля в сражении при Батине Иловайский, действуя на левом крыле, взял одно орудие и пять знамен, а вечером, по окончании битвы, преследуя, турок, взял еще три знамени, за что был награжден чином полковника.
Для нанесения решительного удара турецкой армии, Кутузов послал в тыл ей на правый берег Дуная к Рущуку корпус Маркова, в коем находился и Иловайский с двумя казачьими полками. Переплыв Дунай, Иловайский ворвался в лагерь визиря и, пока подходила наша пехота, захватил множество пленных, 2 мортиры, 7 пушек, 12 знамен, за что был награжден орденом Св. Владимира 3 степени.
В июле 1812 г. Иловайский принимает участие в сражениях против французов, с особенною храбростью в делах при Романовке, под Велижем, при Поречьи, поражая неприятеля и захватывая пленных. Когда Французы были в Москве, Иловайский у дер. Химки атаковал, ночью, неприятельский авангард, разбил его, преследовал несколько верст и взял в плен 270 человек: за храбрость, деятельность и искусное распоряжение в этих делах, произведен в генерал-майоры (Ему 27 лет!).
При вступлении первым в оставленную неприятелем Москву, Иловайский был атакован у Петровского дворца полутора тысячным неприятельским отрядом. Ударив во фланг, Иловайский разбил этот отряд, гнал до самого города, положил на месте 50 человек и взял в плен 62. Донося об этом Государю, очевидец, генерал Винцингероде, прибавляет: „Считая всегда венгерскую конницу первою в мире, после виденной мною атаки Иловайского, я должен отдать преимущество казакам перед венгерскими гусарами".
Идя впереди Кутузова за отступившим неприятелем, Иловайский 28-го Октября того же года у Духовщины атаковал французского генерала Сансона и взял его в плен почти со всеми его офицерами, 280-ю нижними чинами и отбил при этом 10 орудий; близь Орши захватил в плен более 500 человек, а ночью у Ковно полонил одного генерала, 202 штаб и обер-офицеров и 2262 рядовых, за что получил алмазные знаки к ордену Св. Анны 2 степени.
В заграничном походе 1813 и 1814 гг. он принимал деятельное участие в сражениях и, особенно, в преследовании разбитого неприятеля. На пути к Кульму Иловайский окружил своим полком отступавшего маршала Вандама и взял в плен его, множество штаб и обер-офицеров и нижних чинов и захватил 8 орудий.
6-го Октября 1813 г., накануне взятия Лейпцига, Император Александр, убежденный в скором бегстве Наполеона, приказал Иловайскому, сколько возможно, действовать впереди неприятеля и стараться останавливать головы его колонн, чтобы союзные войска удобнее могли его преследовать. Исполняя повеление Монарха, Иловайский переправился с двумя Донскими полками через реку, пошел впереди войск Наполеона, по направлению к Франкфурту истребил мосты и магазины, заваливал, чем мог, главную дорогу, выдерживая все время частые схватки с неприятельскими отрядами. Выступив из Веймара. Иловайский имел удачное дело с конною дивизией генерала Фурнье; 8 офицеров и до 400 нижних чинов были при этом взяты в плен. На следующий день,
15-го Октября, Иловайский соединясь с генералом Чернышевым, истребил в Фульде большой магазин и мост, и взял в плен до 500 человек. Затем дважды вытеснял из этого города авангард армии Наполеона. У Ганау Иловайский и Чернышев напали на французов с тыла и до 4.000 человек заставили положить оружие. Достигнув Франкфурта-на-Майне, Иловайский остался там, в ожидании прибытия Императора Александра с гвардией.
По приезде Государя во Франкфурт, Иловайский получил через князя Волконского повеление надеть свой Георгиевский крест вместо петлицы на шею.(Изменение с четвертой степени на третью, с повышением на степень. Б.А) Кроме ордена Св. Георгия 3 ст. Иловайский получил украшенную алмазами шпагу „за храбрость" и прусский орден Красного креста 2 степени.
В кампанию 1814 г. 19-го Января он разбил несколько эскадронов французской конницы близь Васси и занял этот город. Следуя от Васси к Монт-Эрандеру, он напал на часть неприятельского арьергарда и взял в плен бригадного генерала фон-Мергена, 16 штаб и обер-офицеров и слишком 200 нижних чинов, за что получил орден Св. Владимира 2 ст.; за дело 15 Февраля, в котором Иловайский захватил более 500 пленных, он получил орден Св. Анны 1 степени и австрийский орден Леопольда. При Фершампенуазе врезался с казачьими полками в две неприятельские колонны, отбил 5 орудий и взял до 900 пленных, в том числе двух полковников и 15 обер-офицеров. Во время преследования французов от Фершампенуаза къ Парижу, он полонил еще 139 человек.
В Париже Император Александр послал за Иловайским, принял его в своем кабинете и осчастливил милостивыми отзывами о службе его. Стоявший в то время у окна Государева кабинета Цесаревич Константин Павлович сказал Его Величеству, указывая на Иловайского: „Он, по номеру двенадцатый, а не дюжинный".
Всего казаками Иловайского 12-го за три года было взято с бою в плен 3 генерала, 350 офицеров и 10 тысяч нижних чинов, отбито 12 вражеских знамен и 40 пушек. В каждой крестьянской избе имели лубочное изображение Иловайского с надписью: «Иловайский-хлопчик супостата топчет».
Возвратясь на Дон, Иловайский был назначен в мае 1823 г. походным атаманом Донских казачьих полков в отдельном Кавказском корпусе.
26-го Августа 1826 г. он был произведен, за отличие по службе, в генерал-лейтенанты. Прибыв в Грузию, он поступил под начальство генерала Паскевича. За участие в блистательном поражении неприятеля у Джеван-Булаха Иловайский награжден золотою, бриллиантами осыпанною, табакеркою с портретом Государя. Вскоре Иловайский получил дозволение ехать в Россию для поправления расстроенного здоровья и, послужив на Дону еще около 13-ти лет, был уволен в 1840 г. по домашним обстоятельствам, от службы с мундиром. Но в истории России Василий Дмитриевич Иловайский остался не только как талантливый военачальник, но и как талантливый коннозаводчик. Его деятельность на этой почве гораздо менее известна, так же, кстати, как и деятельность графа А. Орлова. Донские атаманы Платов и Иловайский стояли у истоков Задонского коннозаводства, которое с последней четверти XIX века стало основным поставщиком лошадей для всей русской армии.
После организации атаманом М.И. Платовым в 70-х годах XVIII века своего конного завода, иметь конный завод на левом берегу Дона считалось престижным. Примеру Платова последовало богатое родовитое казачество. В Задонье один за другим конные заводы организуют: П.П. Янов с 1776 г., И.М. Сериков с 1777 г., А.В. Иловайский с 1778 г., Н.В. Иловайский с 1780 г., М.М. Кузнецов с 1780 г., М.Ф. Калашников с 1794 г., Ф.Н. Поляков с 1795 г., Д.Е Кутейников с 1794 г.. Для развития донского коневодства значение появление конных заводов трудно переоценить. Во-первых, шло постоянное улучшение породного состава лошадей, во-вторых, совершенствовалась технология конеразведения.
Завод В.Д. Иловайского был самым крупным в Задонье. В отдельные годы численность лошадей доходила почти до 5 тыс. голов. В 1848 г. у него было 4994 лошади, но после тяжелой снежной зимы поголовье сократилось почти в 2 раза. Спустя 10 лет к 1858 г. количество лошадей дошло до 4870 голов. В дальнейшем поголовье лошадей в заводе В.Д. Иловайского и его вдовы Новиковой значительно сократилось, тем не менее, оставаясь одним из самых крупных в Задонских степях, в 1863 г. оно насчитывало 900 маток.
В.Д. Иловайский был большим почитателем восточных персидских лошадей. В 1827 г., вернувшись из Персидского похода, как свидетельствует М. Измайловский, управляющий заводом Новиковой, В.Д. Иловайский привел 5 персидских жеребцов: Сардара, Лобатого, Хивинского, Араратского и Воейковского, 12 маток, и 12 двухлетних жеребчиков. Существуют воспоминания, что из персидского же похода Иловайский привел персидского жеребца из Ардебиля. Этого жеребца он долго торговал у местного хана, а когда тот отказался продать лошадь, казаки отбили жеребца силой, сделав подарок любимому атаману.
Из своего наследственного табуна Иловайский отобрал лучших кобыл и вместе с 12 выводными матками образовал табун для персидских жеребцов. Персидский табун разместили в лучший Чикалдинский зимовник недалеко от Маныча, с ключевыми водопоями и хорошими зимними выпасами. Из 12 приведенных 2-х летних жеребчиков, 3 самых лучших – Испаган, Меймун и Багдадский – поступили в заводское использование. О восточном происхождении жеребцов свидетельствуют сами их клички. Сардар или Сарыляр означает золотистый. Меймун или Маймун – один из типов карабахской лошади, в тот период Карабах находился под владычеством Персии. Лошади Карабахского Ханства отличались сухостью конституции, благородством форм и необычайно красивым золотистым оттенком масти. Каждый оттенок золотистой масти имел свое название: сары-кюрган – золотисто-рыжая, сары-кара-кюрган – золотисто-бурая, сары-кегер – золотисто-гнедая, сары-ачих – светло-золотисто-рыжая. Особо ценилась масть нарындж – «лимонная или желто-бурая с очень заметной искрой на всякой шерстинке, при том грива и хвост – темно-каштанового цвета с кровавым отливом в конце волоса». По преданию такая масть была у любимой кобылы Магомета Зульфии, на которой он отправился в путешествие на седьмое небо.
Умножить свой персидский табун В.Д. Иловайский пытался и за счет приобретения лошадей в Карабахе. Туда он посылал своих доверенных людей для покупки маток, где и купил 6 кобыл. От приведенных из Карабаха кобыл было получено 8 жеребчиков и 3 кобылки. 7 жеребчиков в дальнейшем поступили в заводское использование под именами: Джеран, Баба-хан, Карабахский, Мехти Хан, Имам-Кули, Рулет и Бриллиант. Благодаря коннозаводческой деятельности В.Д Иловайского донская лошадь приобрела свойственную персидским лошадям благородство, нарядность, неповторимый золотистый оттенок масти и в то же время не потеряла приспособленности к степным условиям содержания. Эти качества способствовали очень быстрому распространению лошадей с восточной кровью в задонских конных заводах.
У Иловайского были не только персидские табуны. За большие деньги В.Д. Иловайский покупал чистокровных жеребцов в известных российских конных заводах. Доставал лучших жеребцов из малороссийских (украинских) заводов. В 1837 г. он купил 12 косяков у коннозаводчика Мартынова. Это были лошади совсем другого типа: рослые, тяжелые, более способные к работе в упряжи, чем под верхом. В донских степях не было завода, где не использовались бы жеребцы, рожденные в заводе Иловайского. В.Д. Иловайский первый ввел в своем заводе заводские книги. Продолжала вести заводские книги и его вдова Новикова, а в дальнейшем и князь Меньшиков, который приобрел часть завода Иловайского.
В донских лошадях завода князя Меньшикова «персидский» тип был выражен особенно ярко. Лошади его завода пользовались большой популярностью у задонских коннозаводчиков. Осколок этого завода достался и советскому коннозаводству в виде потомства жеребца Павлина, который происходил от, как тогда говорили, персидского Орла и персидской матки. Внук Павлина, Пион р.1906 г., проработал в конезаводе им. Буденного до глубокой старости. Последний его приплод был получен в 1929 г. Дочери Пиона образовали гнездо ценных маток, носительниц ценнейшего восточного типа, основательниц семейств, представители которых до сих пор имеются в породе.
Лучший сын Пиона Жасмин р.1927 г. был получен от одной из самых ценных донских маток Маруси. В 1940 г. Жасмин был признан чемпионом породы. Во время войны 1941 г. все поголовье племенных донских лошадей кон артели им. Буденного, в составе которого был и Жасмин, остается на оккупированной немцами территории и в полном составе отправляется в тыл, в Пруссию. Донские лошади там тщательно сохраняются, как и вся племенная документация на них, ксерокопии которых попадают к нам, в Россию, спустя более полувека. Лошади вернулись сразу, как наши войска перешли границу Германии. Потомство Жасмина в Зимовниковском заводе через его последнюю дочь Жертву 1945г.р., через правнучку по матери Веточку 1950 г.р. дошло до наших дней. Особенно интересен жеребец Забияка 1996 г.р., родословная которого через Пиона, Пашу, Павлина, Орла уходит в глубь столетий к лошадям завода В.Д. Иловайского.
Иловайский 3-й Алексей Васильевич (1767—1842), родился на Дону и в 1776 г. записан в службу есаулом. После продолжительной, службы на линиях Царицынской, Бугской и Кавказской, во время которой ему неоднократно приходилось бывать в делах, принял участие во 2-й тур. войне и отличился при Фокшанах, Рымнике и штурме Измаила, где был тяжело ранен., и в поражении турок у Мачина. В 1798 г. был произведен в генерал-майоры и вышел в отставку и вернулся в строй лишь в 1808 г. с назначением непременным членом Войсковой канцелярии, а в 1812 г. походным атаманом. Осенью 1812 г. привел в тарутинский лагерь 26 полков Донского ополчения и принял с ними участие в боевых действиях.: под Малоярославцем он захватил у неприятеля 11 пушек и до 200 пленных; у Колоцкого монастыря принудил неприятеля оставить 26 орудий со снарядами и несколько сот ружей. Затем он с успехом участвовал в сражении под Гжатском, Вязьмой, Дорогобужем, Духовщиной (где отбил 36 ор.), при занятии Ярцевой переправы, г. Ковны и в преследовании неприятеля до Данцига. За боев, отличия в эту войну И. б. награжден орд. св. Георгия 3 ст. В 1813 г. И. участвовал во взятии Эльбинга, Мариенвердера и Мариенбурга, при блокаде Штетина, Торгау и Магдебурга. В 1820 г. был назначен членом комитета для устройства Донского войска, в 1821 г. произведенный в генерал лейтенанты – наказным атаманом этого войска, с 1823 по 1827г. состоял войсковым атаманом Донского Войска.
В июле 1827 г., из-за противодействия введению «Положения об устройстве Донского казачьего войска», уничтожавшим последние казачьи свободы, был смещен с атаманства, а затем и предан суду. В 1831 г. был уволен в отставку.
Иловайский 4-й Иван Дмитриевич (1766/1767-1826), генерал-лейтенант, в 1812 г. тот самый комендант Москвы кто после оставления ее французами, оправлял обозы на Дон и многое спас. с 15 лет находился с Донскими полками на Кавказской линии и участвовал во многих военных экспедициях в Чечню и Грузию. Во время 2-й турецкой войны участвовал в сражениях под Кинбурном, при взятии Очакова, Каушан и штурме Измаила, награжден орленом Св. Георгия 4 ст. В 1799 году был произведен в генерал-майоры. Во время кампании 1806 года против французов, находясь с тремя казачьими полками в авангарде частей под командованием князя Багратиона, сражался при Альткирхене, Гутштадте, Анкендорфе, Гейльсберге и Фридланде.
В Отечественную войну И.Д. Иловайский участвовал в боевых действиях в составе арьергарда 2-й Западной армии, затем в заграничном походе сражался под Люценом, Бауценом, Лейпцигом, Красном и Парижем. Наградой за боевые действия генерала стали ордена св. Георгия и св. Анны и золотая с алмазами сабля.
Иловайский 5-й Николай Васильевич (1772—1828), генерал-лейтенант. Брат Алексея Васильевича Иловайского -3-го. в возрасте 6 лет уже был зачислен на службу казаком. В 8 лет принял участие в походе на Крым, а в 10 лет был произведен в есаулы, после чего служил с полком на Кавказской линии. В 14 лет участвовал во 2-й турецкой войне и был при взятии Хаджибея, Бендер и Измаила и в сражении при Мачине. В 1792—1794 годах участвовал в войне с Польшей, а в 1796—1797 годах – в походе на Персию. Произведенный в 26 лет в звание генерал-майора, он был походным атаманом трех казачьих полков на западной границе. Во время войны с Францией в 1806—1807 годах участвовал в сражениях при с. Лангенау, Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде. В 1808—1809 годах участвовал в войне с Турцией.
В Отечественную войну, находясь в арьергарде 2-й Западной армии, «при отступлении был в ежедневных боях», участвовал в Бородинском сражении, а затем в преследовании неприятеля. В 1813 году после Бауценского сражения был отпущен по болезни на Дон. За воинские действия награжден двумя орденами и золотой с алмазами саблей.
В 1815 г. сменил Денисова 6-го в должности наказного атамана, но уже в следующем году был сменен. Уволен в отставку в 1818 г.
Его внук, Степан Павлович (1833—1901), тайный советник, в 1875—1890 гг. управлял Хреновским конным заводом, был затем вице-президентом Царскосельского скакового общества и шталмейстером Высочайшего Двора.
Иловайский 6-й Петр Алексеевич ( +1834), Сын Алексея Ивановича Иловайского, полковник был первым директором Главного народного училища, открытого в 1793 г. в Черкасске.
Иловайский 8-й Степан Дмитриевич (1778-1816), участник суворовских походов 1799 г., в 1800-1806 гг. командовал Атаманским полком, а затем полком своего имени.
Иловайский 9-й Григорий Дмитриевич (1779/1780-1847), генерал-майор. С восьми лет в полку. В 1788 г. был записан в службу есаулом, а в следующем году произведен в сотники. Был в боях при взятии Очакова, Каушан, Бендер, Килии, Измаила. В 1800 году, командуя полком, участвовал в знаменитом походе казаков в Индию и дошел до Оренбурга.
В кампании 1806—1807 годов участвовал в ряде сражений и был награжден саблей с надписью «За храбрость». В Отечественную войну под Медынью истребил вражеский отряд, захватив 5 пушек и множество пленных. В сражении под Вязьмой уничтожил отряд численностью 2000 пехоты и конницы, под Красным участвовал в разгроме французской гвардии, взял в плен двух генералов, две пушки и множество рядовых. За заслуги в Отечественной войне награжден орденом св. Георгия 4-й степени. Г.Д. Иловайский участвовал также и в заграничном походе, и 1813 году был произведен в генерал-майоры.
Участвовал в кампаниях 1806-1807, 1812 и 1813-1814 гг. В 1818-1820 гг. непременный член Войсковой канцелярии (вице-премьер правительства). Его внук, Давид Иванович (1878-1935), был выдающимся ученым-палеонтологом.
Иловайский 10-й Осип (Иосиф) Васильевич (1775—1839), генерал-майор Брат Иловайских – 3-го и 5-го. в службу вступил есаулом в 16 лет и сразу же принял участие в войне с Турцией (1791) и в войне с Польшей (1796). В войне с французскими войсками в 1807 году в сражении при Малге, командуя полком: «презирая сильный неприятельский огонь, поступал всюду с неустрашимостью и опрокидывал неприятельскую кавалерию и пехоту, обратил их в бегство и, будучи сам впереди, поражал собственноручно неприятеля». Наградой за этот подвиг был орден св. Георгия 4-й степени. В сражении близ Гутштадта, переплыв с полком реку Алле, напал на неприятеля с фланга и, обратив его в бегство, взял в плен около 600 человек. Наградой за это стала золотая сабля с надписью «За храбрость». В 1808 году сражался с турками в Молдавии. В Отечественную войну участвовал в ряде сражений. В сражении под Малоярославцем захватил 6 орудий противника, под Тарутино – 2 орудия. За участие в Отечественной войне награжден орденами св. Владимира и св. Анны. В заграничных походах Иловайский участвовал в сражениях при Люцене, Бауцене, Лейпциге и других. После военной кампании 1813—1814 годов был произведен в генерал-майоры.
В 1821-1824 гг. был войсковым депутатом (предводителем дворянства) Войска Донского. Его внук, Николай Петрович, генерал-лейтенант, длительное время командовал дислоцированным в Москве 1-м Донским казачьим полком и сильно пострадал спасая людей в знаменитой давке на Ходынском поле во время коронации Николая II в 1896 г.
Иловайский 11-й Тимофей Дмитриевич (1786-1812), войсковой старшина, смертельно ранен в боях под Вильно в 1812г.
Вот так, г-н Давыдов! Как говорят в моем родном Урюпинске, (бывш. Окружной станице Хопёрского округа, где до революции выходили местные газеты, было две гимназии, театр, и самая большая в России скотопригонная ярмарка):
– Ваша грязь( там слово поточнее) к нашему золоту не пристает! Жаль только тех, кому вы своей казакофобией, доверчивые головы морочите, а они вам, бедные дурачки, верят.
Полевая тактика казачьей конницы
«Являясь с древних времен по сути своей военным демократическим государством, казачьи войска стали сообществами воинов, слуг своего рода-племени, образовав единую касту, выполняющую специфическую функцию, передающуюся по наследству. При этом необходимо отметить, что рамки этой кастовости охватывали не только самих воинов, но и прочее население, включая женщин и стариков. При необходимости и стар, и млад становились в строй и выполняли посильные военные задачи. Наряду с мужчинами сражались и казачки. (Исключением является Запорожское Войско, представлявшее из себя подобие мужского монашеского ордена)» – так формировалось казачество на протяжении столетий, что, безусловно, создавало и особый менталитет казачества, особый воинский дух и мировоззрение. И это во многом не устраивало Имперское правительство. С одной стороны дешевый, мобильный и безупречно выполнявший боевые задачи любой сложности род кавалерии был необходим, с другой неистребимая самобытность, обособленность казачества, подсознательная уверенность ,что при всей любви к России, верность Государю – «те – собе , а мы , казаки, – собе», память о страшных казачьих восстаниях, постоянное недовольство казаков реформами, которые действительно ущемляли их права, и, наконец, развитие военной техники заставляли правительство всеми силами приводить казаков в единообразие и с другими видами легкой кавалерии ,а самих казаков с другими подданными империи.
«Все больше и больше казачество приобретает вид регулярной кавалерии – по организации и подчиненности. Сравните рисунки, сделанные европейцами XVIII и XIX вв. Казачество становится более «цивилизованным». Не последнюю роль здесь сыграл факт «приручения» государством казачьей элиты – «старшины». После Петра I, подчинившего казаков Военной Коллегии, реформами казачества, определив «генеральную линию» государства, занимался В. Н. Татищев. Он первым в 1737г. предложил унифицировать структуру и принципы службы всех казачьих войск: «…собрав лучших старшин, сочинить общий устав для донских, яицких, гребенских и волжских казаков…».
Правительство Анны Иоанновны также искало дополнительные способы, «чтоб упомянутых казаков в такой порядок привести, дабы они впредь больше в руках и больше надежны быть могли». Последнюю независимость казачество утратило после разгрома Пугачевского бунта, когда Екатерина II разгромила Запорожскую Сечь. Еще несколько лет спустя, в 1783 г., 19 малороссийских казачьих полков были переформированы в регулярные кавалерийские части, до 1792 г. оставались еще Херсонский, Полтавский и Казачьей Булавы Великого гетмана полки, также переформированные в легкоконные полки.
В 1798 г. указом Павла I все казачьи чины были приравнены к армейским, что давало их обладателям право на дворянство, а само казачество превратилось в сословие. В 1802 г. было разработано первое Положение для казачьих войск (примером здесь послужило Войско Донское), и хоть казачьи части по-прежнему именовались иррегулярной конницей, однако фактически уже являлись нераздельной частью русской кавалерии».
Какое же место занимали казаки в Российской кавалерии? Для того ,чтобы это точнее себе представить необходимо несколько слов сказать о кавалерии вообще, поскольку это нынче упраздненный род войск, а потому, фактически, уже неизвестный.
Кавалерия имела строгую боевую направленность и делилась в эпоху наполеоновских войн – можно сказать вершине и пику славы этого рода войск, на тяжелую и легкую. Тяжелая кавалерия проламывала пехотный строй, то есть играла ту роль, которую в наше время играют танки. Отсюда их мощные кони, тяжелые кирасы и каски, и действия в бою плотным сомкнутым строем или плотной колонной. К тяжелой кавалерии в Русской Гвардии относились кавалергардский, кирасирские и конно-гренадерский полк. К легкой кавалерии относились уланы – наследники татарских боевых формирований, вооруженных пиками, гусары, первоначально вооруженные саблями и пистолетами и драгуны – ездящие солдаты, которые применялись и в конном и в пешем строю, они то пожалуй впоследствии в ХХ веке, были ближе всего к казакам.
И не случайно в первую мировую войну, фактически все кавалеристы, действовали в конном и пешем строю как драгуны. Были и другие, кавалерийские подразделения – конно-егеря, изначально стрелки –разведчики, конно-пионеры – саперы, и др.
И все же несмотря на унифицированность, казаки сильно от близких родов кавалерии отличались. Во первых, как уже говорилось, снаряжением за собственный счет. Но это не главное, был , скажем , конно-польский товарищеский полк – товарищеский поскольку тоже снаряжался за счет самих кавалеристов, были и временно собранные, так называемые, «казачьи» полки
Из ямщиков на своих лошадях, но все они не шли ни в какое сравнение с подлинно казачьими по выучке. «Попадание солдат в гусарские полки осуществлялось, во многом, в соответствии с действующими в те времена правилами, и говорить о какой-либо специальной выучке, вступавших в службу, рекрут особых оснований нет. Существовала 'разнарядка' – 1 рекрут с определенного числа дворов. Вероятность того, что крестьянину «забреют лоб в солдаты» была, в целом, невелика. Поэтому такого понятия, как подготовка к службе, не было. Прямо противоположная ситуация наблюдалась у казаков. В жизни, разумеется, могли произойти изменения, но были и незыблемые положения, такие, например, как служба. После того, как казаку исполнялось 19 лет. С 1 января он начинал служить. Исключения были, но они, как говорится, подтверждали правило. Детства и отрочество, во многом, проходило под знаком предстоящих ратных дел. В течение этого времени проходило несколько этапов подготовки к службе, в результате чего в полк поступал вполне сформировавшийся воин. Немаловажно отметить, что это, к тому же, был потомственный военный» (Карягин). Казаки обучались чуть ли не с рождения, когда в конце ХIХ нач. ХХ века , стремясь добиться единообразия в армии, обучение малолетков в станицах упразднили – боеспособность казачьих частей сразу и резко упала. Во вторых, мобильностью. Казачьи полки очень долго не имели обозов, все что было необходимо везли на вьюках.
В третьих, монолитностью полков, где не было антагонизма между офицерами и рядовыми, поскольку рядовые были если не родственниками , то соседями, а офицеры на порядок превосходили рядовых казаков во всем в том числе и в боевой подготовке, поскольку воевали иногда с пяти лет. Да и сами офицеры были иными чем, в тех же гусарских полках «В некоторых полках, (например: Гродненский, Лубенской, Мариупольский), наблюдается «засилье» офицеров – их количество существенно перекрывает штатное расписание. Это хорошо или плохо? Аргументы в защиту положительности данного явления я слышал следующие: это подготовленные к службе люди честолюбивые и наличие, скажем, в полку 50 поручиков и корнетов сверх штата – это дополнительно 50 «хороших сабель». Но тогда возникает другой вопрос. Разница в боевой подготовке молодого дворянина и рекрута, прибывших в полк, достаточно велика. Но ведь нижние чины служили в полку не год – два, а, практически, всю жизнь. Подавляющая часть нижних чинов имела достаточно большой стаж действительной службы. Неужели нахождение в полку в течение 2-3-5 лет не позволяло привить навыки, которыми овладевал дворянский подросток в детстве, уделяя этому, к тому же внимание «от случая – к случаю». Другими словами, 18 – 20-ти летний юноша, с которым дома, возможно, чем-то и занимались, (но все-таки основное время он проводил с гувернантками), по своим профессиональным качествам предпочтительнее солдата, который находится в действительной службе уже 5-10 лет. Что же это за служба в полку, в таком случае? Итак, если дополнительное число молодых офицеров – благо, то что же (в военном плане) представляет собою, в целом, полк?
Поэтому предположение, что раздутый офицерский состав в полку: «не есть – хорошо и правильно», дает возможность более высокой котировки гусарского полка, как боевого соединения. Еще один момент, на который следует обратить внимание и в том и в другом случае. Денщики. В Ахтырском полку это выглядит так: при полковнике – 4, при подполковнике (Дуванове) – 5, при 7-ми майорах – 15, при 5-ти ротмистрах -11. при каждом поручике и корнете по одному. В Мариупольском полку (99): при полковниках и подполковниках – по 5 – 4; при майорах, ротмистрах и штабс-ротмистрах обычно по 2: при поручиках и корнетах обычно по 1. Из числа 99-и: рядовых около 20, рекрутов 50 – 60, есть из милиции, военных рабочих и др. В Ольвиопольском полку (63): при штаб-офицерах обычно по два, при обер-офицерах- 1. Из числа 63-х: 19-рядовые и 26 –рекруты. Разве наличие такого количества денщиков (оно сравнимо с эскадроном) усиливает полк? Если денщик появляется в полку вместе с офицером (как дополнительный «служащий»), то уже и это ослабляет полк, так как тем самым увеличивается доля людей, не занимающихся непосредственно военной службой. Еще хуже, если в результате появления офицера, денщик образуется путем перевода в данную должность солдата полка»
Денщики, конечно, были и у казачьих офицеров, (один на офицера) но очень часто это были казаки старших возрастов, которые не только обслуживали командиров, но и одним своим присутствием «не давали баловать», советовали и направляли офицеров исходя из своего боевого опыта. Наконец, как это не удивительно в казачьих частях, вопреки всем уставным положениям о том ,что приказы не обсуждаются , но выполняются – приказы обсуждались! Звучала команда «Казаки в круг!» и офицер ставил боевую задачу, а рядовые решали как ее лучше выполнить.
Каждый казак, имевший совершенно иное, чем у пехотинца, который ничего, кроме ранца впереди идущего не видит, и даже кавалериста, имели иное пространственное мышление, легко представляя себе что делается на фронте шириной в 60 верст, и четко знали, что каждому из них следует исполнять и какой цели добиваться. Отсюда безбоязненность руководства действий казаков в рассыпном строю.
Собственно им нужно было отдать приказ, а они его обсудив выполняли. Были и смешные особенности. «Так, по воспоминаниям П.Н. Краснова, когда он прибыл в полк, старый есаул сказал ему, « Боже сохрани вас, батенька, изменить приказ на марше, или попробовать остановить полк! Все задние начнут заскакивать вперед и спрашивать: «Что случилось? Казаки это вам не сипы!» ( презрительное название других кавалеристов и штатских).
Отсюда, излюбленная казачья кавалерийская тактика наскакивая на противника, ни на секунду не оставлять его в покое, а самим оставаться неуловимыми. Разумеется, с пехотой, которая шла в сомкнутом строю, казаки ничего не могли поделать, «Мы шли как сто пушечный корабль между мелких льдин» – напишет французский гренадер, об отступлении к Березине под непрерывной атакой казаков. Но эта атака не давала роздыха. Каждый отставший бывал мгновенно убит. Попасть же в казаков было невозможно, они наскакивали по одному и тут же уходили.
Знаменитая казачья лава и отдаленно не напоминала атаку кавалерии в сомкнутом строю. Лава – это линия, шеренга или две, где каждый всадник достаточно свободен. Атакующая лава сжималась и расходилась обтекая неровности ландшафта, не изменяя общего направления. Особенностью лавы были фланги, всегда стремящиеся охватить противника.
Знаменитый шум и свист казачьей лавы происходил от того, что казаки свистом, волчьим воем или собачьим лаем. в момент бешеной скачки, переговаривались между собою, кому как стать и что делать! За первой шеренгой лавы, шла вторая, третья,… Первая, налетев на противника, могла, не доходя до стычки, рассыпаться и уйти в стороны, не потеряв ни одного человека от залпа противника, а на него обрушиться вторая шеренга третья, за которой следовала, вновь перестроившаяся в лаву и атакующая, первая. Точно так же могли атаковать колонной и отходить «уступом», прикрывая друг друга.
Маневренность, неуловимость всадников доводила противника до исступления., стоя часами в «казачьей карусели» в дыму от собственных бесполезных выстрелов, и закаленные солдаты терялись , а новобранцы впадали в истерику. В европейских армиях казакам могли противопоставить гусар или улан, что и происходило в начале войны 1812 года, например под Миром.
Против кавалерии применялся другой прием. Атакующая лава , не доскакав до кавалерийских шеренг резко поворачивала назад и, буквально, тащила противника за собой. Следует учитывать, что кони – существа табунные, и конные массы легко увлекались в погоню. Лавина всадников проносилась мимо рощ, балок, врагов, где стояли, ожидая своего часа казачьи сотни.
Увлеченные погоней кавалеристы разогнавшие коней во весь мах , вдруг видели как казаки раздаются в право и влево ,а они налетают на картечный залп казачьей конной батареи.
Теперь роли стремительно поменялись. Теперь полки (под Миром конницы Пентковского и Ожеро) уходят о казаков, а те, перестроившись за батареей, нагоняют их. Однако, эта погоня разительно отличается от первой. Из каждой балки, каждого укрытия на отступающих с гиком вылетают казачьи сотни. Как правило, к рубежу первой атаки и кавалерии противника не
возвращался никто.
Такое тактическое построение казаки называли вентерь – есть у казаков такая снасть для рыбной ловли, иначе именуемая мордой, кошель корзина, куда рыба безбоязненно заходит, а вот вернуться обратно не может. Не избегали казаки и встречного кавалерийского боя, если противник был равен – легкая кавалерия. Тогда проходя как гребень сквозь ряды противника, казаки часто отмахивались двумя шашками или рубили направо и налево. В одной их схваток начала войны 1812 года такая «расческа» длилась четыре часа! Бывало , что сталкиваясь с противником, сидевшим на высоких лошадях казаки вставали на седла и оказывались выше противника.
В немыслимой атаке четырех сотен казаков Орлова Денисова под Лейпцигом, против нескольких тысяч тяжелой кавалерии Лотур Мобурга, где казаки оказались перед стеной сомкнутого строя кирасир, старики успели крикнуть: «Братцы, язви пиками, коней в храпы!» Разумеется, казаки не могли повергнуть железных кирасир , но они поломали их монолитный строй, кони вздыбились сбрасывая всадников, началась свалка, что и позволило выиграть время до подхода артиллерии.
В гражданскую войну со стороны и белых и красных кавалерия играла основную роль. Война была маневренной. На широких пространствах сталкивались конные армии, рейд Мамонтова, Первая конная Буденного… Однако, это был закат кавалерии. Техника уже вытесняла ее с полей сражений. В Великую Отечественную войну кони в большей степени стали только транспортным средством, подвозившим кавалеристов к месту боя, где они сражались спешенными. При степном бездорожье когда в распутицу вязла техника и танки тонули в черноземной грязи – кавалерия воевала… Но это была уже не ее война. Как, писалось в теоретической работе по исследованию военной тактики, « после изобретения автоматического оружия, атака кавалерии стала невозможна.»
Одной из таких невозможных атак, которая до сих пор приводит всех историков в замешательство, была атака казачьей сотни изрубившей батальон автоматчиков на территории Новочеркасского вагоностроительного завода. Это были казаки! Да вот горе – служили то они под знаменами Вермахта, а рубили своих!
Орлы – Орловы
Василий Петрович Орлов, не имел ничего общего со знаменитыми братьями Орловыми, фаворитами Екатерины. По семейным преданиям и слухам, ходившим на Дону, он – потомок дочери Степана Разина, то есть относился к донской аристократии, что в соответствии с казачьим обычаем мало что меняло в его военной биографии. Он начал службу девятнадцати лет рядовым казаком. Только благодаря своему острому уму и отчаянной храбрости через 10 лет был уже войсковым старшиною и командиром одного из донских казачьих полков. Он участвовал в 1-й войне с Турцией и за боевые отличия был награжден орденом св. Георгия 4-й степени.
Между 1-й и 2-й турецкими войнами продвигается по службе, дослужившись до звания полковника. Участвуя во 2-й турецкой войне, Орлов за боевые отличия получил чин бригадира, саблю и алмазами и орден св. Георгия 3-й степени. Особенно отличился Орлов при штурме Измаила, во время которого командовал штурмовой колонной. В 1792 году за участие в войне с Польшей получил звание генерал-майора и бриллиантовое перо на кивер с вензелем Екатерины И. В 1797 году он был назначен войсковым атаманом войска Донского. Пользуясь особым расположением императора Павла I, Орлов добился сравнения чинов донского войска с чинами регулярных войск. За четыре года своего атаманства Орлов получил звание генерал-лейтенанта, орден св. Александра Невского и крест св. Иоанна Иерусалимского.
В начале 1801 года Орлов получил приказ Павла 1 выступить со всеми донскими полками в поход в Индию. Орлов выступил в поход с сорока полками и двумя ротами донской казачьей артиллерии и дошел до Иртыша, на берегу которого его настиг курьер с указом императора Александра I о возвращении на Дон. Василий Петрович вернулся на Дон , где и умер, вероятно не выдержав тяжких трудов военного зимнего похода. Но уже всходила немеркнущая звезда славы его сына, в ком счастливейшим образом соединилась слава двух блистательных казачьих родов – Орловых и Денисовых











