Читать онлайн Уфимский Амаркорд
- Автор: Искандер Халиков
- Жанр: Легкая проза, Юмор и сатира
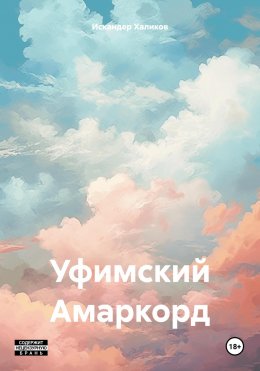
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мой родной город – Уфа – типичный «город – миллионник». Со своей историей. Её начало с точностью не то, что до года – до дня(!) каким-то непостижимым образом установили местные историки, археологи и прочая научная братия, неустанно занимающаяся копанием в земле и архивных документах.
Многие города становятся известными, когда они начинают ассоциироваться с какими-либо значимыми событиями или знаменитыми людьми. Олимпийские игры и различные фестивали, деяния выдающихся людей и рождение пророков, исторические сражения и громкие убийства прославили ничем не выделяющиеся из общей массы населённые пункты.
Известность Уфы, по крайней мере, среди граждан Советского Союза и России, также была связана c событиями и людьми. Событиями, как правило, печальными. Трагедия под Улу-Теляком, авария на «Химпроме», авиакатастрофа над Боденским озером… Когда кто-то узнавал, что ты из Уфы, то как правило после этого следовала реакция «А, это где….». Да, где взрывалось, сталкивалось, отравлялось и т.д. В этой реакции можно было почувствовать даже какой-то упрёк. Мол, что ж вы, ребята, оплошали то так? А тебе оставалось только развести руками и вздохнуть – да уж, виноваты, не углядели…
Уфимцы, добивавшиеся успеха и всенародного признания, позволяли своим землякам если не гордиться, то, по крайней мере, не стесняться своих корней. К славе знаменитых уфимцев нередко пытались примазаться «отцы города». Их принимали на самом высоком уровне, награждали государственными премиями и присваивали им почётные звания. Иногда абсолютно им ненужными.
Биографии знаменитых уфимцев похожи одна на другую: родился, проживал в Уфе, известен своими произведениями (открытиями, спортивными достижениями, героическими поступками и т.д.). Да, эти повествования из серии «жизнь замечательных людей», как правило, интересны. А если повезло с рассказчиком, то ещё и увлекательны. Однако, помимо этих рассказов-биографий, есть городские истории из жизни простых смертных, пусть и не таких замечательных людей. Именно в этих историях можно почувствовать дух времени и передать тот образ человека, который соответствует понятию «типичный житель города N». Эти люди не знали громких побед на фестивалях и чемпионатах, они не собирали целые стадионы и галереи поклонников, за ними не охотились папарацци и журналисты скандальных хроник. Но, несмотря на это, в их жизни происходили события, подчас весьма удивительные и невероятные.
Истории, которые мне хочется рассказать, так или иначе связаны с Уфой и уфимцами. Случиться они могли только в то время, когда «пепси» был дефицитом, а «сникерса» не было и в помине. Некоторых героев своих рассказов я знал лично. О других мне когда-то поведали мои друзья. В наши дни, по прошествии довольно долгого времени, уже невозможно с полной уверенностью утверждать, что все эти истории абсолютно достоверны и в них нет вымысла. Сейчас они могут восприниматься не как воспоминания о реальных людях и событиях, а как городские байки, сродни тем, что рассказал Федерико Феллини в своём бессмертном «Амаркорде». Хорошо, пусть будет так.
ЗНАЧОК
Каждый коллекционный предмет должен иметь свою историю. Без разницы, интересная она или нет. Просто история должна быть. И всё. Иначе это не предмет коллекции, а вещь из кучи. Раритетность и цена, безусловно, имеют значение. Но не всегда именно они являются главными для коллекционера.
Я это понял ещё в детстве, когда стал собирать значки. Моя мама была языковедом. Она часто ездила в командировки в разные города Союза. Из каждой поездки мама привозила для моей коллекции значок. Как правило, с гербом или символом города, в котором она побывала. У меня были значки из Алма-Аты и Фрунзе, Самарканда и Бухары, Ижевска и Оренбурга, Томска и Улан-Удэ, Москвы и Ленинграда…
Когда я закончил третий класс, мы с мамой съездили в Болгарию. В гости к её друзьям, с которыми она познакомилась ещё в студенческие годы, во время фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Я гордился привезёнными оттуда значками с изображением гербов Софии и Варны, памятника солдату-освободителю Алёше и монумента героям Шипки. Всякий раз, когда я смотрел на них, то вспоминал нашу поездку на Балканы и маминых друзей. Но очень скоро у меня появился значок, который затмил болгарские «артефакты» и сразу же стал настоящей жемчужиной коллекции.
К нашим соседям – моему другу детства Рустику и его родителям – приехали гости. Нас об этом, конечно же, никто не ставил в известность. Но в подъезде хрущёвки, тем более панельной, соседи всегда знали у кого что происходит. Дни рождения и свадьбы, приезд гостей и похороны, пьянки и семейные скандалы не проходили незамеченными.
Песня «У Чёрного моря», которая доносилась из пятьдесят пятой квартиры, наводила на мысль о том, что приехавшие были из Одессы – города, который в детстве у меня ассоциировался с моряками и голосом Леонида Утёсова. Мои догадки подтвердились, когда в первом часу ночи в нашу дверь позвонил отец Рустика и, долго извиняясь, попросил у мамы взаймы что-нибудь выпить.
– Выручай, соседка. Гости к нам из Одессы приехали – сестра Нафисы с мужем. Кузьма Захарович… Он водолаз – здоровый, как бык… Два литра уже выпили… Не к таксистам же бежать…
Мама достала из бара серванта коньяк и вино, которые всегда у нас были на случай прихода гостей. Сосед обрадовался и пообещал, что в ближайшие выходные вернёт долг.
На следующий день, после обеда, к нам пришли те самые гости, для которых сосед и позаимствовал спиртное. Это был невысокого роста, коренастый мужчина лет сорока и женщина, очень похожая на маму Рустема.
– Доброго здоровьичка вам. Я Кузьма Захарович. А это моя супруга Лилия Асхатовна. Она, получается, сестра вашей соседки Нафисы, – представил мужчина себя и свою супругу. У него был протяжный говор, с мягким «г», характерным для всех южан, – Хотим извиниться за вчерашнее беспокойство.
Гости протянули маме коробку конфет. Она не стала отказываться, но сказала, что раз такое дело, то мы все идём пить чай. Иначе извинения и дары не будут приняты.
Пока мама вместе с Лилией Асхатовной накрывали стол, Кузьма Захарович подошёл к висящему на стене вымпелу со значками и стал рассматривать их.
– О! Варна! Бывал там много раз! А из Томска мой зять родом – мы к нему прошлым летом ездили. В Казани у Лилиных родственников два года назад были.
Тут Кузьма Захарович повернулся ко мне и спросил:
– Что, ты собираешь?
– Я.
– Интересная география. Почти весь Союз! Откуда у тебя это всё? Поди, меняешь?
– Нет, мама привозит из командировок. А в Москву, Ленинград и Болгарию мы вместе ездили.
– Ясно-понятно. Эх! Жаль, не знал про твою коллекцию. Привёз бы тебе значок с памятником Ришелье. Или с Потёмкинской лестницей.
Тут мама пригласила нас к столу. Когда она наливала в чашки чай, Кузьма Захарович вдруг хлопнул себя по лбу и обратился к супруге:
– Слушай! А в твоей сумке на внутреннем кармане так и приколот значок? Ну, который вместо сломанной застёжки?
– Ой, а ведь и вправду приколот! – обрадовалась Лиля Асхатовна и, с ноткой вины в голосе и надеждой на понимание, обратилась к моей маме: – Это я замок-кнопку наладить всё время забываю!
Кузьма Захарович встал из-за стола и прошёл в прихожую. Он взял сумку жены, открыл её и, что-то отцепив внутри, положил обратно на тумбочку. Затем вернулся к столу и протянул мне значок.
– Держи, коллекционер! Только с тебя булавка или какой другой значок. Нам кармашек в Лилиной сумке очень нужен – наши билеты и документы там.
Я взял из его рук значок. Он был медным и совсем маленьким. Значок не был сделан по технологии штамповки. Его отливали в специальной форме. Это был символ Олимпийских игр – разноцветные кольца, сплетённые в форме W, которые, словно на постаменте, покоились на небольшом основании с надписью «MEXICO». Застёжка у значка была своеобразная: маленькая ножка, заострённая на конце, чтобы проткнуть ткань, и крошечная прищепка вместо «шляпки» на остриё. Действительно, очень удобно, если под рукой нет булавки.
– Этот значок я привёз из плавания, из которого вообще мог не вернуться.
– Спасибо большое! – сказал я, пропустив мимо ушей последнюю фразу гостя. Поскольку с интересом рассматривал подарок, казавшийся миниатюрным даже на моей детской ладони.
– Что значит «мог не вернуться»? – насторожилась мама.
– Да нет, не то, чтобы была какая-то угроза жизни. Просто мог произойти ещё один Карибский кризис. Только маленький.
– Это как, Кузьма Захарович? Расскажите!
– Да не, что рассказывать-то?
– Ну что ты ломаешься, Кузьма? – вступила в разговор Лилия Асхатовна, – расскажи людям на трезвую голову. А то ведь только как выпьешь, вспоминаешь про свои походы. Вчера, вон, надоел своими рассказами про подводные лодки, да торпедные аппараты!
– Ну, будет тебе, – расплылся в улыбке Кузьма Захарович, – Вчера просто душевно посидели, вот и накатило. Ладно, чай попьём, пока он горячий и потом расскажу.
* * *
Было это семь лет назад – осенью шестьдесят восьмого. Наш сухогруз «Брест» вышел из Одессы на Кубу. В очередной раз таранили Фиделю Кастро помощь от братского советского народа. Они ведь там на Кубе живут по принципу «патриа о муэртэ». Это значит «Родина или смерть». Только одними принципами, как говорится, сыт не будешь. Если не сам себя, тогда кто-то кормить должен. Ну, а так получается, что кубинскому народу кормить себя некогда. Потому как народ этот находится на переднем крае борьбы с империалистами. А мы, значит, в тылу окопались. То есть кормить их должны.
Хорошо кормим – они как буржуи живут. Ананасы у них свои, а мы им, выходит, рябчиков доставляем. Ну, в виде сгущёнки, муки, тушёнки, леса, труб, шифера и до хрена всего того, чего у них нет, а у нас вроде как завались. И оружие им туда, понятное дело, тоже тараним. Это если патриа всё-таки муэртэ, то чтоб не от голода, а в бою.
Но и Команданте нас «подкармливает». Табачком, сигарами, сахаром, фруктами. Это, значит, чего у них завались. Не ахти что, но одно хорошо, что порожняком обратно никогда не шли.
Так вот, загрузились мы в Гаване, но один отсек в трюме порожним оставили. Просто нас сразу предупредили, что после Кубы мы пойдём на Тампико. Это в Мексике порт. У них в столице – в Мехико, значит – как раз Олимпийские игры закончилась. И нам надо было обратно барахло своё забирать. Это которое туда из Союза ещё раньше припёрли для участия наших спортсменов в тех самых играх.
Пришли мы в Тампико. Встали на рейд, потому как судов там было много и надо было очередь к причалу ждать. Мы сразу к капитану – спрашиваем у него разрешение сойти на берег.
После того, как Фидель стал сеять под боком у американцев разумное, доброе, вечное – то бишь ненависть к Штатам и любовь к Союзу – наших мореманов чуть ли не силком стали принуждать сойти на берег в портах у соседей Команданте. Вроде ходячей агитбригады захотели сделать. Только вот языка мы ихнего не знаем. И денег нам меняют так, будто у нас там родственники живут, которые нас напоят, накормят и гостинцев семье передадут. Я из-за этого тоже филателией, или как её там, иногда занимаюсь. Значками, в смысле. Октябрятских значков напокупаю в киоске, а в дальних странах их меняю. На сигареты, пиво. Или продаю. По доллару за штуку. Чтобы можно было чего-нибудь привезти жене да дочерям. У нас ведь Ильич в сердце, а у них в дефиците. Поэтому мне не совестно, а им приятно. Вот именно тогда, в Тампико, я этот олимпийский значок и выменял. Вернее, не выменял, а как бы это сказать… Просто мужичок хороший в лавке попался – к пачке «Мальборо» ещё и значок дал. Я же говорю – Команданте сеет там разумное, доброе, вечное.
Стали мы, наконец, к причалу под погрузку. И грузят нам всякую всячину – снаряжение, амуницию, лодки с вёслами, велосипеды… Даже «красный уголок» с Лениным – и тот решили мексиканской партийной ячейке не оставлять. Видать, никак забыть не можем, что те в своё время Троцкого у себя пригрели.
Поздно вечером, значит, как только последний груз приняли, вышли в море и взяли курс на Одессу. А идти должны были через Бермудский треугольник. Ходили не раз уже через него. Это кто наслушался ерунды всякой – тому страшно. А так «треугольник» этот – океан, как и везде. Иногда штиль полнейший, а через час может штормить не на шутку. И течения там очень сильные. К тому же ещё и меняются постоянно.
Так вот, на следующий день вошли мы в акваторию этого самого «треугольника». Небо тучами заволокло, ветер поднялся. Море штормило, но не особо – балла четыре. В такую погоду те, кто не на вахте по каютам сидят и в домино или карты режутся. Вдруг чувствуем – перешли на малый ход. Потом судовую тревогу объявили. Причём, явно не учебную – капитан на судне моряк бывалый был. Да и команда ему под стать. Я к своему снаряжению, как и положено по инструкции, рванул. И тут меня по внутренней связи к вахтенному вызывают. Я наверх, в рубку. Захожу – там капитан, старпом и вообще всё начальство. Стоят, в бинокли смотрят. Все в одну сторону – куда-то прямо по курсу. Старпом меня увидел и свой бинокль протягивает.
– Погляди, – говорит, – какая штуковина по курсу.
Я беру бинокль и смотрю. Вижу – что-то вроде рубки подлодки, но не рубка. Оранжевая вся, как спасательный жилет. И на волнах качается поплавком, будто подводной части у неё вовсе нет.
– Что это? – спрашиваю, – Аварийный буй?
А сам думаю: «Вот тебе и Бермудский треугольник!»
Старпом бинокль у меня забрал и говорит:
– Мы описание объекта в пароходство передали. Они сейчас с Москвой связываются. Америка то рядом.
– А при чём тут Америка? – интересуюсь, – Куба тоже недалеко. Что, совсем уже без врага жить не можем?
– Это не мы – это враг без нас жить не может! Вдруг провокация какая?
– Понятно, – говорю, – А меня чего вызвали? С провокаторами бороться?
Тут капитан поворачивается ко мне и говорит:
– Бородко! (это я, значит) Вас сюда пригласили не шутки шутить, а с обстановкой ознакомиться. Если вы ознакомились – приступайте к выполнению своих обязанностей согласно Уставу службы на морских судах!
– Есть, – говорю.
И пошёл туда, где и был бы, если б меня в рубку не вызвали.
Работа у водолаза на судне какая? Перед выходом в море должен осмотреть подводную часть корабля, начиная от бульба и до гребного винта – нет ли каких повреждений – и потом свободен всё плавание. Так, снаряжение только наготове держишь, и, если что потом случись – будь готов погрузиться и доложить обстановку. А то и меры какие принять. В море ведь как? На бога надейся, но не рассчитывай.
Примерно через полчаса меня опять вызывают в рубку и там я узнаю, что эта оранжевая штука по описанию не что иное, как спускаемый аппарат космического корабля американцев. Вот так-то! И получен приказ из Москвы поднять его на борт. А для этого мне, как водолазу, предстоит поработать за бортом. Ну, чтобы наш палубный кран этот самый аппарат зацепить и поднять смог.
– А там что, космонавты американские? – спрашиваю.
– Нет, – говорит старпом, – Из Москвы передали, что никого не должно внутри быть. Вроде как это у американцев экспериментальная штуковина. Ну, или испытательная. В общем, неважно. Наши говорят, что вещь эта может оказаться очень полезной для наших спецов, кто с космосом подвязан. Но ты всё равно, аккуратней там, смотри.
– «Аккуратней» – это как? – спрашиваю, – Не материться, что ли? И если там космонавты всё-таки есть, то сразу извиниться перед ними? Мол, сорри, ваш аппарат со своим перепутали! У нас точно такой же потерялся, только весь пегий и грива у него стриженая!?
Старпом ругнулся и сказал, что приказ получен и обсуждению не подлежит. Ясно-понятно, чего уж там. Приказ получили они, а выполнять-то должен я.
Ну, баллоны проверил, гидрокостюм натянул. Вышел на палубу. Волнение усилилось – покачивало уже серьёзно. Ветер штормовой, молнии сверкают и гром громыхает. Было видно, как на нас грозовой фронт с северо-запада шёл и вот-вот должен был накрыть.
Смотрю – этот аппарат американский уже справа по борту плавает, совсем рядом. На нём здоровенными буквами «USA» написано и ещё что-то не по-нашему. Похож он на здоровенное перевёрнутое ведро, поверх которого антенны и шары какие-то. На подобие надувных. Ну и вокруг основания – оно в диаметре метра два с половиной или чуть больше – понтон. С виду тоже надувной. А палубный кран наши развернули и стропила уже спустили так, что их волна касается. Ясно-понятно, думаю. Мне, значит, их закрепить надо, чтобы этот конус оранжевый на борт поднять можно было. Условия для работы, конечно, критические. Но и я не первый раз за борт выходить должен. Ладно, закрепляю страховочный трос, надеваю ласты, маску, сую загубник в рот – и пошёл.
Аппарат американский с умом сделан – специальные крепежи предусмотрены на случай экстренной погрузки. Так что я быстро нашёл за что зацепить клешни стропил. Его сразу же и подняли. Потом меня шлюпбалкой вытянули.
Только я на палубу ступил – гроза началась. Пока снаряжение снял, гляжу – а аппарат уже в трюм cпускают. Прямо в тот же отсек, куда и скарб спортивный вместе с Лениным ещё в Тампико погрузили – там места много оставалось. Ну, мне, понятное дело, интересно – что за штуковина аппарат этот американский? Снаряжение отнёс к себе, переоделся и прямиком в трюм. А там люк аппарата уже вскрывают два моториста и Сеня, радист наш. Рядом капитан со старпомом и помполитом стоят. Помполит весь бледный – молоденький, первая загранка у него. И такой случай ему судьба подбрасывает. Моряков других больше никого нет – тревогу-то судовую никто не отменял. Я к старпому сразу.
– Что делается-то? – спрашиваю.
– Да вот, – говорит, – Семён дурынду будет обследовать – чтобы радиомаяков работающих там не оказалось.
– Так всё равно же поймут, что мы аппарат подобрали, – говорю, – Сопоставят координаты точки потери сигнала радиомаяков с нашим курсом и всё! Кранты! Сразу понятно станет у кого рыло в пуху!
Старпом зыркнул на меня, как на врага народа, и тихо так прошипел:
– Лучше рыло в пуху, чем совсем без косметики! Москва сказала, чтобы радиомаяки отключили – значит отключим!
Тут мотористы люк в аппарате открыли и фонариком туда светить стали. Все к люку сразу потянулись. Ну, и я тоже. А там три космонавта в блестящих скафандрах ремнями к креслам пристёгнуты. И не шевелятся совсем. Я сразу смекнул, что это не люди, а манекены. Тут капитан как гаркнет:
– Всем отойти от аппарата! Радисту приступить к выполнению задания!
Смотрю – у одного из мотористов в руках уже то ли часы, то ли компас с манекена. Старпом это дело тоже увидел и давай орать:
– А ну, давай эту хрень сюда! По статье у меня все пойдёте!
Моторист – бывалый морячок, Шуриком его звали – только ухмыльнулся и спрашивает:
– Это по какой ещё статье?
А сам стоит и эту самую «хрень» рассматривает.
– За хищение собственности! – не унимается старпом.
Тут Шурик второму мотористу подмигивает и спокойно так старпому говорит:
– Вот те здрасте! И какой же, позвольте полюбопытствовать, собственности?
Старпом после этих слов сразу, видать, уверенность потерял. Аж заикаться стал:
– Сссссоциалистической собственности.
А второй моторист его передразнивать стал:
– С каких это пор американская собственность стала ссссоциалистической? Может, она ещё и колхозно-кооперативная?
Я не выдержал и говорю:
– С тех пор как мы её скоммуниздили, так она и стала социалистической.
Ну, а сам стою и думаю: «Вот ведь на самом деле. Мы же чужую вещь, что называется, прём всем колхозом. Она ж не наша. Понятное дело, что вражья. Но всё равно, как-то не по-честному это».
Шурик всё в руках тот предмет держит и не отдаёт старпому. Тогда капитан уже не выдержал:
– Немедленно отдайте, – говорит, – что взяли! Там, куда мы аппарат будем сдавать быстро разберутся кому и по какой статье идти!
Ну, тут, конечно, слов нет. Капитан, как говорится, в самое темечко попал. С людьми у нас всегда быстро разбирались. Не то, что с какими-нибудь проблемами, там, или вопросами. Это и Шурику хорошо известно было – он сразу «хрень» старпому передал. А Сеня, тем временем, башку свою высунул из люка и докладывает:
– Всё, два радиомаяка было – коротковолновый и длинноволновый. Оба обесточил.
Потом похлопал по корпусу дурынду американскую:
– Хорошо бы, – говорит, – снять маячки и привязать их к спасательному жилету. А после по новой запитать, да за борт выбросить. И пускай амеры потом посудину свою в океане подальше от нас ищут.
Толково, конечно, он придумал. То, что американцы аппарат свой искали – это как пить дать. Их, скорее всего, гроза накрыла. И она же сам аппарат отнесла от того места, где его ждали.
Старпом затылок чешет и рассуждает:
– Спасательный жилет не пойдёт – по нему сразу поймут у кого искать. Надо что-то другое, чтобы на нас никакого намёка не было.
Что тут скажешь? Старпом – он и есть старпом. Материться да задницу себе и команде прикрывать никто лучше него не умеет. На каждом спасательном жилете ведь штамп стоит, что сделан он в СССР. Да плюс ещё и номер инвентарный с названием судна.
Тут капитан опять слово берёт:
– Отставить! Я получил чёткое указание ничего не трогать. Только радиомаяки отключить и всё!
После этого отсек с «трофеем» задраили и охрану выставили. Потом тревогу отменили – мы все по каютам разошлись. Сидим и всё, что произошло, обсуждаем. А корабль уже полным ходом подальше от грозы уходит.
Часа через три, уже ближе к вечеру, шторм слабеть стал. И как только ветер утих, сразу шум вертолётов послышался. Мы на палубу все высыпали. Глядим – а над нами три вертолёта американских кружат и на горизонте, сзади по курсу, корабли видны. Все сразу смекнули – это вдогонку, значит, американцы за нами идут.
Ну, думаю, ясно-понятно! Сейчас мы под раздачу попадём. Знает кошка, чьё сало съела. А уж хохол-то тем более! Тут опять – второй раз да день! – тревогу объявляют. Я плюнул на неё – и к старпому.
– Какая к чёртовой матери судовая тревога? – говорю, – Вы давайте ещё «человек за бортом» объявите! Тут сейчас абордаж будет! Топоры да ломы раздавать надо!
А он мне спокойно так отвечает:
– Остынь, Аника-воин. По всем морским законам никто не может требовать досмотра нашего судна в нейтральных водах. Да и штуковину эту мы нашли без экипажа. И тоже в нейтральных водах. Значит, она была брошена и принадлежит нам с того самого момента, когда ты стропила на неё набросил. Так что наше дело правое!
Да уж, дело правое. Зато мысли левые! Это ведь не брошенный экипажем старый рыбацкий баркас. Это космический аппарат! Военный объект, считай! У нас, вон, не то, что заводы – целые города засекречивают, где такие штуковины делают. И попробуй оттуда что-нибудь вынести. А американцы-то тоже не с другой планеты сюда прилетели. У них у самих, поди, секретность и неразглашение государственной тайны распространяются на всё, что с космосом связано. И плевать они хотели на морские законы с нейтральными водами.
Ладно, думаю, не бежать же мне помполита с парторгом искать и заявление о приёме в партию писать. С чего начинается Родина сейчас уже не важно. Важно чем она для тебя закончиться может!
Снял я с пожарного щита топор и на палубу поднялся. Когда на семь бед один ответ, то можно спокойно бедокурить. Пускай, думаю, видят, что нас голыми руками не возьмёшь. Смотрю – вертолёты так низко зависли, что их бортовые номера видно. Я топором им машу и ору – мол, давай, спускайся. Всех вас на консервы в раз порубаю!
И тут их прямо как ветром сдуло. Я грешным делом даже подумал, что это они моего воинственного вида испугались. Вдруг слышу – капитан в мегафон обращается ко мне:
– Бородко! Сейчас же прекратите этот балаган и очистите палубу! Или вам напомнить, где вы должны находиться во время тревоги согласно штатному предписанию?!
Я ему в ответ орать стал:
– А им с вертолёта плевать на моё предписание штатное! У них у самих, поди, Штаты! Сейчас вот они обратно прилетят и как тогда отбиваться будем? Предписанием и корабельным журналом?
Он меня конечно не услышал. Но, видать, понял хорошо. Потому что опять мне в мегафон говорит:
– Успокойтесь, Бородко. И посмотрите справа по курсу – у нас теперь сопровождение есть.
Я посмотрел – и всё понял сразу же. Впереди, хоть и далеко, виднелись очертания подводной лодки. Понятное дело нашей, раз американцы удочки так быстро смотали. Как мне потом Сеня по секрету сболтнул, она там не одна была. А ещё он сказал, что на борт из Союза передали – нас будут до Одессы сопровождать.
Видать, так оно и было. Потому что никто к нам больше не подходил вплоть до Средиземного моря. А у входа в Гибралтар нас сторожевик советский поджидал. Он с нами все Средиземное прошел, потом Босфор и Черное море. Так и сопровождал нас, как говорится, до самого дома.
Разгружались мы ночью. Сначала у военного причала стали и «трофей» выгрузили. А уж потом ушли на грузовой. И там всё остальное у нас забрали.
Перед тем, как команде разрешили сойти на берег особист портовый и наш помполит с нами долго общались. Болтали нам про государственную тайну и про то, какие бывают последствия за её разглашение. А какая может быть тайна? Мы ещё в пути у Сени по «вражьему голосу» всё про свои «подвиги» услышали. Там они ничего не приврали. Всё как есть… Ну, вернее, как было поведали. Только про моё геройство, с которым я их вертолёты шуганул – про это умолчали.
Вот такая история.
* * *
Мы ни разу не перебили рассказ Кузьмы Захаровича. Когда он закончил, мне показалось, что я держу в руках не значок, а нечто исторически ценное. Вроде осколка от снаряда с войны. Я даже не хотел расставаться с ним и вешать его на вымпел рядом с другими значками.
Но тут моя мама сказала фразу, после которой у меня сердце в пятки ушло:
– Ну, что вы, Кузьма Захарович. Мы не можем принять от вас такой дорогой подарок. Ведь это такая память для вас.
– Да бросьте, – махнул рукой Кузьма Захарович, – у меня о том плавании есть память. Правда, Лиля?
Он подмигнул своей жене. Лилия Асхатовна заулыбалась:
– Сразу после возвращения капитан корабля Владимир Михайлович написал в пароходство представление на Кузьму. К Ордену «Знак Почёта». За проявление гражданской доблести. На единственного из команды.
– Ага, на единственного из команды, кто доблестно с топором по палубе бегал, – улыбаясь, вставил Кульма Захарович.
– И на следующий год, – не обращая на него внимания, продолжила Лилия Асхатовна, – в День Флота, Кузьму этим Орденом наградили. Так что память о том плавании у нас есть.
Тут у меня от сердца отлегло и я сразу, пока мама не придумала ещё что-нибудь, подбежал к вымпелу и прицепил на него значок.
Потом я каждый день в течение месяца снимал его с вымпела и рассматривал, вспоминая в деталях рассказ Кузьмы Захаровича. Все мои дворовые друзья знали про значок и про историю, связанную с ним.
Мы подружились с семьей Бородко. Переписывались с ними и посылали друг другу открытки на праздники. Даже несколько раз летом ездили к ним в Одессу в гости.
С тех пор прошло много лет. Распался Советский Союз, мы стали жить в разных странах и вообще в другом измерении. Переписка со всеми друзьями семьи из других городов как-то сама собой стала сходить на нет. Я перестал заниматься своей коллекцией, полностью «ушёл» в бизнес, потом купил квартиру и стал жить отдельно. Коллекция осталась у мамы, хотя я всегда о ней помнил.
Однажды я узнал от маминых соседей, что Кузьма Захарович Бородко умер. Я не мог в это поверить. Красивый человек и храбрый моряк остался в моей памяти таким же, каким я его увидел в первый раз в далёком детстве. Работа подводников связана с частыми, порой очень большими перегрузками. Поэтому они рано и, как правило, тяжело уходят из жизни.
Потом не стало мамы…
Когда я перебирал фотографии, документы и прочие бумаги из маминого архива, я наткнулся на свою коллекцию значков. Вымпел уже давно не висел на стене. Он хранился в нижнем ящике письменного стола. Я сразу же стал искать значок MEXICO. Увы, я его не нашёл. У мамы в гостях бывало много людей. Но я не хотел и не хочу никого подозревать. Тем более, что сам «забросил» свою коллекцию.
Такие значки не исчезают бесследно. Рано или поздно они попадают в руки коллекционеров или знатоков. По крайней мере, мне хочется в это верить. Но эти люди могут не знать того, что связано с этим значком. И если они прочитают этот рассказ, то смогут вернуть ему его историю. Тем более, что значок этого заслуживает.
ВИТРАЖ
Головное предприятие объединения «Башторгреклама», отвечавшее в республике не только за двигатель торговли, но и за внешний облик населенных пунктов, было расположено в некогда барачном квартале Уфы на улице Социалистическая – одной из центральных в городе. Партийным и советским руководителям города даже в голову не приходило, что бараки и название улицы могут увязываться в сознании людей как некий неразрывный тандем политического строя и бытовой неустроенности.
Поскольку бизнеса, а соответственно и рекламы как PR–продукта тогда не было, «Башторгреклама» занималось в основном изготовлением и установкой агитационных конструкций и мозаичных панно на фасадах учреждений и предприятий, а также вывесок из объемных букв с неоновой подсветкой внутри. Используя их различные сочетания, люди как будто бы зашифровывали информацию о том, что в этих зданиях располагалось: «УМПО», «ЦНТИ», «ТКАНИ», «ГАСТРОНОМ», «ЦИРК», «ГЕОФИЗПРИБОР» и т.д.
Помимо этого работники «Башторгрекламы» в праздничные дни облачали столицу республики в полотнища красного кумача и развешивали повсюду портреты коммунистической «троицы». Единственный неидеологизированный праздник Новый год также не оставался без их участия. Ледяные крепости и скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, гирлянды на елях, крышах и стенах домов были делом их рук.
Контингент предприятия состоял в основном из неудавшихся или спившихся художников. Хотя следует признать, что понятия «неудавшийся художник» и «спившийся художник», по большому счету, всегда тождественны. Несмотря на запрет распития спиртных напитков на рабочем месте, сотрудники «Башторгрекламы», как впрочем и других организаций, не особо утруждали себя соблюдением этого производственного «табу».
Так, специалист по работе с пенопластом Венер Абдразакович, или Венер-абы, как все его называли, имел свой закуток-мастерскую. Долгое время руководство в лице главного инженера «Башторгрекламы» Гегеля Мазгаровича не могло понять как он умудрялся каждый день, не принося с собой спиртного и не выходя на обед за территорию предприятия, хмелеть часам к трем – четырем. Гегель Мазгарович пытался несколько дней каждые 10–15 минут заглядывать в коморку к Венеру-абы, надеясь «застукать» того во время возлияния. Когда же Венер-абы отлучался «по нужде», на его рабочем месте даже производился несанкционированный обыск. И ничего! Никаких улик – бутылок, пробок, стаканов. Только немытая банка с чаем, кипятильник и пиала. Закуски также не было обнаружено – исключительно конфеты и печенье. Но то, что Венер-абы «поддавал» сомнений не вызывало. Один раз Гегель Мазгарович даже застал его спящим, уткнувшимся лбом в рукоятку ножа прямо во время нарезания заглавной буквы «М» для заказанного к 1 Мая транспоранта «Мир! Труд! Май!». На торец рукоятки был заботливо подложен кусок пенопласта – чтобы было мягче упереться в него лбом. Из открытого рта Венера-абы свисал «шелкопряд» слюны, а сам он тихонько похрапывал.
Когда Гегель Мазгарович потряс спящего за плечо, тот вздрогнул, вскинул голову и, как будто он и не спал, стал продолжать резать заготовку. Типа вот, работаю.
Пробовал главный инженер обыскивать мужской туалет – сливной бочек, отверстие вентканала в стене. Всё мимо.
Вроде бы на работе Венера-абы его «хмельное пристрастие» никак не отражалось. Но у Гегеля Мазгаровича уже был не просто спортивный интерес, а бзик.
Главный инженер никому не рассказывал о своих попытках докопаться до истины. Так, на всякий случай: а вдруг он не сможет раскрыть секрет Венера–абы? Засмеют ведь все. Только семья Гегеля Мазгаровича была в курсе загадки резчика пенопласта. Превратившись в подобие команды знатоков из клуба «Что? Где? Когда?», жена и дети главного инженера старались помочь главе семейства «ответить на вопрос телезрителя», выдвигая различные версии. И тоже всегда мимо.
Сдал Венера-абы напарник, переехавший к нему в коморку в результате «уплотнения» рабочего пространства. Посчитав, что венеровская мастерня слишком мала для двоих, он пришел к Гегелю Мазгаровичу и поведал ему следующее. Каждый вечер Венер-абы уносил домой пустую банку из-под чая и утром приносил обратно полную. Но наполнена она была не чаем, а крепленым вином. Он ставил банку на стол, клал сверху для убедительности кипятильник и пил только из пиалы. Еще и с прихлебыванием, как будто чай был горячий. Что можно так пить из пиалы? Только чай. Расчет был прост, а потому работал безотказно. Банка была специально не мыта, с «чайными пятнами», которые скрывали следы винных капель и разводов. И всегда закрыта. Не от мух, а чтоб не было запаха.
Реакция Гегеля Мазгаровича последовала незамедлительно – он нашел повод и организовал увольнение «стукача». Скорее всего не смог простить ему легкости раскрытия тайны Венера-абы над которой он бился не один месяц. А самому «зашифрованному» любителю бормотухи главный инженер не сказал ни слова. Он даже почувствовал себя виноватым за то, что не смог самостоятельно, без чьей-либо помощи, докопаться до истины.
Вообще Гегель Мазгарович был человеком не злым по отношению к подчиненным. Он всегда старался «войти в положение», «пойти на встречу» и «отнестись с пониманием». Профсоюзный комитет имел в лице Гегеля Мазгаровича верного союзника. Его использовали как «тяжёлую артиллерию», когда дело касалось путевок в санаторий, места в яслях и детских садах, материальных поощрений работников предприятия. «Рабочий человек – это звучит гордо!» – любил повторять Гегель Мазгарович. «Доработав» известную фразу Сатина из пьесы Горького «На дне», он сделал ее своим жизненным постулатом.
Однако случай, произошедший во время установки витража в новом здании административного корпуса Уфимского ликеро-водочного завода, заставил его не просто пересмотреть данный постулат, но полностью изменить свое отношение к «гегемону».
* * *
Заказ от «ликерки» был большой. Фасад нового административного корпуса, в который должны были переехать дирекция, бухгалтерия, плановый отдел, партком и профком, предполагалось украсить цветным витражом. Он позволял использовать дневной свет и украшал лестничные пролеты сразу трех этажей. Художники предложили стандартный набор эскизов – космонавт в скафандре на фоне звезд и летящей к ним ракеты, грудастая колхозница с «тициановскими» бедрами на фоне поля и распахивающих его тракторов и, конечно же, всадник на коне, стреляющий на скаку из лука. Последний вариант был намеком на Салавата Юлаева – национального героя Башкирии, памятник которому давно стал неофициальным символом Уфы. Почти на всех открытках и календарях с видами столицы республики и даже на заставке республиканского телевидения было изображено творение скульптора Тавасиева – всадник, оседлавший неприлично маленького роста лошадь.
Проект был утвержден на самом верху – горком и горисполком никогда не оставались в стороне при решении вопросов, абсолютно не связанных с жизнью людей. Все согласования были произведены, техническая документация подготовлена. Производственное объединение «Салаватстекло» изготовило цветной «пазл» в необходимом масштабе. Работники «Башторгрекламы» сварили металлический несущий каркас. Словом, все было готово к установке. Гегель Мазгарович лично контролировал доставку заготовок к заказчику и ход подготовительных работ в целом. Для монтажа были отобраны опытные исполнители: Айрат Валиахметов, Эдуард Хомяков и Андрей Шалаев. Все трое не первый год работали в «Башторгрекламе». Первые двое были женаты, а Шалаев был комсоргом предприятия.
Несмотря на то, что старшим по возрасту и более опытным был Хомяков, бригадиром назначили Валиахметова. Потому что с Эдуардом была связана ставшая притчей история одного из его загулов.
Хома, как его звали приятели и коллеги по работе, несколько дней отпуска «не просыхал» и жена заперла его в квартире на девятом этаже, забрала с собой ключи, а сама уехала в сад. Все друзья и собутыльники возмущались коварством жены, но помочь ничем не могли. Хома, озарённый облегчением, которое было связано с окончанием похмельного синдрома, вызвонил на работе Гегеля Мазгаровича. Утаив алкогольную подоплеку семейного скандала, он в ярких красках описал ситуацию, в которой оказался. В его интерпретации жена была изображена такой бессердечной и жестокой, что главный инженер организовал спасательную операцию и сам принял в ней участие. Он снял с объекта высотную люльку и на ней же вместе с водителем отправился на выручку одному из лучших монтажников объединения.
На виду у всего Проспекта Октября, прямо напротив здания Горсовета и памятника Ленину, «зилок» с выдвижной спаренной люлькой снимал с балкона томящегося в лучах полуденного июльского солнца мужчину. В люльке наверх поднялся и Гегель Мазгарович. Он принял из рук Хомы авоську с пустыми бутылками и помог тому перебраться через перила. По пути вниз вызволенный из домашнего заточения монтажник поведал своему начальнику о коварстве жены и о том, как он истосковался по свободе. Однако жуткий перегар и внешний вид новоявленного Мцыри заставили главного инженера усомниться в изложенной версии событий, предшествовавших операции по освобождению. Сомнения усилились после того, как Хома попросил пять рублей до первой же после выхода из отпуска получки.
– Смотри, не загуляй! – протянул ему трешку Гегель Мазгарович.
– Обижаете! – взяв купюру, развел руками монтажник.
Абсолютно неправильно поняв, чем он обидел своего подчиненного, главный инженер покраснел, достал из бумажника еще два рубля и протянул их Хоме.
– Спасибо, Гегель Мазгарович! Как все-таки вы понимаете рабочего человека! – чуть не прослезился бывший пленник и направился к своим изумленным корешам, уже поджидавшим его чуть поодаль.
Перед тем, как отправить бригаду на объект, с монтажниками провели длительную беседу на которой говорили об ответственности за выполнение заказа, об оказанном им доверии и о чести предприятия. Уставший от нескончаемой морально-политической накачки Хома не выдержал и заявил, что принципом «как бы чего не вышло» должен руководствоваться не рабочий человек, а больной геморроем. Остальные монтажники горячо поддержали его. Гегель Мазгарович был удовлетворён тем, что беспокойство руководства по поводу репутации предприятия нашло понимание в бригаде. Тем не менее, памятный случай с вызволением Хомы из заточения удержал главного инженера от назначения того бригадиром.
* * *
Заезд к заказчику – ответственный момент, определяющий дальнейшее общение с ним при возникновении каких-либо проблем в процессе монтажа. Поэтому Гегель Мазгарович решил лично проконтролировать этот этап работы. В тентованном «ГАЗ–66», который принадлежал «Башторгрекламе» и был фактически служебным транспортом главного инженера, он вместе с монтажниками привез на Уфимский ликеро-водочный завод инструмент и расходные материалы. Ребятам по его просьбе выдали новую спецовку, сами они были чисто выбриты и выглядели как работники какого нибудь НИИ.
От «ликерки» ответственным за встречу представителей «Башторгрекламы» был назначен завпроизводством предприятия – должность, не уступающая по своему статусу главному инженеру. Этот факт придал знакомству представителей заказчика и подрядчика атмосферу «дружбы и сотрудничества», в которой, судя по выпускам информационной программы «Время», всегда проходили встречи руководителей государств социалистического лагеря.
– Дильфин Галямэвищ – с типичным башкирско-татарским акцентом представился завпроизводством и крепко пожал руку Гегелю Мазгаровичу, а затем всем монтажникам и водителю. «Над его именем, наверное, тоже посмеиваются тайком», – подумал Гегель Мазгарович и почувствовал настоящую симпатию к человеку, которого он прекрасно понимал.
Далее Дельфин Галямович на правах хозяина пригласил всех к себе в кабинет, поручив разгрузку «газона» своим работникам. Водитель был оставлен Гегелем Мазгаровичем возле машины для осуществления общего руководства. Все-таки внешний вид у того был не совсем представительный. Ну и так, на всякий случай – материальные ценности, как никак.
В кабинете Дельфин Галямович усадил гостей за стол для совещаний, сам сел в свое рабочее кресло, нажал на кнопку аппарата селекторной связи и попросил секретаря принести для всех «щай с пищиньем». В ожидании угощения он стал рассказывать о заводе. Внимание, с которым гости слушали, вдохновляло его. Пусть даже оно объяснялось не интересом, а вежливостью. Рассказав о структуре и особенностях процесса изготовления и розлива спиртных напитков, завпроизводством перешел к ассортименту выпускаемой «ликеркой» продукции. Он достал со стеллажа бутылку с темной жидкостью и поставил ее на стол.
– Ват, знащит, новый продукыт будим выпсукать в итом году. «Рибинэ на кэньякэ» называицэ. Ранише тулькэ Масквэ выпсукала – типирь ват и нам исть щем погордисэ в будущим!
– Это коньяк? – поинтересовался Хома.
– Нит. Итэ каньящный напитэк, – пояснил Дельфин Галямович.
– Скоро вся жидкость в напитки уйдет. Кофейный напиток есть. Теперь вот, коньячный появился. Осталось только чайный и водочный напитки придумать, – ухмыльнулся Хома, совершенно не боясь диссидентского подтекста своей реплики. Его поняли все, кроме завпроизводством «ликерки».
– Правильнэ. Если мнуга рабутать – все придумэть мужнэ. – согласился он с монтажником и заговорщицки посмотрел на гостей, – Кыстати, эта нувэй продукция биз итикетка пока ищэ. Мужет, вэ шту–нибэдь подскажитэ? Витраж, бит, для нас харуший нарисавале.
– Да, – согласился Гегель Мазгарович, – у нас хорошие художники, всегда творчески подходят к делу.
Решив, что творчество нужно поощрить здесь и сейчас, Дельфин Галямович достал все с того же стеллажа пять рюмок и стал разливать в них «новинку ассортимента».
– Может, по окончании работ? – предложил Гегель Мазгарович.
– Абзатильнэ, – согласился Дельфин Галямович.
– Нет, вы меня не так поняли, – покраснел главный инженер, – Мы не напрашиваемся на угощение.
– А кту напрашиваецэ? Пруста аценитэ нувый прадукция и всю.
– Я хотел только сказать, что у наших работников душа к алкоголю не лежит.
– Правильнэ. Раз не лежит, знащит и класть её туда ни надэ, – согласился Дельфин Галямович, разливая коньячный напиток.
Гегель Мазгарович взял рюмку и встал. Монтажники последовали его примеру. «Выпьем и сразу пойдем» – подумал он.
– За начало! Чтоб легко пошло и мимо не прошло! – неожиданно задвинул тост Хома.
– Правильнэ, – согласился Дельфин Галямович, чокаясь со всеми.
Пока Гегель Мазгарович отпивал из рюмки будущую гордость уфимского ликеро-водочного завода и думал о том, какие комплименты по поводу ее вкусовых качеств высказать гостеприимному хозяину, Хома неожиданно продолжил разговор.
– А хорошо бы на этикетке на фоне древесной фактуры вот такую же рюмаху запечатлеть и над ней кисть спелой рябины. С желтыми осенними листьями, – сказал он присаживаясь.
– Какуй фактурэ? – переспросил его Дельфин Галямович и тоже сел. Фактура для него была связана только со счетом и ни с чем более.
– Ну, фон сделать на этикетке. Такой, под дерево, – он взял бутылку и показал на ней размер воображаемой этикетки, – Не обязательно под рябину, можно под дуб, под ясень…
Гегель Мазгарович знал продолжение этой поговорки, популярной среди его подчиненных – «Под дуб, под ясень, под хрен дяди Васин». Он покраснел, но что сказать не знал. «Тоже мне, шутник!» – подумал он.
Хома действительно был шебутным парнем. Любил посмеяться и других посмешить. Причем никогда нельзя было сказать, шутит он или говорит всерьез. Вот и сейчас Гегель Мазгарович не мог предугадать что еще «выкинет» Хома. «Хорошо, что Валиахметов у них старший. Хоть бригаду спокойно оставить можно на таком опасном объекте!» – подумал он.
Но тут сам же Хома пришел на помощь своему начальнику.
– Ладно, пойдем – сказал он и встал из-за стола, – Работа, конечно, не волк, но и не рябина на коньяке – быстро не кончится.
Дельфин Галямович решил сам проводить гостей до объекта, на котором им предстояло работать. Всю дорогу он не умолкал, рассказывая о недавно установленной новой линии разлива, о проблемах с тарой, которая возвращалась из магазинов абсолютно разбитой, о нехватке транспорта для вывоза готовой продукции и т.д. Для подтверждения сказанного Дельфин Галямович выбрал самую длинную дорогу к объекту.
Хома по ходу экскурсии задавал какие-то вопросы, на которые завпроизводством с нескрываемым удовольствием отвечал. Причем, опять было непонятно: интересно Хоме на самом деле или он прикалывался. По пути некоторые работники ликерки подходили к Дельфину Галямовичу с просьбами что-то согласовать или подписать. Он извинялся перед гостями за то, что вынужден прерывать рассказ о предприятии и отвлекаться на решение производственных вопросов. Чувствовалось, что человек кайфовал от своей необходимости.
Экскурсантам была показана вся технологическая цепочка производства выпускаемой заводом продукции, вплоть до ее последующего бутылирования и фасовки. Также в качестве доказательства нерадивости работников розничной сети были предъявлены разбитые ящики, сложенные штабелями перед зданием тарного цеха.
– Я на выстрищах в пищетургах вапрусы паднимэл фсигдэ. Тулькэ в каву ни плюнь – никому ни нравицэ. Асубинэ критикэ. Вут мине и атвищают, штэ это не они винэватэ, а штэ даруги у нас в гурэде с выебонами. – пожаловался Дельфин Галямович, сделав ударение в последнем слове на гласную Ы.
– С чем? – хором переспросили рассказчика Хома и Шалаев, давясь от смеха.
– С выбоинами. Потому что не ремонтируют дороги, – пояснил им Гегель Масгарович, не видя абсолютно ничего смешного в проблеме плохих дорог, нерадивости работников торговли и акценте гостеприимного представителя заказчика.
– Да-да! Сафсим не римантирэвэют, – согласился Дельфин Галямович, – Как буттэ это их лищный даругэ: хащу – ремантирэвэю, а хащу – нит. Тулька из-за плахуй даругэ булше не тара бьюцэ, а бутылкэ.
Прямо у входа в тарный цех на одном из ящиков сидел мужчина и курил. Увидев процессию во главе с завпроизводством, он выбросил окурок и вскочил с места. Мужчина был невысокого роста. На вид ему было лет пятьдесят. На нем был покрытый пылью халат и засаленная каскетка некогда красного цвета с символикой «Олимпиада 80». Дельфин Галямович подошел к нему и спросил:
– Ну, Василищ, как диля?
– Вот, перекуриваю. Завтра у меня отпуск начинается – надо с мыслями собраться, обмозговать всё…
– Щивэ сэбирэт и мазгават? Тибэ тара надэ сартирэвэт! Как идют рабутэ я тибэ спырашивэю?!
– Айбат, Дельфин Галямович! Глаза боятся, а член профсоюза, – тут мужчина заговорщицки подмигнул сопровождавшим начальство молодым людям, – как говорится, своё дело знает!
– Ни надэ мне тут про свуй щлен прафсаюза рассказывэт! Как отпусык итти – все права знают. А как рабутать – сразэ памит каруткий станувицэ. Кту мни абищэл тирритурия ащистэт ищо на прушлый нидиля? Пака ни закунщиш – дамуй ни пайдюшь. Фтаруй смина астанишьсэ!
– Ярар, Дельфин Галямович! Хоть в третью! Перед отпуском надо хорошо поработать – так что я только «за». Лучше пусть деньги за почасовую работу капают, чем жена на мозги, – улыбнулся отнюдь не голливудской улыбкой Василич и кивнул на сопровождавших заведующего производством молодых людей, – А это кто? Помощников мне что ли привели?
– Эта твурщиские люди. Ни щита тибэ. Ани нам витрэж дилать будут!
– Творческие? – удивился Василич и как-то недоверчиво протянул: – Ну–ну, коромысло гну.
– Пайдюмти, товарищи, – обратился завпроизводством к своим спутникам и они продолжили ознакомительную экскурсию по «ликерке».
Гегель Мазгарович посмотрел на часы. Было уже двенадцать с четвертью. Он вспомнил, что еще вчера обещал водителю найти до обеда время для замены масла в двигателе. Весь следующий день был расписан почти что поминутно и без машины было никак не обойтись.
– Я с вашего разрешения пойду, – прервал он неумолкавшего ни на секунду Дельфина Галямовича, – Дела, понимаете ли. Было очень интересно узнать как у вас тут все организовано. Я даже некоторые вещи себе на заметку взял, – улыбаясь, слукавил он.
– Канишна, канишна, – почему-то обрадовался Дельфин Галямович, – я тут сам ребятым всю покажу. Пропсук на машинэ я выписал сразэ. Ун на прахаднуй лижит. Дарогэ найдюти?
– Да, да. Я ведь у вас здесь уже все знаю, – улыбнулся Гегель Мазгарович и, попрощавшись со всеми, направился в сторону проходной. «Молодец Эдуард, – думал он, подходя к машине, – если бы все молча слушали, то человек и расстроиться мог. А так мы ему, наверное, очень даже понравились».
Начавшие уставать от вводной лекции и экскурсии монтажники были очень рады, когда подошли к новому корпусу, где они и должны были устанавливать витраж. Внутри здания все стены были уже отштукатурены, оконные проемы застеклены и единственным элементом, без установки которого нельзя было приступить к чистовой отделке, был витраж.
Дельфин Галямович поднялся с «ребятыми» на этаж, где в кучу были сложены коробки с витражным стеклом, инструмент, расходные материал и их сумки с одеждой и едой. Выезжая в первый раз на объект, монтажники всегда брали с собой из дома еду – кто его знает, есть там столовая по близости или нет. А если и есть, то вдруг обслуживают только по талонам?
Поскольку время подходило к обеду, Дельфин Галямович решил закруглиться и перед прощанием спросил у Хомы, которого он считал старшим, не нужно ли им что-нибудь для работы.
– Нужно бы спирту ректификованного, как у вас, – блеснул знанием материала из только что прослушанной лекции Хома, – А то нам ацетон выдали. Протирать стекло надо, – он кивнул в сторону коробок с витражным «пазлом», – Если не протереть, то на стекле пятна от мастики останутся. Сами понимаете что такое ацетон, а что спирт. Особенно ректификованный.
Дельфину Галямовичу было очень приятно помочь молодым людям, которые так внимательно слушали его. И к тому же он прекрасно понимал разницу между ацетоном и спиртом. Тем более ректификованным.
– Сищэс будит сдиланэ, – сказал он и, попрощавшись, ушел.
Монтажники стали распаковываться. Посовещавшись, решили, что лучше начать работу сразу после обеда. Андрей Шалаев принес с тарного цеха ящики. Их сдвинули наподобие стола и стульев вокруг него. На импровизированном столе расстелили газету и стали выкладывать на нее термосы, завернутые в бумагу бутерброды и яйца. Когда все было приготовлено к трапезе, к ним на этаж поднялась какая-то женщина в халате синего цвета. Поздоровалась и поставила на пол прямо рядом с собравшимися обедать монтажниками оцинкованное ведро. На нем красной краской был написан инвентарный номер. Ведро было наполовину наполнено плескающейся прозрачной жидкостью.
– Вот, Дельфинчик наш водицы живой вам велел принести, – засмеялась она и добавила – Потом ведро здесь оставьте – я сама заберу.
Женщина еще не успела уйти, как запах спирта ударил в нос.
– Ниче так отлили, – сказал Хома, – Я то думал чуток, в бутылке пол-литровой. Так, дома попробовать чем они нас травят.
– Щедрой души человек, – сказал Айрат Валиахметов, очищая яйцо.
Хома подошел к ведру, окунул в него указательный палец и попробовал спирт на язык.
– Это тебе не напиток. Это чистяк! – не то восхитился, не то удивился он, – Надо поскорей из термосов все повыливать на хрен и залить спиртяги туда. Иначе выдохнется весь.
– Не, выливать не надо. Лучше разлить по кружкам чай, а уж что останется – вылить, – предложил Шалаев.
Так и сделали. Стали разливать спирт по термосам. Берегли каждую каплю, словно отвечали за расход головой.
Когда все термосы были заполнены, монтажники вернулись «к столу». И тут они с удивлением обнаружили, что на одном из ящиков сидел непонятно откуда появившийся Василич.
– Правильно, – согласился он, глядя на поставленные в углу термосы.
– Конечно правильно – выдохнется и для работы не подойдёт, – стал заранее подготавливать почву для оправданий Хома.
– Да я не про то, – махнул рукой работник тарного цеха. – Я говорю правильно, что в первый день понесете. Сегодня, как Дельфин правильно сказал, вы творческие работники. Потом примелькаетесь – могут и обыскать на проходной.
Увидев в Василиче союзника, монтажники успокоились. Он показал им на свободные ящики, словно был у себя дома или в кабинете, и сказал:
– Давайте, присаживайтесь. Спирт, конечно, поперёк горла не станет, но толкач всё равно нужен. Поэтому хорошо, что чай оставили. Да и запивать шнапс лучше, чем закусывать. Только подождать надо, пока чаёк остынет – во рту и так горячо будет.
– Так мы все равно пить не будем, – Хома постарался упредить недовольный взгляд Валиахметова, – Это нам для работы надо. Ну, или после, на худой конец.
– Ну–ну, коромысло гну, – вновь недоверчиво и уже знакомой поговоркой ответил Василич. Потом добавил: – На худой конец и гондон не нужен. Да и вообще никто вам не предлагает пить. У меня у самого, вон, работы полно. Сами же слыхали что Дельфин сказал: пока не закончу сортировку тары, домой не пойду. Ну и потом, как говорится, лучше шахтёром в забой, чем на работе в запой. Вот ты, как старший, ответь мне: перекусить–то в обеденный перерыв что, возбраняется?
– Это не я – это он старший, – Хома кивнул на бригадира.
Василич посмотрел на Валиахметова и почему-то обрадовался:
– О! Тем более! Вот и я говорю – не возбраняется. А для аппетиту азряккэнэ чистячка принять никогда не помешает.
После этих слов Василич достал из кармана складной стакан и плавленый сырок. Приведя стакан в «боевую готовность» одним движением руки, он стал разворачивать упаковку сырка. По всему было видно, что пару раз от сырка уже откусывали.
* * *
Когда на следующий день Гегелю Мазгаровичу сообщили, что звонила жена Хомякова и выразила беспокойство по поводу того, что муж не пришел домой ночевать, он насторожился. Хотя и паниковать не стал, потому что Хома иногда давал супруге повод для подобного беспокойства. Но когда главному инженеру сообщили, что еще приходила мать Шалаева и также беспокоилась по поводу сына, его прошиб пот. Не звоня Дельфину Галямовичу и никому не докладывая, он сел в «газон» и поехал на «ликерку».
В новом корпусе не велось никаких работ. Поэтому Гегель Мазгарович был первым, кто обнаружил своих работников в одной из комнат на втором этаже. Вернее, обнаружил их тела, которые на первый взгляд казались безжизненными. Чуть поодаль от бригады монтажников лежал работник тарного цеха в каскетке с олимпийской символикой. «Василич!» – сразу вспомнилось имя храпевшего рядом с его подчиненными человека. Он попробовал похлопать по щекам каждого из своих коллег, тряс их за плечи, но все было тщетно. Они были в полной отключке, как будто под наркозом, и никак не реагировали на его попытки привести их в чувство. «Ладно, хоть живые! И никто их пока не видел!» – нашел положительный момент в ситуации с пьяными монтажниками Гегель Мазгарович.
Заскочив к Дельфину Галямовичу, он попросил выписать пропуск на машину:
– Со склада не все отгрузили вам. Вот, довез.
– Канишна, канишна – обрадовался Денис Галямович. – Пумэщь нужнэ?
– Нет, нет, – забеспокоился Гегель Мазгарович, – там мелочевка. Да и тороплюсь я – работы невпроворот.
Машину подогнать вплотную к зданию не удалось – мешал лестничный марш входной группы. Поэтому «газон» поставили задним бортом поближе к оконному проёму на первом этаже. Вместе с водителем главный инженер стал грузить своих работников в кузов. Каждый раз, перед тем как вынести очередное обездвиженное тело на улицу, они выглядывали из оконного проёма дабы убедиться, что вокруг не было свидетелей. Наблюдая за этой сценой со стороны, непосвящённый человек мог подумать, что стал свидетелем киднэпинга из морга. Или военной операции диверсионной разведгруппы по захвату «языка» на территории противника.
Закончив погрузку, главный инженер и водитель поднялись за пожитками тех, кто уже лежал в машине. На глаза им попался спящий Василич.
– Давай заберем и его, – сказал Гегель Мазгарович
– Зачем он нам? – удивился водитель
– А затем, чтобы улик не оставлять.
Так и сделали. На проходной машину досмотрели, но спрашивать ничего не стали. То ли уже и не такое видели, то ли интересовались исключительно попытками хищения заводской продукции. Хотя картина, конечно, была не для слабонервных. Незнающий человек, глядя на сложенные головами вперед тела, которые были в одинаковой спецодежде и накрыты куском брезента, мог подумать, что с территории завода вывозятся трупы казненных работников.
Тела развозили по домам молча. Как похоронная команда. Родственники принимали своих кормильцев с одним и тем же вопросом:
– А что ему теперь будет?
Совершенно несклонный к стёбу Гегель Мазгарович вместо реплики «К премии представим» или «Наградим поощрительной поездкой в Болгарию» был немногословен:
– Будем увольнять.
Последним адресом доставки «бесценного груза» был дом монтажника Хомякова на Горсовете. Четвертое тело с красной каскеткой на голове выгрузили там же.
– А это кто? – мрачно поинтересовалась жена Хомы.
Гегель Мазгарович не хотел афишировать свое знакомство с работником тарного цеха Уфимского ликеро-водочного завода и потому решил оставить ее вопрос без ответа.
– Наверное, только завтра узнать сможете, – сказал водитель, закрывая тент грузовика.
– Оставляйте его себе – мне он тут даром не нужен. Или увозите его туда, откуда привезли.
– Так он и нам не нужен. А там, откуда мы его привезли, часы приема уже закончились, – ответил водитель и добавил: – В кузове духан стоит такой, что спичку зажги – ка-а-ак…
Тут он осекся, посмотрел на супругу Хомы и подобрал нейтральное слово:
– Как рванет.
* * *
Гегель Мазгарович приложил максимум усилий, чтобы история не получила огласки, а подобные случаи в «Башторгрекламе» впредь не повторились. Уволили четверых сотрудников. По соответствующей статье, без каких-либо собраний и разбирательств. Нет, Василича эта участь не постигла – он был работником другого предприятия. Четвертым уволенным был Венер-абы. А Гегель Мазгарович после этого случая стал классовым мизантропом.
ДРУГАЯ СТРАНА
Когда Ильшат Валиев окончил Уфимский авиационный институт, перед ним встала дилемма – либо три года отработки на заводе, либо два года службы в армии. Наличие в институте военной кафедры позволяло Ильшату служить лейтенантом. Поэтому он, как и многие юноши-выпускники УАИ, кто не смог получить достойного распределения, выбрал службу в армии. Отгуляв пару месяцев после получения диплома, он отправился в часть, к которой был приписан военкоматом. Это был вертолётный полк в Грузии, недалеко от Гудауты.
В письмах, которые он писал в течение первого года службы своим друзьям в Уфу, он рассказывал о райском месте: море, южное солнце, гостеприимство местных жителей и много спирта. Авиационного, который вполне употребим в качестве питьевого. Ильшат приглашал приятелей-земляков навестить его, обещая взять на время их визита краткосрочный отпуск и обеспечить гостей жильём.
Дело было в горбачёвские времена, в самый разгар антиалкогольной кампании. И именно последний факт воспринимался его друзьями как неопровержимый аргумент в пользу того, что Гудаута была райским местечком. А двое из них – Ильдар и Олег – решили слетать в Грузию и своими глазами увидеть тот Эдем, в котором служил их приятель.
Отец Ильдара работал начальником диспетчерской службы уфимского аэропорта. Сразу же по окончании летней сессии, на время каникул он устроил сына вместо отработки в стройотряде бортпроводником на рейсы летнего расписания, под которое всегда был дополнительный набор персонала. А Ильдар, в свою очередь, договорился с экипажем, чтобы разрешили слетать рейсом на Тбилиси его другу Олегу. За червонец, на сиденье для технического персонала. Разумеется, «мимо кассы». Во времена, когда терроризм существовал только на Ближнем Востоке, а реклама «Аэрофлота» выглядела абсолютно неуместной ввиду отсутствия конкуренции на рынке авиаперевозок, лететь куда-либо, заплатив экипажу, было вполне обычным делом.
Рейс Уфа – Тбилиси когда-то летал два раза в неделю. Причём, без границы, таможни и стыковок. Нередко кто-то из стюардесс договаривался с экипажем и оставался в Тбилиси или каком-либо другом городе до следующего рейса. Так, отдохнуть, развеяться, пробежаться по магазинам. Чаще всего это происходило летом, а города были на берегу моря. На оставшихся бортпроводников выпадала дополнительная нагрузка по обслуживанию пассажиров. Но вопросов о «компенсации» никогда не возникало. Решалось всё элементарно – деньгами или «отработкой» за дополнительный день отдыха на этом же или любом другом направлении. Поэтому Ильдар легко договорился с напарницами, что он останется в Тбилиси до следующего рейса. Курортный сезон был в разгаре и стюардессы согласились, что он отработает за них на «горячем» маршруте Уфа – Адлер.
Получив от экипажа разрешение на «провоз» Олега и согласие стюардесс «прикрыть» его отсутствие, Ильдар решил, что полетят они в четверг, а обратно в Уфу вернутся в понедельник. Таким образом, времени на то, чтобы навестить друга на боевом посту в Гудауте у молодых людей было достаточно.
С собой в путешествие Ильдар решил взять десятилитровую алюминиевую флягу и привезти в ней обратно авиационный спирт. Друзей по возвращении угостить, да и самим приезд «отметить». Оставшийся спирт можно было продать и окупить «провоз» Олега. Такой нормальный бизнес-план.
Из столицы Грузии до Гудауты надо было ехать на автобусе. А поскольку из Уфы самолёт по расписанию вылетал достаточно поздно, приятели решили остановиться в Тбилиси на ночь. Забронировать дополнительное место в служебной гостинице было невозможно. Поэтому приняли решение, что переночуют ребята у кого-либо из знакомых. Мама Ильдара предложила остановиться у своей подруги по учёбе в МГУ тёти Аллы. В телефонном разговоре та с радостью согласилась принять ребят у себя. Алла Николаевна Чубакидзе была замужем за высоким чином грузинского КГБ и жила в роскошной квартире в центре Тбилиси. С отдельной комнатой для гостей. Олег имел в качестве варианта армейского друга Сандро. Он не переписывался с ним, поскольку вообще не писал писем. Но по случаю приезда в Тбилиси сподобился на открытку с видом на памятник Салавату Юлаеву, в которой предупредил бывшего сослуживца о своём визите в компании с другом. Перед дембелем тот заверял своих армейских товарищей, что был бы счастлив видеть всех у себя дома в Тбилиси. А поскольку двое – это гораздо меньше, чем все, то Олег вполне логично предположил, что места им хватит.
Вещей в дорогу много брать было нельзя. Родители Ильшата отправили с ребятами кое-что из одежды для сына. Мама Ильдара передала в гостинец своей подруге баночку варенья из лесной земляники и оренбургский пуховый платок, который был известен всей стране благодаря одноимённому «хиту» Людмилы Зыкиной. Всё поместилось во флягу. Поехали, что называется, налегке.
* * *
Самолёт прилетел в тбилисский аэропорт, когда солнце только начало клониться к закату. Южный зной сразу ударил в лицо спускавшимся по трапу пассажирам. Горный воздух имел свой, специфичный запах, настоянный на фруктах и цветах. Даже в Сочи воздух был другим. Вязь грузинского алфавита на здании тбилисского аэропорта и технических постройках вообще наводила на мысль, сто самолёт совершил посадку за границей, в другой стране.
До города добрались автобусом. Выйдя на конечной остановке, молодые люди оказались около станции метро Дидубе. Они зашли в ближайший продуктовый магазин за сигаретами. Купили две пачки «Космоса», поскольку ничего другого, кроме папирос «Беломорканал», не продавалось. Разумеется, все табачные изделия были производства Батумской табачной фабрики. Ещё взяли две бутылки вина «Цинандали». Во-первых, не хотели идти в гости с пустыми руками. А во-вторых, сработал условный рефлекс: продают вино без талонов – надо брать. Да и мама Ильдара часто упоминала именно это вино, когда рассказывала о вкусах 50–х и 60–х годов. Вкусах, недоступных поколению, которое выросло во времена дефицита.
Места во фляге уже не было и Олег положил «Цинандали» в авоську, которую взял с собой на всякий случай. Выйдя из магазина, ребята осмотрелись. Ильдар сразу же заметил, что на них обращают внимание почти все прохожие. Он посмотрел на себя, потом на Олега и сразу же покраснел. Один стоял с алюминиевой флягой, другой с авоськой, в которой не было ничего, кроме двух бутылок вина.
«Блин, точно как два аллаярина. Хоть бы вино во что-нибудь завернули» – подумал он.
– Ну что, давай пробьём адреса? Куда ближе, туда и поедем, – предложил Ильдар Олегу.
В поездке Ильдар был неформальным лидером. В отличие от Олега, который кроме пригорода Уфы и службы на далёкой погранзаставе под Благовещенском нигде больше не бывал, Ильдар был «тёртым» путешественником. В детстве все летние каникулы он проводил с родителями на море. А в студенческие годы вместе с приятелем-однокурсником Ильдар частенько ездил после зимней сессии в Москву и Питер походить по театрам и музеям. Работа бортпроводником была не в счёт, поскольку кроме типовых зданий аэропортов увидеть что-либо ещё было практически невозможно.
Ильдар остановил проходившего мимо парня, примерно их ровесника, и обратился к нему с вопросом:.
– Извините, не подскажете, куда нам ближе – улица Леселидзе или улица Хетагурова?
Молодой грузин оказался заикой. Это выяснилось сразу, как только он начал объяснять. Каждое слово, к тому же ещё и по-русски, давалось ему с трудом. Парень очень волновался и от этого заикался ещё сильнее.
– Ссссснн….Сссссначала нннна-а-адо… – морщась и закрывая глаза пытался что-то сказать он ребятам. Чтобы помочь ему Ильдар переспросил:
– Да нет, вы просто скажите куда ближе. Мы такси возьмём.
– Ннннну–у–у я же вам ггггга–а–аварю ннна–а–адо ссс…
За мимикой и страданиями объяснявшего было невозможно спокойно наблюдать. Ильдар даже стал винить себя за то, что заставил человека испытывать муки, сравнимые с лаокооновскими.
Вокруг них стали собираться прохожие. Они с любопытством наблюдали за потугами заикавшегося человека объяснить приезжим как проехать на одну из улиц города. Затем какой-то мужчина с газетой в руке – либо из жалости к объяснявшему, либо из желания помочь приезжим – подошёл поближе и спросил:
– Что случилось? Куда вам?
Ильдар собрался было объяснить в чём дело, но в этот момент заика начал громко выражать недовольство вызвавшемуся «разрулить» ситуацию земляку. Тот, в свою очередь, не остался в долгу и сам перешёл на повышенный тон. Они ругались на грузинском языке. Причём заикавшийся буквально на глазах преобразился. Он почти перестал «стопорить», а его мимика стала нормальной. Не зная ни слова по-грузински Ильдар, тем не менее, понял, из-за чего ругались парень и мужчина. Заикавшийся, по всей видимости, говорил, мол, чего ты лезешь, они же не тебя спросили, а меня. И я объяснить смогу всё без твоей помощи. А мужчина, скорее всего, отвечал, что просто хочет помочь ему, да и ребята могут куда-то торопиться.
В спор стали вступать другие прохожие. Причём было непонятно, на чьей стороне. Неожиданно заикавшийся молодой человек растолкал людей, которые собрались вокруг, и подошёл к дороге. Подняв руку, он остановил проезжавшее такси. Затем открыл дверь автомобиля, вытащил из бумажника три рубля, протянул их водителю и что-то сказал ему. После этого он повернулся к собравшимся, окинул всех торжествующим взглядом и сказал ребятам:
–Сссса–а–адитэсь.
Ильдар полез в карман джинсов и достал пачку пятирублёвых купюр, согнутых пополам и обмотанных красной резинкой. Однако парень выставил перед собой руки, всем своим видом показывая, что не хочет касаться предлагаемых денег и возмутился:
– Т-ты что? Я кккк тттэ-эбэ пппприэду – т-ты ддддэньги ссссмммммменя ва-ва-а-азьмёшь?
– Не возьму, – не задумываясь о смысле вопроса, ответил Ильдар. Он уже уяснил для себя, что в разговоре с заикающимся человеком не надо позволять ему вдаваться в подробности или объяснения.
Ильдар также понимал, что лучше предоставить парню возможность подобным образом продемонстрировать знаменитое кавказское гостеприимство. Это могло положить конец разгоревшемуся спору. Одобрительные возгласы и даже аплодисменты столпившихся вокруг и наблюдавших за происходящим прохожих подтвердили правильность его предположения.
Ильдар и Олег направились к машине. Поблагодарив парня, который был явно доволен своим решением подарить гостям солнечного Тбилиси поездку на такси, Ильдар сел на заднее сиденье. Олег подошёл к открытой двери автомобиля, поставил на землю флягу и повернулся к смотревшим им вслед людям. Он поднял руки, сжав ладони над головой, и громко сказал:
– Большое спасибо, уважаемые тбилисцы! Приезжайте к нам в Башкирию! Вас всегда будут рады видеть в Уфе! Рахим итегез!
После этих слов он взял флягу и сел в машину. Ильдар посмотрел на него и спросил:
– Ну, ты красавец. Думаешь, они знают, как будет по-башкирски «Добро пожаловать»?
– А что?
– Ты хоть просекаешь, что они подумали сейчас?
– Ну, и что?
– То, что тебя зовут Рахим, а меня Тегез. Или наоборот. Два красавца: Рахим и Тегез приехали в Тбилиси.
Водитель, грузин средних лет с буденовскими усами, повернулся к ним и расплылся в широченной улыбке.
– Здравствуйтэ!
– Гамарджоба, – блестнул знанием грузинского приветствия Ильдар.
– Ва! Гамарджоба, гэнацвалэ! – обрадовался таксист и тронулся с места.
– Вы аткуда приэхали к нам? – спросил он, повернувшись в пол-оборота к пассажирам. Весь последующий путь он проехал именно в таком положении, лишь изредка оглядываясь вперёд.
– Из Уфы, – ответил Ильдар.
– А гдэ эта?
– На Урале.
– О-о! Далэко! – покачал головой шофёр и тут же, улыбнувшись, подмигнул, – Ну как, нравица вам Тбилиси?
– А мы толком ничего и не видели ещё, – встрял в разговор Олег.
Ильдар тем временем подумал: «Интересно, а что было бы, если б мы сказали, что нам не особо нравится Тбилиси? Или даже совсем не нравится? Что, водитель просто обиделся бы и перестал с нами общаться? Или вообще остановил бы машину и сказал, чтобы мы дальше шли пешком?»
– Э–э, я тогда вам сэчас город пакажу!
– Вот здорово! – обрадовался Олег. Он вообще всегда был рад любой халяве – когда его угощали выпивкой, предлагали сигарету, приглашали бесплатно прокатиться куда-нибудь.
Водитель проехал по проспекту Руставели и набережной Куры. Иногда он специально сбрасывал скорость, чтобы показать гостям памятник Вахтангу Горгасали, храм Метехи, крепость Нарикала и другие «картинки» старого Тбилиси. Рассказать об этих достопримечательностях города он не мог, поскольку продолжал сидеть в пол-оборота к лобовому стеклу и часто провоцировал аварийные ситуации. Недовольные водители сигналили и что-то кричали ему из своих машин. В ответ он поворачивался, но только не вперёд, а к открытому окну и начинал объяснять им, что показывает Тбилиси дорогим гостям. Те, в свою очередь, переставали возмущаться, понимающе кивали и проезжали дальше. На этом роль гида, которой водитель был так поглощён, исчерпывалась.
Предзакатный город утопал в ароматах небольших кафе и ресторанчиков. В опущенных стёклах такси мелькали невысокие дома, цветные балкончики с резными балюстрадами, уходящие от центральных улиц лабиринты проулков, платаны, накрывающие тенью листвы тротуар и многое другое, за что хотелось зацепиться взглядом и рассмотреть подробнее. Но машина мчалась вперёд, создавая ощущение просмотра документального кино. Ильдар поймал себя на мысли, что красота нескончаемой вереницы городских пейзажей напомнила ему кадры из передачи «Международная панорама». Поскольку природа, незнакомый язык на вывесках и совершенно иная архитектура, не похожая на уфимскую, московскую или питерскую, создавали ощущение пребывания за границей.
Ближним адресом, или, по крайней мере, тем, который назвал водителю такси заикавшийся парень, оказалась улица Леселидзе, где жил бывший сослуживец Олега. Водитель вышел из машины и сказал, что хочет проводить ребят, поскольку адрес находился где-то в глубине прилегающих к улице переулков. Его кое-как уговорили не идти. Аргументом, убедившим водителя остаться, были слова Ильдара о том, что им даже приятно было бы поплутать лишнего в лабиринтах тбилисских кварталов.
* * *
Дом Сандро нашли довольно быстро. Он располагался в маленьком, уютном дворике, вход в который был через арку. Если питерские дворы ассоциируются с колодцами, поскольку окружены высокими домами, то тбилисский дворик можно сравнить с тазиком. Двух, максимум трёхэтажные дома с идущими вдоль всего дома балконами, которые заменяют коридор. Если в некоторых питерских дворах днём постоянная тень, то тбилисский дворик открыт солнцу всегда.
В центре дворика стоял длинный стол, за которым сидели трое мужчин. Рядом со столом играли мальчишки. Бельевые верёвки тянулись от одного дома к другому, и сохнувшие на них простыни и пододеяльники напоминали театральный занавес.
Когда Ильдар с Олегом вышли из арки, всё движение во дворе остановилось. Мужчины и дети повернулись в их сторону и стали рассматривать незнакомцев. Ильдар подошёл к столу и поздоровался. Все сидевшие за столом встали и поприветствовали его. От неожиданности Ильдар вздрогнул, но быстро собрался и спросил:
– Простите, не подскажете, здесь ли проживает Сандро Сулханишвили?
– Здеэсь, только его сэчас нэт. Он павёз радитэлей к брату в Гори, – ответил самый старший из мужчин с седыми волосами, – А вы присаживайтэс, пажалуста.
Ильдар и стоявший за его спиной Олег присели на стулья, которые им сразу же принёс один из мужчин.
– А скоро Сандро вернётся, не подскажете? – спросил Ильдар.
– Думаю, Сандро скоро падайдёт, – ответил всё тот же седой мужчина и спросил Ильдара – А вы аткуда приэхали?
– Из Уфы.
– А гдэ это?
– На Урале.
– О–о, далэко, очэн далэко.
Ильдар подумал о том, что уже слышал точно такую же реакцию на то, что они приехали из Уфы. «Сейчас спросят, нравится нам Тбилиси или нет» – подумал он и сразу же услышал вопрос:
– Ну, как вам Тбилиси? Нравица?
– Да, красивый город. Нам уже и памятник Горгасали показали, и крепость Нарикала.
– Да, да! Очен харашо! – одобрительно загудели сидевшие за столом.
В это время во дворе появились две девушки и стали накрывать на стол. Мальчишки, до этого игравшие в углу дворика, помогали им приносить тарелки с зеленью и едой, стаканы, столовые приборы. В центр стола поставили большой глиняный кувшин.
– Пазвольтэ прэдставица к вам. – сказал седовласый и начал с себя, – Константин Нодарович Салуквадзе, инжэнэр.
Далее он представил остальных, сидевших за столом, называя их фамилию, имя, отчество и профессию. После того как Ильдару с Олегом были представлены все, кто сидел за столом, настала их очередь сказать гостеприимным хозяевам несколько слов о себе.
– Я Ильдар. Фамилия Шарипов. Будущий архитектор. Заканчиваю строительный факультет Башкирского нефтяного института.
– А меня зовут Олег Никитин. Работаю часовым мастером в Рембыттехнике. Служил с Сандро на одной заставе под Благовещенском.
Известие о том, что в гости к Сандро приехал один из его сослуживцев, было воспринято сидящими за столом с большим воодушевлением. Как будто выяснилось, что Олег был братом Сандро, потерявшимся в детстве и который наконец-то нашёлся. А когда Ильдар сказал, что они направляются в Гудауту навестить своего, служащего в армии, друга, восхищению хозяев не было предела.
Ильдара и Олега посадили друг напротив друга в центре стола. Сразу же в стаканы из принесённого кувшина налили вино и Константин Нодарович произнёс первый тост.
– Встрэчать гостя – эта фсэгда пачёт. Но вдвайнэ пачётна принимать в гастях защитника атэчества. Тры года назад мы с гордостью встречали Сандро, каторый заслужил паграничником на Дальнэм Вастокэ. Сэгодня мы рады что к нам приэхали его саслуживэц с другом. А это значит, что мы встрэчаем нэ гастэй, а наших детэй. Патаму чта фсэ, кто защищаэт нас, уже нэмолодых сафсэм людэй – эта наши дэти. И этот тост я хачу выпить за их здаровье и за здаровье тэх, кто сэчас ахраняэт нашу страну и этот мир, в катором мы живём.
Ильдар впервые пробовал домашнее вино. До горбачёвского указа в магазинах, помимо бормотухи, можно было купить болгарские и венгерские вина. У них был благородный вкус, но уфимская молодёжь и алкаши не обращали на это особого внимания. Их интересовали, прежде всего, градус и цена напитка. Сам Ильдар любил залпом выпить стакан вина и, не закусывая, закурить сигарету. После первых трёх-четырёх затяжек наступал тот самый «приход», ради которого, как он предполагал, люди и потребляли алкогольные напитки. Вино, которым его угощали в этот раз, было совершенно лишено спиртового привкуса. Тем не менее, это определённо был не сок.
Ильдар по привычке выпил стакан до дна и поставил его на стол. То ли с дороги, то ли после выпитого вина он почувствовал, что сильно проголодался. Сидевший рядом грузин, которого звали Важа, положил ему в тарелку лепёшку с творожной массой в центре. По виду она была очень похожа на ватрушку.
– Кушайтэ, пажалуста, хачапури. Сациви, вот, пробуйтэ. Всё свэжэе.
Ильдар не стал закуривать, а сразу стал есть. И не потому, что был голоден. Он не хотел «прихода».
Второй тост был за «Урал – опорный край державы». Его тоже произнёс Константин Нодарович. Важа продолжал подвигать к Ильдару стоявшие на столе блюда и приговаривать, что всё свежее. По-видимому, желая как-то объяснить гостю свою настойчивость, он сказал:
– Кушайтэ. Мы вэд знаэм, что у вас в Рассии голодно. Асобэна на Уралэ.
Ильдар покраснел. Ему почему-то стало стыдно, что в то время Башкирия действительно была голодным краем. Люди, летавшие в командировки в другие города страны, привозили обратно сосиски, сардельки, колбасу и даже сырое мясо. Практически все уфимцы знали расписание завоза молочных и мясных продуктов в ближайшие к их дому магазины так же хорошо, как даты рождения членов своей семьи. Идя за продуктами вне этого расписания можно было гарантированно купить только хлеб, вермишель, консервированные овощи, маргарин и подсолнечное масло.
«Надо было тогда и тост произнести, что Урал – голодный край державы», – подумал Ильдар без всякой обиды. Скорее из сочувствия к самому себе и жителям «опорного края». Даже покупая сигареты и вино в магазине у станции метро, он обратил внимание на то, что там свободно продавались мясо, сосиски и другие колбасные изделия. Вместе с Олегом они отметили, что грузины не подозревают, как хорошо они живут. Вроде как и страна одна, а вот кому-то всё, а другим ничего.
В это время сосед Олега расспрашивал его о работе. Олег мог долго разговаривать на две темы. О своих любовных похождениях и о часах. Каким он был любовником знали только его зазнобы. О том, что Олег был хорошим часовщиком и даже фанатом своей профессии знали все, кто хоть раз обращался к нему с просьбой наладить сломавшиеся часы. Или заговаривал с ним о его работе. Олег даже ходил в республиканскую библиотеку прочитать литературу по истории часов и часового дела. От него Ильдар узнал, что Вольтер и Бомарше были прекрасными часовщиками. А последний даже придумал таймер и систему завода часового механизма без ключа. И ещё Олег никогда не расставался с часовой лупой и пинцетом. Даже вне рабочего времени.
Сосед Олега, которого звали Гиви, понял, что рядом с ним сидит мастер своего дела. Он снял с руки часы и попросил посмотреть их. Олег сразу достал из кармана свою лупу и одел её. Некоторые часовщики при работе сжимали лупу глазничными бороздами. Другие, как Олег, приспосабливали бельевую резинку для того, чтобы крепить лупу у себя на лбу. Когда лупа была не нужна, её не откладывали в сторону, а просто оттягивали резинку и передвигали на лоб. Вот и сейчас Олег натянул на голову резинку с лупой, словно сидел на своём рабочем месте в родной Рембыттехнике. Он снял крышку наручных часов и стал рассматривать механизм.
– Олег, ну ты что делаешь-то? – спросил его Ильдар, – инструмента-то всё равно нет. Чего смотреть-то?
– Почему нет? Есть! Я с собой на всякий случай набор свой взял. Мало ли что?
– Слушай, люди нас угощают, тосты произносят, а ты здесь «точку» по ремонту устроил?
Тут за Олега заступился Гиви:
– Зачэм устроил? Я сам его папрасил. У нас харошими часавщиками толко эврэи работают и их мало очэн.
– А у нас в Рембыттехнике евреи исключительно на золоте сидят, – не отрываясь от часов, сказал Олег.
– А вы и золото наладить можэтэ? – спросил уже сосед Ильдара.
– Нет, что я, еврей что ли? – резонно ответил Олег, продолжая рассматривать механизм.
Ильдар оставил Олега в покое, поскольку Константин Нодарович стал произносить очередной тост. На этот раз за здоровье человека, который также был соседом Сандро, но отсутствовал на трапезе. Поскольку находился в командировке в Кутаиси. И которому обязательно расскажут о дорогих гостях и знаменательном дне их приезда. Тостующий говорил о том, какой это хороший человек. А Важа поворачивался к Ильдару и дублировал сказанное. Причём делал это он очень эмоционально. Звучало это примерно так:
– Тэнгиз Отарович замечатэльный челавек…
– Очэн, очэн замечатэльный!
– …прэкрасный специалист…
– Очэн, очэн прэкрасный!
– …хароший сабэсэдник…
– Очэн, очэн хароший!
В довершение ко всему Константин Нодарович окликнул одну из женщин, наблюдавших за трапезой с балкона второго этажа:
– Нино! Пазволь нам выпить за здаровье тваэго супруга и нашэго сасэда Тэнгиза!
Нино улыбнулась и поклоном выразила свою благодарность за тост в честь мужа.
– Нино очэн парядочная жэнщина и очэн хароший бухгалтэр, – сразу же повернулся к Ильдару Важа.
Со стороны, наверное, выглядело так, будто один человек сидел и сомневался в моральных, профессиональных и иных качествах Тэнгиза и его супруги Нино. А другой настойчиво пытался эти сомнения развеять. «Может, у меня выражение лица какое-то недоверчивое?» – даже подумал Ильдар и решил, что будет кивать и улыбаться Важе всякий раз, когда тот будет поворачиваться к нему.
Хозяева подливали в стаканы вина и следили за тем, чтобы тарелки «дарагих гастэй» не были пустыми. По привычке, желая внести свой вклад в организацию стола, Ильдар стал доставать из авоськи купленные по приезду в Тбилиси бутылки «Цинандали». Заметив это, Важа возмутился:
– Ты что?! Ты же в гастях! Убэри это атрава. Кто тэбэ это дешовка дал?
– Мы в магазине купили, – пожав плечами, ответил Ильдар.
– Э-э! Развэ в магазинэ харошеэ вино будэт? – искренне удивился Важа.
«Зажрались», – усмехнулся про себя Ильдар, засовывая бутылки обратно в авоську. Он достал пачку «Космоса» и вновь услышал возмущение своего соседа:
– Вай мэ! Опять в магазинэ купил? Развэ в магазинэ можно пакупать? Кто эта курить можэт?
– А что? Нормальные сигареты, не папиросы же. Батумская табачная фабрика, между прочим..
– Э–э! Дажэ эсли в Батумэ будут делать эта – всо равно нэ пакупай! – засмеялся Важа и положил перед Ильдаром пачку «Marlboro».
«Нет, не зажрались. Просто живут в другой стране» – подумал Ильдар, доставая сигарету из предложенной пачки.
В этот момент он заметил, что в арку вошёл человек в милицейской форме. Ильдара бросило в жар. В Уфе подобное застолье во дворе в разгар антиалкогольной кампании было просто невозможно. Во-первых, не принято, а во-вторых, чревато для разговлявшихся задержанием, приводом в милицию и последующим сообщением по месте работы или учёбы.
«Во влипли!» – подумал Ильдар и тронул соседа за локоть. Когда Важа повернулся, он кивнул в сторону арки.
– Э–э! Ра карги хальхи харт! – обрадовался Важа и с распростёртыми руками встал из-за стола. Его примеру последовали остальные. Ильдар и Олег были не удивлены, а, скорее, потрясены тем, что все без исключения обрадовались появлению сотрудника милиции в ситуации, которую можно было определить как «взятие с поличным».
Милиционер в чине капитана подошёл к столу, обнялся с каждым из местных и поздоровался за руку с Ильдаром и Олегом.
– Эта наши дарагиэ гости – Ильдар и Олэг. Ани друзья Сандро Сулханишвили, – представил их капитану Константин Нодарович.
– А эта уважаэмый Иракли Гургэнавич, – отрекомендовал капитана Важа и ожидаемо добавил – Очэн хароший челавэк.
Ильдар уже заметил, что с самого начала знакомства все соседи Сандро в их присутствии старались говорить по-русски. Вот и капитан сразу же перешёл на русский язык. Причём, ожидаемым для Ильдара вопросом:
– Ну, как вам Тбилиси? Нравица?
– Очень. Красивый город и люди замечательные, – Вопрос заставил Ильдара постараться быть серьёзным.
– Очэн, очэн харошиэ рэбята, – гордо вставил Важа и Ильдар уже стал кашлять, чтобы подавить приступ смеха.
Ираклий Гургенович был крупным мужчиной. Ему принесли стул и посадили за стол напротив Константина Нодаровича. Придвинули тарелку с хачапури и налили стакан вина. «Ничего так, – подумал Ильдар, – У нас ментам при исполнении попробуй, налей. Не то, что в трезвяк – в дурку отвезут. А ведь они все поголовно бухают. Нет, чтобы вот так, с народом…»
Капитан сел, снял фуражку, достал из неё носовой платок и вытер лоб.
– А что эта у вас на лбу? – спросил Ираклий Гургенович, глядя на Олега.
Ильдар, как и все сидевшие за столом, посмотрел на своего приятеля. Тот сидел с лупой, торчавшей маленьким рожком на его виске. Спохватившись, он быстро нащупал её правой рукой и снял.
За годы работы часовщиком у Олега выработалась профессиональная привычка к этому инструменту. Выражалась она в том, что будучи погружённым в работу, он просто-напросто переставал чувствовать лупу на своём лбу. Часто, забывая её снять, Олег выходил на улицу перекурить или бегал в столовую через дорогу на обед. Несколько раз он через весь город возвращался домой с лупой на голове, не обращая внимания на удивлённые взгляды пассажиров в транспорте.
– Это лупа, – стал почему-то оправдываться Олег, – Меня часы попросили посмотреть. Они опаздывали. Я анкерный механизм подрегулировал. Сам осциллятор нормальный, а вот балансирную пружину уже менять надо.
– А–а, – понимающе протянул Ираклий Гургенович. – У мэня заадно нэ пасмотрэтэ? – не дожидаясь ответа, он стал снимать с руки часы.
– Канэшна пасмотрыт! Он такой спэцалыст – фсё знаэт! – стал нахваливать Олега его сосед Гиви.
Пока Олег смотрел капитанские часы, Гиви одел свои на руку и громко спросил сидевщих за столом:
– Развэ эта парядок? Я нэдэлю назад забрал часы из рэмонта! Ани их тры дня налаживали, а часы как были, так и апаздывают! Пачэму у нас хароших часавщиков нэт, а к еврэям нэ прабица? Мы что, в другой странэ живём, да?
– Да! – согласился с ним Важа и сразу же обратился к Ильдару, – Вот вы страитэль. А скажитэ, на каком этаже вы живётэ?
– На третьем. А что? – удивился неожиданному вопросу Ильдар.
– А дома сколко этажей?
– Пять. У нас типовая «хрущёвка».
– А кагда дождь идёт у вас паталок и стэны пратэкают?
– Потолок и стены? Нет. А как они от дождя протекать могут? Я же говорю: у нас квартира на третьем этаже. Да и на пятом никто никогда на протекание не жаловался. Там же шифер уложен. Если что с ним случится – просто лист поменяют и всё.
– Вот! – Важа показал пальцем на Ильдара и торжествующе повернулся к Ираклию Гургеновичу – вэд могут гдэ-та строить как нада! А у нас нэ могут! Дэствитэльна, как в другой странэ живём!
– Ва! – возмутился капитан. – Что ты на мэня смотришь? Я што ли строю? Я блуститэль за парядком!
– А эта парядок, кагда у маэво сына каждый дождь пратэкаэт? Он тоже на трэтэм этажэ живёт. Зато дом эщё больше! Дэвять этажэй!
«Теперь и до них дошло, что живём в разных странах», – усмехнулся про себя Ильдар.
Константин Нодарович успокоил Важу, предложив тост за здоровье строителей, которые возводили Днепрогэс, Останкинскую телебашню и футбольный стадион имени Ленина в Тбилиси. И которых, как он был уверен, гораздо больше азербайджанцев, заполнивших все стройки в Грузии и особенно в её столице.
Уже давно стемнело. Свет в окнах едва освещал стоявший в центре двора стол. Поэтому кто-то принёс керосиновые лампы, которые Ильдар раньше видел только в кино. Хозяева и гости переговорили почти на все темы: о футболе, о Горбачёве и перестройке, об Америке и жизни за бугром. Потом все вместе пели грузинские песни. Ильдар не знал ни мелодии, ни, тем более, слов. Но выпитое вино и хороший слух позволили ему не выпасть из стройного кавказского многоголосия. Олег с удивлением смотрел на своего приятеля, который пел грузинские песни. Восхищению же хозяев не было предела. Тем временем «Сандро скоро падайдёт» растягивалось уже на пятый час ожидания.
Наконец во двор вошёл парень в джинсах, футболке и сумкой через плечо. Это был Сандро. Длительное застолье, беседы и песни отняли у трапезников столько сил, что все молча наблюдали за его появлением. Первым на встречу Сандро поднялся Олег. Он улыбался, но в его глазах Ильдар прочитал волнение и даже страх – узнает или нет? Сандро конечно же узнал. Он сбросил сумку на землю, распростёр руки и издал вопль радости, который был слышен за несколько кварталов.
Олег и Сандро обнялись и долго хлопали друг друга по спине. Затем Сандро поцеловал Олега в каждую щёку и, не дожидаясь, когда его представят Ильдару, подошёл к нему. Впервые в жизни Ильдар ощутил прикосновение к лицу небритой мужской щеки. Грузинский обычай целовать при встрече друга был непонятен и даже немного неприятен молодому человеку, среди друзей которого были популярны анекдоты про «голубых».
Сидевшие за столом оживились, а Ильдар, напротив, почувствовал внезапно навалившуюся на него усталость и с тоской подумал: «Неужели всё с начала?» Но Константин Нодарович неожиданно пришёл ему на помощь.
– Сандро! Тваи друзя и наши гости устали с дароги. Мы их дастойно встрэтили. Завтра их ждёт дарога. Ани паэдут в Гудауту. Давай дома папэйтэ чай и лажитэс спать.
Ильдар с Олегом долго благодарили всех, кто так тепло принимал их. Потом они поднялись в квартиру Сандро. Пока друзья умывались, Сандро застелил постель в родительской спальной и приготовил чай. Глаза Ильдара слипались – сказывалась усталость от дороги и разница в часовых поясах. Он отказался пить чай и пошёл спать. Олег с Сандро остались на кухне вспоминать армейскую жизнь и ребят, с которыми они служили. Перед тем как заснуть Ильдар подумал о том, что Сандро специально отправил родителей к брату, поскольку иначе места в квартире им не хватило бы и пришлось спать на полу: «Хорошо, что к Сандро приехали, а не к тёте Алле. А то человек семью даже вывез в другой город, чтобы у нас была возможность переночевать. А так заскочили бы на обратном пути. Да и то, если бы время было».
Ночью Ильдару снились сначала пьяные милиционеры, которые лезли к нему с поцелуями и грузины, которые толпились у трапа самолёта и просили, чтобы их увезли в Уфу. При этом вместо билетов они предъявляли наручные часы.
Как обычно Ильдар проснулся в девять утра. По Уфе. Местное время было московским – семь часов. Судя по тому, что Олег спал как убитый, они с Сандро легли только под утро. Сам хозяин, однако, уже суетился на кухне – дорогих гостей надо было кормить завтраком.











