Читать онлайн Человек за бортом
- Автор: Никита Ротару
- Жанр: Young adult, Контркультура, Современная русская литература
Размер шрифта: 15
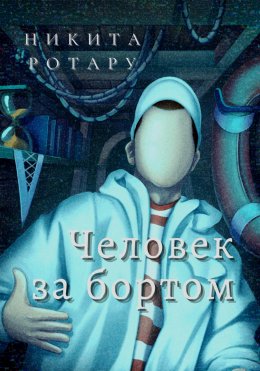
Чтение книги временно недоступно
Продолжить чтение
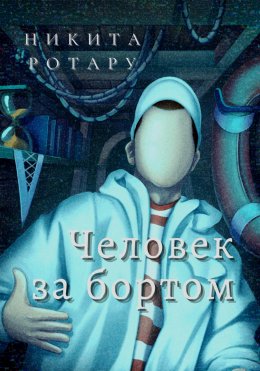
Чтение книги временно недоступно