Читать онлайн Ураган
- Автор: Ариф Анвар
- Жанр: Зарубежная фантастика, Историческая фантастика
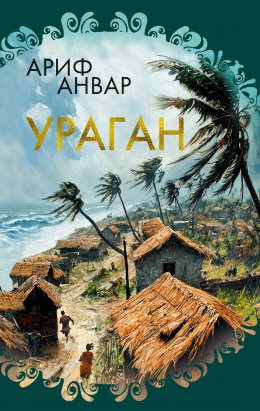
© 2018 by Arif Anwar All rights reserved
© Н. А. Вуль, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025 Издательство Иностранка®
Посвящается моему отцу
за все те книги, что он мне покупал
- И вновь порывы с моря налетели,
- На дом, где безмятежно в колыбели
- Спит дочь моя.
- Давно брожу, а ветер не стихает,
- Я слышу, как он в башне завывает.
- Молюсь за дочь, и чудится мне вскоре:
- Грядущих лет выходит строй
- Под дикий барабанный бой
- Из смертоносной девственности моря[1].
Книга первая
Приближение бури
Хонуфа
В его грезах ее глаза всегда зеленого цвета. Цвета кузнечиков, изумрудов и сочной листвы. Иногда они приобретают темноватый оттенок нефрита.
И это притом что он прекрасно знает, что глаза Хонуфы серые, как мех у кошек, как затянутое тучами небо. Как волнующееся море.
Сегодня она заспалась. Ее будит отблеск зари и рокот волн. Она открывает серые глаза и окидывает взглядом хижину, земляной пол которой тронули первые лучи ноябрьского солнца, поднимающегося над морем.
Хонуфа садится в постели. На подоконнике – ворон. Переливаются угольно-черные крылья. Изогнутый клюв полуоткрыт, словно птица вот-вот каркнет. Ворон не сводит с Хонуфы глаз цвета оникса.
Хонуфа встает, но птица не двигается с места. Женщина настороженно смотрит на ворона и начинает медленно приближаться к нему, выверяя каждый шаг.
Только когда она протягивает к нему руку и до птицы остаются считаные сантиметры, ворон срывается с места и улетает, оставляя в хижине отзвук хлопающих крыльев.
Да, всё это суеверия, однако, совсем как ребенок, она сплевывает, силясь унять бешено колотящееся сердце. Ее охватывает ощущение надвигающейся беды, подкрадывающейся голодным хищным зверем.
Ее лежанку сколотил еще отец и преподнес ей в дар много лет назад, когда она вышла замуж за Джамира. Сейчас на ней спит ее трехлетний сын. Какой же он славный! Ему снятся сладкие сны. Место, на котором обычно лежит Джамир, пустует. Ее муж впервые ушел в море не попрощавшись. Его путь лежал в самое сердце залива. И сколько же его теперь ждать?
Она умывается водой из глиняного сосуда и принимается за работу по дому. Решает начать со стирки. За свою замужнюю жизнь Хонуфа никогда не позволяла копиться грязному белью. Затем она швыряет на улицу оставшиеся со вчерашнего дня рыбьи кости – пусть ими полакомится вечно сонная кошка, часто наведывающаяся к ним в хижину, – а потом отправляется за хворостом: обломанные ветви деревьев, густо покрывают землю окрестных лесов. Придя на берег темноводного пруда, напоминающего глаз ворона, наблюдавшего за ней сегодня утром, она принимается рвать листья одуванчиков на обед.
Всё это Хонуфа проделывает прежде, чем предрассветная полумгла сменится утром и бледный свет, заливающий мир, уступит сперва рыжему, а потом уже ослепительно белому солнечному свету.
Сын начинает ворочаться в постели. Взвалив на себя хворост, перехваченный джутовой веревкой, Хонуфа возвращается домой.
Тридцать лет тяжелых трудов лишили черты ее лица былой девичьей мягкости, расчертив область вокруг глаз морщинами. Губы сделались тоньше, в результате чего ее челюсть приобрела квадратную форму, как у мужчины, – отнюдь не идеал женской красоты по бенгальским меркам. Нет, красавицей Хонуфу не назвать, но она сильная, а роста в ней – метр шестьдесят пять. Она выше всех женщин в прибрежной деревушке, которую считает своим домом. Плечи широкие, а руки грубые – они помнят мириады веревок и рыбацких сетей, которые прошли через них за многие годы, груды кокосов, которые им довелось вскрыть.
Прикинув время по длине тени и высоте, на которую поднялось солнце, Хонуфа приходит к выводу, что ей пора к деревенскому колодцу набрать воды. Она давно уже оставила всякую надежду, что когда-нибудь ей это удастся проделать в одиночестве. Поначалу, в первые годы, она рассчитывала, что со временем свыкнется с бременем пристального внимания односельчан, а боль от жалящего осуждения сойдет на нет. Как же она ошибалась!
По дороге ей приходится остановиться. В этот час на пляже должно царить безлюдье, однако он буквально бурлит жизнью. Там собралась вся деревня. Песок истоптан, изрыт сотнями ног. Жилистые мужчины и женщины с выдубленной солнцем кожей тащат лодки подальше от кромки воды, привязывают их веревками к деревьям, плетут и затягивают тугие узлы, после чего спешат обратно к берегу, чтобы убрать и сложить сети. Детвора волочет рыбу, пойманную в цилиндрической формы вершу. Все при деле, все трудятся, вне зависимости от пола, возраста и крепости телосложения.
Приближается буря.
Хонуфа крутит головой: смотрит на восток, потом на запад, затем на юг – основные направления, откуда может нагрянуть шторм, но не замечает ничего подозрительного. Кончики пальмовых листьев, которыми крыты хижины, остаются недвижимы, а на небе ярко светит солнце. И всё же в деревне царит суета.
Хонуфа окидывает толпу работающих односельчан внимательным взглядом в поисках дружелюбного лица. Да ладно дружелюбного, сойдет хотя бы тот, кто просто не отвернется.
Ей удается разглядеть Рину среди группы женщин, убирающих сети. Рина трудится над особенно длинной сетью, ловко сворачивая ее. Каждое ее движение выверено многолетней практикой. Хонуфа берется с другого конца, силясь в точности повторять действия Рины, которая ее постарше. Наконец сеть свернута.
– Шторм?
Рина кивает в ответ. На фоне Хонуфы она выглядит жилистой и даже тщедушной, напоминая ломтик вяленого мяса, высушенного солнцем.
– Откуда узнали?
– Утром видели Лодочника.
Хонуфа выпускает сеть из рук.
Она кидается домой. Это не первый шторм, к которому ей придется готовиться. Что поделать, такова жизнь, если решил поселиться у залива. Пока ее сын, который уже успел проснуться, забавляется тем, что гоняет по двору кур, Хонуфа поправляет на себе сари и принимается за работу.
Список дел не особо длинный, и женщина прекрасно знает, где что лежит. Она расправляет на полу одну из двух расшитых простыней. На нее она ставит кухонные принадлежности – боти[2] для нарезки (лезвие обернуто тканью) и нора[3] для измельчения продуктов, а также горшки со сковородками, на которых готовит рис, чечевицу, рыбу и шпинат. На вторую простыню она складывает постельные принадлежности и одежду, которая еще не успела просохнуть после утренней стирки. В мешок из грубой джутовой ткани отправляются вяленые продукты.
Она выходит во двор. Куры у нее настоящие красавицы, ну прямо загляденье. Одна черная в белую крапинку, а другая огненно-рыжего оттенка. Красотой дело не ограничивается: они обе несутся, регулярно откладывая яйца где-нибудь в укромном уголке их дома. Поиск яиц всякий раз оказывается настоящим приключением для ее сына, неизменно заканчивающимся тем, что он торжествующе приносит ей яйца – скорлупа у них всё еще мягкая и хранящая тепло несушки.
Хонуфа смотрит на кур и вздыхает. Ее сын любит их, и потому ей непросто совершить то, что предстоит.
Женщина берет нож и начинает его точить.
Приходит Рина. Она застает Хонуфу копающей яму. Женщина уже успела вырыть ее до пояса. Гостья берет из коровника вторую лопату и присоединяется к работе. Некоторое время они трудятся, не говоря ни слова. Яма быстро растет.
Наконец они останавливаются. Несколько мгновений они стоят рядом, тяжело дыша, истекая потом, с довольным видом разглядывая результат своих усилий.
– Ты и вправду считаешь, что будет буря?
– Лодочник пока ни разу не ошибался.
За последнюю четверть века трижды люди видели одинокого лодочника, пересекавшего залив под черными парусами. Он неизменно направлялся на юг, обратившись спиной к стоявшим на берегу или на скалистых зеленых холмах.
Всякий раз за его появлением следовала страшная буря.
– Как думаешь, кто это такой?
Рина многозначительно смотрит на нее.
– Ну, люди разное говорят. Одно знаю точно: под этими черными парусами явно ходит не человек.
Хонуфа чувствует, как от волнения по телу бежит холодок. Жуть какая. И при этом как волнующе!
– Сын где? – спрашивает Рина.
– В доме. Устроил истерику, как узнал, что надо сделать.
– Что ж, он у тебя постепенно становится мужчиной.
Хонуфа улыбается. В маленьком сыне она видит скорее тихую силу и кротость супруга, нежели свой вспыльчивый нрав и несгибаемую волю. Может, оно и к лучшему.
У ее сына великолепное имя. Она позаимствовала его из книги, которую заминдар[4] когда-то ей читал. В ней одна история причудливо встраивалась в другую, словно отражения двух зеркал, установленных напротив друг друга, – причудливый лабиринт, в котором так легко безнадежно затеряться.
Женщины спихивают в яму тюки. В тюках, помимо всего прочего, тушки двух куриц, уже ощипанные и уложенные в глиняные горшки. Затем они засыпают яму, а когда дело сделано, втыкают в центр палку, чтобы не потерять место. В завершение они утрамбовывают землю, прихлопывая ее лопатами.
Хонуфа приглашает Рину в опустевший дом. Сын хозяйки сидит на голой постели, на чумазом личике – дорожки, которые проделали слезы. Он кидается к Рине, которая подхватывает его на руки, подкидывает и прижимает к себе.
– Это кто у нас тут плачет? – спрашивает Рина, щекоча мальчика.
– Она кур зарезала, – он обвиняюще показывает на мать пальцем.
– А ты с ними дружил, так? Если б она их не зарезала, их бы всё равно унесла буря, и ты бы их больше никогда не увидел.
Пока Рина возится с ребенком, Хонуфа направляется к дальней стене хижины, ругая себя на чем свет стоит за то, что только сейчас вспомнила о столь важной вещи. Она встает на цыпочки, вслепую шарит рукой, ощупывая то место, где должно лежать письмо, но его там нет. Чувствуя, как бешено заходится сердце, женщина, фыркая от пыли, пододвигает к стене кровать, оставляя царапины на земляном полу. Встав на нее, Хонуфа смотрит. Письмо пропало. Письмо, которое она больше двух месяцев назад со всей осторожностью, в обстановке строгой секретности положила сюда, на самый верх, письмо, сохранность которого она, словно безумная, проверяла всякий раз, когда ее муж отлучался из дома. Это письмо куда-то исчезло.
Она спускается с кровати и замечает, что на нее таращится Рина.
– Да что с тобой?
Хонуфа бледна как смерть, горло сводит. Ей удается соврать:
– Золотые сережки. Подарок матери Джамира. Исчезли.
– Ох, это плохо, девочка.
Ей остается только кивнуть. В голове каша. Она думает о Джамире: его корабль – крошечная щепочка в безбрежном океане. Сколько он рассказывал ей всяких баек о море, об уловах, о пьяных драках матросов, о бескрайних водных просторах, где нет ничего – лишь солнце, играющее на волнах… Она слушала и жалела, что не родилась мужчиной, свободным от бремени домоседства. Сейчас как раз настал один из таких моментов.
Однажды он повез ее с собой купить красивое ожерелье из раковин и камушков. Тот день выдался на редкость ветреным, но лодка шла ровно – ее удерживал их вес и вес мешков с песком. «Это балласт, – улыбнулся Джамир, волосы которого трепал ветер. – Благодаря балласту нам ничего не угрожает».
Муж с сыном играли в ее жизни схожую роль. Если они с ней, никакому урагану не под силу перевернуть лодку.
Она садится рядом с Риной.
– Я за него переживаю.
– Почему? Он ведь не первый раз уходит в море. Он на траулере, а они знаешь какие большие? Это тебе не какое-то там корыто, которое, стоит дунуть ветру, уже идет ко дну. У них на борту есть радио. Да они, скорее всего, узнали о шторме еще прежде нашего. Мы тут языками треплем, а они уже к нам обратно идут.
Хонуфа качает головой. Рина ничего не понимает. Да и как она может что-то понимать? Опасность, заключенная в письме, которое у Джамира, куда грознее любого шторма.
– Не обращай внимания, – машет Хонуфа рукой. – Так, глупости всякие говорю. Сколько у нас осталось времени?
– Судя по всему, несколько часов. Заминдар обещал дать людям укрыться у себя в доме. Рахим хороший человек.
– Хороший, – соглашается Хонуфа, не спеша добавить к этому что-то еще. Ей вспоминаются дни, которые она в детстве проводила в особняке заминдара. Она училась читать по буквам, а жена Рахима поила ее чаем со сладким печеньем. Буквы вскоре стали складываться в слова, слова в предложения, и вот Хонуфа уже бегло читала страницами, главами и целыми книгами. Заминдар однажды признался: он никогда не думал, что ребенок способен так быстро научиться читать.
– Извини, порой я забываю, что вы с ним не ладите, – морщится Рина.
– Он богатый помещик. Мы – бедные рыбаки. Если между нами и была когда-то дружба, то она, скорее, напоминала сон. Рано или поздно каждому приходится проснуться.
Рина фыркает, обводит взглядом хижину, хмурит брови.
– Ну что, Хонуфа, с подготовкой покончено? Готова к шторму?
– Осталось только сходить за козой. Она еще пасется среди холмов. Я ждала, пока ты придешь. Хотела попросить присмотреть за сыном.
– Ладно, пригляжу за ним. Только смотри, девочка, времени у тебя мало. А что, если ты припозднишься?
– Если меня долго не будет, отведешь моего сына к Рахиму?
Рина задумалась над тем, что кроется за вопросом женщины:
– А ты?
– Я вас сама отыщу. Укройтесь с остальными. Когда приходит ураган, надо забывать о былых обидах.
– Рахим – добрый человек. Подумай, Хонуфа, сколько лет прошло. Ну отчего бы не помириться с ним? Это не так сложно, как ты думаешь.
– Слишком поздно, – качает головой Хонуфа, размышляя о пропавшем письме. Решение много лет назад приняла именно она, и что теперь? Прошедшие годы и обстоятельства безнадежно развели их пути-дороги – ее и Рахима.
Рина неодобрительно смотрит на нее:
– Тебе, конечно, виднее, но и тебе, и мужу с сыном будет лучше, если у вас в деревне кроме меня будут еще и другие друзья.
Хонуфа кивает, удаляется в угол хижины и возвращается с узелком, который не стала прятать:
– Если так получится, что тебе придется отправиться к заминдару без меня, возьми это с собой.
Рина берет в руки узелок, чтобы понять, сколько в нем веса.
– Что это? – спрашивает она.
Хонуфа сперва колеблется, а потом всё же развязывает узелок. Внутри – две вещи. Такого Рина никогда прежде не видела. Ее глаза расширяются, она смотрит на Хонуфу, и та вздыхает:
– Вот как снова свидимся, так я тебе всё и объясню.
Несколько минут спустя она уже карабкается по покрытому лесом склону холма, продираясь через густой кустарник. Поднимается легкий ветерок. В ноздри бьет густой влажный аромат лесной чащобы. Отовсюду доносятся шорохи снующего зверья, сверху слышатся крики кружащихся в поднебесье коршунов. Ветки бьют ее по лицу. Хонуфа идет по узкой тропинке, напоминающей прядь волос индианки. Земля оттенка киновари, как краска, которой женщины окрашивают волосы в знак того, что вступили в брак. Сложись судьба Хонуфы иначе, и ее волосы были бы такими.
За час она добирается до вершины. Коза ровно там, где она оставила ее накануне, – привязана веревкой к глубоко вбитому колу. Глаза с вытянутыми зрачками наградили женщину внимательным взглядом, и животное снова принимается жевать траву.
Натужно охнув, Хонуфа с трудом выдергивает кол из земли, отвязывает козу и хлопает ее по крупу. Коза, заблеяв, ковыляет прочь. Она знает дорогу до дома, да и при спуске по крутому склону чувствует себя уверенней, чем женщина.
Хонуфа уже собирается тронуться следом, но замирает, чтобы взглянуть на небо. Оно ясное, за исключением нескольких перистых облаков, напоминающих побеги дикого сахарного тростника. На горизонте медленно, неспешно тоже плывут облака.
А что, если на этот раз Лодочник ошибся?
Она направляется к близлежащей поляне в кольце сосен. В середине – неприметная продолговатая могилка, огороженная бамбуковыми палками, которые уже успели истлеть на морском воздухе.
За исключением ветра, свистящего среди ветвей, стоит гробовая тишина. Хонуфа замирает. Как всегда, ее переполняют эмоции. Чувствуя себя чужаком, она черпает силу, упиваясь красотой окружающего мира.
«Восемнадцать лет. Сейчас ты был бы уже совсем взрослым, сынок».
С момента ее последнего визита на могиле успели вырасти лилии. Сейчас они подрагивают и качаются на ветру. Хонуфа как можно аккуратнее срывает три цветка и тихо прощается с сыном.
Неподалеку от могилы находится заброшенный храм. Он уже порос молодыми деревцами бодхи, вздымающимися над ним словно рога, их корни цепляются за осыпающиеся камни святилища.
Хонуфа замирает перед входом. В ее руках цветы – для подношения. Мрак внутри храма будто живой. Он манит ее. Слышится, как в темноте снуют попискивающие мыши. Хонуфа знает, кто ждет ее в храме.
Женщина переминается с ноги на ногу на пороге святилища, собираясь с духом. Она отдает себе отчет в том, что сейчас ей предстоит предать свою веру. Прежде чем войти, Хонуфа закрывает глаза и прижимает ладонь к прохладной, сулящей покой стене храма.
Стоит Хонуфе войти, как она тут же погружается в безбрежный мрак и тишину, над которыми, кажется, не властно само время. Она снова замирает и ждет, когда ее глаза привыкнут к темноте. Пол холодит огрубевшую мозолистую кожу ступней.
Зал десять шагов в поперечнике. На дальнем его конце, залитая светом, проникающим сквозь многочисленные дыры в крыше, – женщина дикой, невероятной красоты: высокая, синекожая, в ожерелье из черепов и юбке из отрубленных человеческих конечностей. Высунутый язык свисает ниже подбородка и указывает кончиком на сраженного демона у ее ног.
Хонуфа встает на колени перед Кали. Черной. Пребывающей вне времени. Разрушительницей.
Она кладет перед богиней свое подношение – цветы, которые принесла. Женщина молится ей, не обращая внимания на внутренний голос, который напоминает, что ее новый бог ревнив и то, что она сейчас делает – ширк, – один из самых страшных грехов в исламе. Она поклоняется не Аллаху, а другой высшей силе. Однако Хонуфа ничего с собой не может поделать. Сейчас она словно дитя, охваченное жаром лихорадки, которое инстинктивно тянется к матери.
Когда она была маленькой, отец поведал ей историю богини, которую ему, в свою очередь, открыл жрец-брамин. Легенда ее настолько заворожила, что Хонуфа потом без конца донимала отца просьбами рассказать ее снова и снова. Несмотря на то что уже прошло много лет с тех пор, как Хонуфа рассталась с семьей, она всё равно слово в слово помнила предание.
Давным-давно все триста тридцать миллионов богов и богинь трепетали перед вторгшейся армией демонов под командованием Рактавиджи. Каждая капля крови из ран Рактавиджи, падая на землю, превращалась в такого же демона, как он. Чтобы сразиться с армией демонов, боги призвали на помощь богиню Дургу, которая убила многих врагов. Однако, когда дело дошло до схватки с Рактавиджей, с каждом ударом ее копья из его ран брызгали струи крови, которые, попадая на землю, обращались в новых демонов, покуда в конце концов на поле боя не сделалось больше врагов, чем в самом начале битвы. Ярость Дурги была столь сильна, что из ее лба родилось воплощение ее гнева.
Кали.
Армия демонов затрепетала перед яростным напором Кали, в каждой из четырех рук которой сверкало по мечу. Вскоре от войска демонов осталась лишь десятая часть. Когда же дошло дело до поединка между Кали и Рактавиджей и богиня нанесла повелителю демонов рану, она раскрыла рот и поймала им струю крови, прежде чем та успела коснуться земли. Удар следовал за ударом. Наконец Рактавиджа настолько ослаб, что Кали накинулась на него, впилась в демона зубами и высосала всю его кровь досуха.
Опьянев от крови, Кали, торжествуя победу, издала рев, от которого содрогнулись небеса, и пустилась в пляс, сея разрушение. Танец ее потряс основы вселенной. Прочие боги и богини так устрашились ее, что обратились к ее супругу Шиве. Только зрелище мужа, распростертого у ее ног, помогло унять безумие Кали.
Хонуфа закрывает глаза и молится – не за себя, а за мужа, Джамира, и сыновей – за живого и за мертвого. Молится, покуда не меркнет белый свет.
Когда Хонуфа открывает глаза, она не имеет ни малейшего представления о том, сколько времени прошло, однако стоит ей выйти из храма, как она понимает – беда. Снаружи почти так же темно, как и внутри. Птицы умолкли. Легкий ветерок стих, и наступило тягостное безмолвие.
Она кидает взгляд на горизонт и ахает. Свинцово-серые тучи надвигаются на берег. Они словно бегут по морю, перебирая лилово-белыми всполохами ног-молний.
Проклиная себя за глупость – ну как можно было настолько задержаться в храме, – Хонуфа, отчаянно желая поспеть к сыну и Рине до урагана, спешит вниз по склону холма, поглядывая на небо, где собираются клубящиеся башни облаков цвета пепла и рухнувших надежд.
Мир вокруг нее словно выцветает, становясь монохромным. Поднимается ветер, несущий в себе горькие воспоминания о нехоженых землях, скованных стужей и льдом. Его порывы приносят первые капли дождя.
Ей удается добраться до долины. Хонуфа вся исцарапана ветками, преграждавшими ее путь, а ноги разбиты в кровь. Она уже рядом с домом – там, где земля холма смыкается с прибрежным песком. Она оборачивает сари потуже вокруг пояса и бегом устремляется к пенящемуся морю.
Она спотыкается, запнувшись ногой о барсучью нору. Падает. Земля устремляется навстречу ее лицу. Она ударяется головой о камень, и одновременно с этим дикая боль молнией пронзает ее лодыжку.
На мгновение, которое растягивается в целую вечность, она оказывается в стране грез.
Ей кажется,
Что она снова маленькая девочка,
Идет среди рисовых полей за водой,
В руках ведро,
Ей семь лет.
Раздается звук. Сперва он еле слышен. Жужжание сменяется гудением, а потом уже и гулом столь громким, что он наполняет ей не только уши, но и глаза и рот. Хонуфа истошно кричит, зовя отца, мать, брата, но звук поглощает без следа ее слова. Над головой – стальная птица. Ее серебристое брюхо сверкает так, словно она проглотила яркую звезду. На боку – красное солнце на белом поле.
Хонуфа распахивает рот, чтобы издать крик, но тут небо взрывается буйством красок.
Бабочки,
Они падают,
Падают и падают,
На ее лицо.
И тут она видит, что они из бумаги.
Струи дождя, бьющие в лицо, возвращают Хонуфу в реальный мир. В нем темно, как ночью, в нем заходится криком ветер, поднимающий в воздух песок, который режет словно кинжал. Женщина извлекает из норы ногу, касается лба и обнаруживает на нем болезненную шишку. Ей едва удается сдержать крик, когда она переносит вес на быстро опухающую лодыжку. В отчаянии Хонуфа смотрит по сторонам в поисках сука или палки, из которых можно было бы сделать костыль.
Хонуфа принимается думать над дилеммой, которая возникла перед ней из-за травмы. Она ясно сказала Рине, чтобы та вела сына в дом заминдара, если она, Хонуфа, не придет вовремя. И где сейчас Рина? Уже на месте или по-прежнему дожидается ее в хижине? Идти домой, а оттуда к заминдару? На это сейчас нет ни сил, ни времени. Ее хижина – в одной стороне, особняк заминдара – в противоположной. Если она сперва отправится к себе и, добравшись до цели, выяснит, что Рина уже ушла с ее сыном, то ей, Хонуфе, конец. Если же она пойдет к заминдару, оставив Рину с сыном дожидаться ее, – тогда конец уже им.
Штормовые тучи вбивают в пляж серебряные гвозди молний, ослепляя ими Хонуфу. Прибой бьется о берег, как взбесившаяся лошадь. Капли дождя ударяют с такой силой, словно хотят оставить на ее теле синяки.
Земля, словно на заре мироздания, издает низкий звериный стон. Шторм истирает из этого мира память о Боге.
Хонуфа снова и снова выкрикивает имя сына. Ей никто не отвечает, и тогда она принимает решение.
Шахрияр и Анна
Они ехали по трассе I-66, держа путь в Маклин, домой к Анне. Всего пятнадцать минут назад автомобили и грузовики сливались в жарком мареве уходящего дня в единый сплошной поток. Сейчас, оглянувшись назад, он видит собирающиеся тучи, сулящие перемену погоды.
Всякий раз, когда приходит буря, Шар испытывает странный восторг. Она напоминает ему несущийся на всех парах грузовой состав с цистернами, наполненными водой. Его ярость навевает мужчине воспоминания о родных краях. Первые тяжелые пузатые капли ударяются в лобовое стекло и принимаются настойчиво отбивать ритм по крыше машины. Дворники мечутся туда-сюда по стеклу, силясь дать отпор многомиллионной армии. Габаритные огни движущихся впереди автомобилей расплываются, будто на холсте импрессиониста. Мир словно тает.
Анна устроилась на заднем сиденье автомобиля, который он взял сегодня утром, чтобы свозить ее на ярмарку в Гейтерсберге. Она сосредоточенно играет на приставке.
– Ну и погодка, Анна, верно я говорю?
Девочка не отвечает ему, и он повторяет фразу снова.
– Ну да, типа того, – на этот раз отзывается она. – У вас в Бангладеш такие же сильные дожди?
– Ага. Иногда они не стихают на протяжении многих дней. У нас даже есть особое время года – сезон штормов. Каль Байсакхи – Темная весна.
Ему на ум приходят картинки из детства – те, что он помнит: как он смотрит телевизор, как поет гимн перед программой новостей на бенгальском в восемь часов, а потом снова, в десять, когда новости выходят на английском. Экран мог погаснуть в любой момент без всякого предупреждения – всякий раз, когда случался перепад напряжения. В этом случае Рахим, Захира и Рина блуждали в темноте, спотыкаясь и перекрикиваясь друг с другом, пока кто-нибудь из них не отыскивал длинные тонкие свечи, которые обычно хранились в ящике на кухне. Тогда их зажигали от огня газовой плиты и отправлялись на улицу, навстречу миру, залитому светом луны и звезд.
Он помнил в Дакке два больших наводнения, когда по улицам плавали на лодках, а вода поднялась до половины высоты их дома. Дом. Он помнил, как просыпался в этом особняке под резкие крики воронов, которых ему так не хватало в Америке. В ноздри бил запах жарящихся лепешек. Чай со сладким печеньем ему подавали на подносе, а железные оконные рамы были влажными от зимнего тумана. Еще он помнил летающих тараканов. Здоровенных мотыльков, которые хлопали крыльями, кружась вокруг фонарей. Ребенком он с радостью выбегал навстречу ливням – струи дождя нещадно хлестали по телу и земле, оставляя после себя огромные лужи.
Мужчина рассказывал об этом Анне понемногу, фрагментарно, всякий раз поражаясь собственному бессилию передать прелесть и красоту картин, свидетелем которых он стал. Иной язык убивал всё их очарование, отчего он уже и сам начинал задаваться вопросом, правда ли они достойны такого восхищения.
Машину несколько раз слегка заносит на мокрой автостраде. Некоторое время они едут в молчании. Наконец Анна его нарушает.
– Мы доедем без проблем, баба? – спрашивает она. Обращение «отец» она произносит на бенгальском – это одно из немногих слов на этом языке, которые она знает.
– Ну конечно, разве что опоздаем немного.
– Сколько тебе осталось?
Внезапность ее вопроса обескураживает его.
– В смысле? – Вопрос вдобавок оказывается еще и болезненным, хотя девочка не собиралась задеть его чувства.
– Мама сказала, что тебе тут осталось всего три месяца.
– Да, примерно три.
– И что ты будешь делать?
– Надеюсь, я к этому моменту найду работу, и нам будет не о чем переживать.
– А ты можешь просто сказать, что ты мой папа и тебе надо остаться?
– Эх, солнышко, если бы всё было настолько просто.
Как это ни странно, но происшедшее, вопреки здравому смыслу, сейчас представляется чередой неожиданностей. Он вернулся сюда по студенческой визе шесть лет назад, когда Анне шел всего четвертый год. Он не сомневался, что после окончания аспирантуры получит рабочую визу на год, но при этом никто не сможет дать ему гарантий, что он останется тут навсегда. Он словно сидел в лодке, которая на дикой скорости несется к водопаду, блаженно наблюдая за тем, как обрыв становится всё ближе. Паниковать он начал только сейчас.
Когда они подъезжают к съезду с автомагистрали, дождь становится тише, а небо приобретает лиловый оттенок, как у синяка. Они сворачивают с трассы, и порывы ветра награждают автомобиль серией тычков – словно хулиган, напоминающий о том, что это еще не последняя встреча с ним.
Когда они сворачивают на дорожку, обрамленную елями, ведущую к дому Анны, становится слышно, как под колесами похрустывает гравий. «Шеви-Малибу» на фоне особняка во французском колониальном стиле смотрится максимально неуместно. Шахрияр делает глубокий вздох и выходит из машины.
Вэл встречает его у дверей. На ней свитер свободного покроя и штаны для занятия йогой. Рыжие локоны перехвачены резинкой для волос.
Она треплет Анну по волосам.
– Привет, кроха. Ну как, хорошо оттянулась с папой?
– Мы наелись ирисок, – Анна обнимает мать.
– Ну и как они тебе?
– Когда ели – нравилось, а сейчас думаю – так себе.
Вэл смеется и в шутку щиплет Шахрияра:
– А ты что скажешь?
– Что тут сказать? Привез ее домой целой и невредимой.
Анна расталкивает взрослых:
– А где Джереми?
– Здесь, егоза! – раздается из фойе зычный баритон.
Анна с восторгом кидается на голос, и у Шахрияра опускаются руки.
– Есть минутка поговорить? – спрашивает он Вэл.
Они выходят на покрытую гравием дорожку.
– Ты рассказала Анне о том, что у меня проблемы с визой?
Вэл смотрит куда-то за его плечо. Крошечные морщинки в уголках глаз – единственное свидетельство их уже десятилетнего знакомства, да и то они становятся видны, только когда Вэл улыбается.
– Должна же я была ей что-то сказать. Она спрашивала о планах на Рождество. Ну и мне показалось важным поставить ее в известность, что тебя тут, может, уже не будет.
– Я бы предпочел рассказать ей обо всем сам. Ну, или, по крайней мере, ты могла бы предупредить, что собираешься с ней говорить на эту тему. А я бы уж сам ей сказал.
– И когда, позволь узнать?
– Не знаю, – вздыхает он.
– Какие-нибудь успехи в поисках работы есть? У тебя осталось не так уж много времени.
Несколько позже он ждет наверху, пока Анна не подготовится по сну. Он считает вслух, покуда дочь чистит зубы (она останавливается, когда он доходит до ста двадцати), следит за тем, чтобы она хорошенько поработала зубной нитью, после чего встает у ее двери, ждет, пока она не переоденется в пижаму. Наконец, она разрешает зайти.
Ее комната располагается на чердаке под самой крышей с пологим наклоном. Спальня отделана деревом и очень уютная. Кровать стоит в самом углу. За единственным ромбовидным окном заливается слезами дождь – он вернулся, как и обещал. За стеклом качаются ветви дуба, что растет во дворе. Где-то в отдалении тихо рокочет гром.
– У меня кое-что для тебя есть, – говорит Шахрияр, когда Анна залезает под одеяло.
Он сует руку в рюкзак, который таскал с собой весь день, и принимается шарить в нем на ощупь. Пальцы проходятся по зиплоковым пакетам с нарезанными яблоками и крекерами, бутылкам с водой и другим свидетельствам того, что он провел день с дочерью. Наконец, он достает книгу с потрепанными уголками в серой войлочной обложке. Заглавие начертано красными, как знамя революции, буквами. На бенгальском написано রশু দেশের উপকথা – «Русские сказки».
– Когда мне было столько, сколько тебе, это была моя самая любимая книга. Это собрание русских сказок, переведенных на бенгальский язык.
Девочка не выказывает и толики переполняющего его восторга, и мужчина умолкает, будто спотыкается. В который раз его посещает ощущение, что из него никудышный отец. «Ничего толком сделать не могу», – думает он.
– Что, солнышко, даже посмотреть не хочешь?
– Я ведь не читаю по-бенгальски.
– Я знаю. Беру это на себя. Как и перевод.
Решив, что лучше потом извиниться за инициативу, нежели спрашивать разрешения дочери, он принимается читать о приключениях отважных героев, которых всякий раз неизменно зовут Иванами, о мудрых царевнах, о волках, говорящих на человеческом языке, о Бабе-яге – злой ведьме, живущей в избе на куриных ногах. Так проходит полчаса. Наконец он откладывает книгу в сторону.
– Не понравилось?
Девочка ерзает в постели и мотает головой.
– А почему?
Вместо того чтобы ответить, она поднимает на него взгляд огромных серых глаз, которые ей достались не от него, но и не от Вэл.
– Можно я тебе кое-что расскажу, баба?
– Ну конечно.
– Джереми хочет, чтоб я его звала папой.
Мужчине приходится собрать в кулак всю свою волю, чтобы его тон остался небрежным:
– Вот как?
– Ну, мне так кажется.
– А почему тебе так кажется?
– Когда он укладывает меня спать, подтыкает одеяло и целует перед сном… ну, мне кажется, что он хочет, чтоб я назвала его папой.
– А тебе этого самой хочется?
– А ты на меня очень сильно рассердишься?
– Нет, – отвечает он. – Он просто отличный папа. И поэтому, если тебе хочется, можешь его так и называть.
– Правда? – Девочка так и горит желанием получить от него разрешение. Это ясно написано на ее лице.
– Правда.
Он обнимает ее, сдерживая ревность, которая вспыхивает в нем от просьбы дочери. Чего тут удивляться? Это он обязан Анне, а не наоборот. В жизни, полной неожиданностей, надо уметь быстро привыкать к внезапным поворотам судьбы.
Джамир
Джамир встает до рассвета. Лунный свет, проникающий сквозь окно, заливает его тело – загорелое, жилистое, такое же, как и у сотни других рыбаков в их деревне.
Он поднялся на час раньше обычного, зная, что Хонуфа будет еще спать.
Достав самокрутку, выходит, прислоняется к глинобитной стене их хижины и закуривает, делая глубокие затяжки. На небе застыли облака, кажущиеся удивительно светлыми в этот предрассветный час. Стоит тишина, нарушаемая лишь мерным шелестом волн прибоя, стрекотом цикад да шуршанием лапок гекконов.
Он тушит окурок. Во рту привкус табака, а кожу приятно холодит соленый ветерок с моря. Мужчина снова заходит в хижину. Берет свой скарб: сверток из кожзама, в котором лежат рубашки и запасная лунги[5]. Подойдя к стене, он кидает взгляд на спящих домочадцев, неподвижно лежащих на кровати, и тянется наверх, туда, где стена примыкает к соломенной крыше. Мужчина вздрагивает, когда его пальцы вновь касаются того, что он обнаружил несколько дней назад. Плоское, продолговатое, прямоугольной формы.
Письмо.
Он тихо выходит, прихватив его с собой.
Прежде чем двинуться вдоль берега на запад, к дальней оконечности порта, где у шаткого причала стоит его траулер, ему приходится миновать сотни лодок, напоминающих ему о его прошлой жизни. Солнце еще не встало, и потому тип той или иной лодки можно угадать лишь по ее смутным очертаниям. Тут и двурогие сампаны, и изящные баламы, и небольшие бхелы[6].
Меж лодок мелькают силуэты. Другие рыбаки. Они смотрят на него, но при этом ничего не говорят.
Вскоре становится виден и траулер. Он называется «Сонамоти», что значит «Золотая девушка». Название начертано на борту здоровенными зелеными буквами. Это самое большое судно во всем порту – длиной двадцать два метра.
Он поднимается на корабль по сходням. Тонкие доски под его ногами протестующе стонут. Он направляется в трюм, где стоит вода в масляных разводах всех цветов радуги. Чтобы ее вычерпать, у него уходит битый час. Затем он принимается чистить шпигаты[7], дурея от вони дизельного топлива и рыбьих потрохов, которая уже стала для него невыносимой. Встает жестоко палящее солнце, а он всё работает.
Появляется капитан Аббас с остатками команды: матросом Гаурангой – седым моряком-индусом, который умолкает только для того, чтобы сплюнуть – его слюна красная от сока листьев бетеля, которые он постоянно жует, и немногословным мусульманином Хумаюном, являющимся его полной противоположностью. И тот и другой – опытные мореходы, которые учат Джамира, как разбираться в морской рыбе, как сортировать ее, как осматривать сети и поддерживать в рабочем состоянии двигатель.
Сын Аббаса Маник – ровесник Джамира и часто его задирает, и потому мужчина старается Маника избегать. Мужчины наскоро здороваются друг с другом, после чего расходятся по местам. Аббас встает за штурвал, а остальные удаляются под палубу. Вскоре траулер начинает удаляться от пристани. В такие моменты Джамира неизменно охватывает странное чувство опустошенности. Он уже два месяца служит на траулере, приняв неожиданное предложение Аббаса стать членом команды. За это время Джамир всё еще не успел привыкнуть уходить так далеко от берега. И тем не менее, рыбача на маленькой гребной лодке, он понимал, что сражается с морем отнюдь не на равных. На траулере мужчина чувствовал себя уверенней, да и сети теперь они закидывали глубже.
Закончив наиболее важные дела, Джамир отправляется на камбуз. Там находится его импровизированная постель: старые армейские одеяла и тонкая плоская подушка. Он принимается проверять, всё ли на месте, и слышит над головой скрип половиц, приглушенный разговор, а затем тяжелые шаги на лестнице. Это спускается Аббас. Он средних лет и носит отглаженную белую рубашку, облегающую его большое пузо. Джамир здоровается с ним, покуда капитан выгружает содержимое своего мешка на стол: тут и ароматные лаймы, и зеленые гуавы, и большой колючий джекфрут, и слоновые яблоки, и пучки шпината, и мангольд. Белок команда получает из рыбы, которую ловит.
Поверх всего этого Аббас кладет экземпляр центральной газеты. Как раз на сгибе – фото усатого человека в черном жилете поверх белой футболки, который обращается к какому-то собранию.
– Ну и что ты думаешь об этом Муджибе?[8] – спрашивает капитан.
Джамир имеет самые смутные представления о политических взглядах Аббаса и потому не торопится с ответом. Хорошенько всё взвесив, он наконец отвечает:
– Вроде бы человек неплохой. Люди в деревне говорят, что на ближайших выборах будут голосовать за «Народную лигу»[9].
– А ты?
– В день выборов я буду на корабле, с тобой.
Аббас фыркает:
– Хочешь сказать, тебе плевать на «Программу из шести пунктов»? Что мы сами о себе позаботиться не можем, без этих западных пакистанцев, которые вечно суют нос не в свое дело и прикарманивают всё, что плохо лежит?
Джамир в смущении качает головой:
– Баду, ты задаешь слишком сложные вопросы человеку, который даже не умеет читать. Пусть политикой интересуются богачи да помещики вроде нашего заминдара Рахима.
При упоминании Рахима Аббас недовольно кривит рот.
– Я бы не придавал такого значения этому человеку. Он куда менее сведущ, чем ты думаешь.
Много лет назад, до того как Рахим, нынешний заминдар, переехал из бурлящей жизнью Калькутты к ним в деревню, вступив во владение полями и рыбацкими судами, Аббас командовал флотилией лодок, принадлежавшей предшественнику Рахима. Стоило Рахиму перебраться в деревню, как он тут же быстро и без всяких церемоний отстранил Аббаса от дел. За многие годы, что прошли с тех пор, появилось множество самых разных слухов, объяснявших причину произошедшего.
– Это я как раз понимаю, – кивает Джамир. – У нас с ним в отношениях тоже далеко не всё гладко.
– Ну да, – кивает Аббас. – Мы все помним, как он тебя бросил с Хонуфой в тот самый момент, когда вы так в нем нуждались.
Джамир пожимает плечами:
– Я признаю, они с моей женой были очень близки. С юных лет он был для нее как отец. Но сколько лет уже прошло! Мы вполне справляемся и без его помощи. Ну а мне многого не надо. Лодка да руки с ногами, чтоб работать, – большего мне и не требуется, чтоб прокормить семью.
Аббас кладет ему на плечо тяжелую теплую руку.
– Пока я жив, у тебя будет и лодка, и работа в избытке.
Джамир выходит на палубу, чтобы осмотреть сеть – вдруг она где порвалась. Сеть в длину почти полтора километра, она намотана на большущий железный ворот. К тому моменту, когда он заканчивает, жирное солнце уже тычется краешком пуза в искрящееся море, которое приобрело синий оттенок, под цвет павлиньего хвоста. Корабль уже достаточно далеко ушел от берега.
Джамир потягивается – вроде можно и заканчивать с работой. Он вздрагивает, слыша внезапный всплеск. За кораблем выпрыгивает из воды стайка летучих рыб: рты разинуты, тела переливаются серебром, плавники-крылья отсвечивают розовым в свете заходящего солнца. Джамиру вспоминается момент, когда он увидел этих рыб впервые. Именно тогда он в первый раз осознал, до какой степени он чужой огромному океану, таящему в своих глубинах бесчисленное множество чудес. Краткий полет рыб над водой вполне можно сравнить с его краткими выходами в море: ведь это не более чем шанс бросить мимолетный взгляд на удивительный, совершенно ни на что не похожий мир.
– Ну прям глазам не верится, точно?
Джамир снова вздрагивает, услышав под ухом чей-то голос. Это Гауранга в тонкой белой рубахе и лунги, обернутой вокруг ног на манер панталон. Левый глаз закрывает повязка. В сочетании с морщинистым небритым лицом и волосами, которые треплет ветер, она довершает образ настоящего морского волка.
– Рыбы выпрыгивают из воды, птицы, наоборот, ныряют в воду. Что за удивительный мир сотворил для нас Всевышний.
– И не говори, – соглашается Джамир. Ему спокойно в обществе Гауранги.
– Я видел, ты говорил с капитаном. Что-то случилось? Ты попал в беду? Или нам всем что-то угрожает?
– Ничего вам не угрожает. Что же до меня… даже не знаю…
– Я бы не был так в этом уверен, – произносит Гауранга. – Видишь те пышные темные тучи, что чернее девичьих волос? Они сулят приближение шторма. Сильного шторма.
Джамир смотрит, куда указывает палец Гауранги. На западе действительно собираются тучи, словно их сбивает там в кучу чья-то гигантская рука.
– Капитану сказал?
– Не-а. Я думаю, он и сам не слепой. В любом случае, я так погляжу, шторм направляется к берегу, и нам, по идее, удастся его обойти, максимум краешек заденем. Мы ведь идем на восток, к Бирме.
Значит, буря идет к берегу. Хонуфе и его сыну придется противостоять буйству стихии в одиночку.
Гауранга догадывается, о чем он думает.
– Я бы на твоем месте особо не переживал бы насчет родни. Они ведь на суше. Там, в отличие от моря, всегда есть где спрятаться.
– Это если их предупредят, – отвечает Джамир, разглядывая оберег на шее пожилого матроса. Гауранга улыбается, поняв, на что смотрит Джамир. Он снимает оберег и дает его собеседнику. Ничего подобного Джамир прежде не видел. Талисман длиной с ладонь, иззубренный и острый. Больше всего он напоминает острие копья, сделанное из кости.
– Шип хвостокола, – поясняет Гауранга.
Джамир едва не роняет оберег. Скаты-хвостоколы у них в заливе считаются большой редкостью, за всю свою жизнь он видел их раза два. Воплощение грации и скорости, таящее в себе опасность. Эти создания вызывали у Джамира страх.
Он протягивает оберег Гауранге, но тот качает головой.
– Поноси пока сам. Прочувствуй, каково это. Иногда полезно иметь под рукой штуковину, на которую можно излить свои страхи и тревоги. Когда мне неспокойно на душе, я поглаживаю эту вещицу, и мне вроде становится легче.
– Я не могу это у тебя взять.
– Можешь и возьмешь. Пусть побудет у тебя, пока не успокоишься. А потом, если захочешь, вернешь ее мне.
Джамир надевает амулет на шею, прячет его под рубашку. Острая твердая кость раздражающе тычется в кожу.
– Ничего, скоро привыкнешь, – ободряюще кивает Гауранга. – Отец говорил, что это даже хорошо, когда тебе постоянно немного неприятно. Так человек ведет себя честнее.
– Тогда, видать, я очень честный человек, – отзывается Джамир. – Спасибо тебе.
– Рад помочь, – Гауранга подается вперед и понижает на тон голос. – Не сомневаюсь, ты весь день вкалывал. Вечером, когда будешь свободен, загляни к нам с Хумаюном в машинное отделение. Выпьем. И может, я расскажу, откуда у меня это, – он показывает пальцем на оберег.
После того как Гауранга уходит, Джамир работает еще с полчаса, после чего отправляется на камбуз, что-нибудь наскоро перекусить. Спустившись по лестнице, он обнаруживает, что кто-то копается в его вещах у постели.
В три шага он сокращает расстояние между собой и стоящей к нему спиной фигурой. Маник оборачивается и задирает руку с письмом. Высоко – Джамиру не достать.
– И что же это я нашел?
– Отдай! Кто разрешил тебе рыться в моих вещах?
– Эй, полегче, – Маник выдергивает письмо из конверта. Хмурится, старательно изображая величайшее изумление на потном рябом лице. Качает головой. – Что это такое? Любовное послание от твоей жены? Я и не знал, что ты умеешь читать. И что ты делаешь на корабле? Тебе место в университете.
– Маник, – в дверях стоит Аббас. Он мрачнее тучи. – Отдай.
Дородный капитан заходит на тесный камбуз. Оттого что тут собралось сразу три человека, становится невыносимо жарко. Джамир чувствует, как по спине катятся вниз капельки пота.
Маник не выдерживает взгляда отца, кидает письмо на кровать и, набычившись, уходит.
– Тяжело смотреть, как дети вырастают, а когда они себя паскудно при этом ведут – тяжело вдвойне, – вздыхает Аббас. – Хочу извиниться за сына. Он самый младший, и потому я его не порол, хотя надо было бы. Может, другим человеком бы стал.
– Я твой работник, так что это я должен извиняться, – отвечает Джамир, и вдруг у него вырывается невольное: – То письмо, что держал в руках твой сын… Я нашел у себя в хижине. Мне кажется, жена его прятала от меня.
– Ясно. Хочешь, чтоб я его тебе прочел?
– Да.
– Мы можем его выкинуть, забыть о его существовании и о том, что ты его нашел.
Джамир качает головой:
– Нет. Я хочу знать, о чем там речь. И я со всем почтением прошу тебя его мне прочесть.
– Ладно, если ты так этого хочешь, – Аббас протягивает мясистую руку. Корабль немного покачивается, а вместе с ним и лампа под потолком. Лицо Аббаса то заливает свет, то оно пропадает в тени. Джамир протягивает письмо и поспешно делает шаг назад, словно страшась некоего злого духа, который внезапно может выпорхнуть из конверта. Аббас молча пробегает глазами письмо от начала до конца. Закончив, он поворачивается к иллюминатору и долго в него смотрит.
– Что там?
– Жуткие, срамные вещи, – отвечает Аббас.
– Что именно? Скажи! От кого оно? Что там написано?
– Оно не подписано. И… лучше тебе не слушать эти мерзости.
Джамир падает на колени:
– Прочти его мне. Умоляю!
Капитан поднимает его на ноги.
– Я не стану травить воздух ядом тех слов, что начертаны на этой бумаге. Что тебе еще надобно знать? Прости, сынок. Я твой сосед, твой друг, я знаю тебя и твою супругу уже много лет. Вот даже когда несколько месяцев назад она служила у меня домработницей, моя жена только и делала, что нахваливала ее. Ее измена лишь печалит меня.
– Я тебе не верю, – Джамир качает головой. – Не верю, и всё тут. Ты врешь.
– Неужто в это так сложно поверить? – капитан выдерживает его взгляд.
Намек на прошлое Хонуфы приводит Джамира в ярость.
– Да как ты смеешь поминать об этом? Она была совсем юной, почти девочкой. Я смирился с тем, что случилось, а как другие к ней относятся – мне плевать.
Аббас протягивает ему письмо:
– Если за ней нет вины, может, ты просто обо всем спросишь ее сам?
Он берет письмо и находит в себе силы уйти. Капитан говорит что-то еще, но Джамир пропускает его слова мимо ушей. Море сейчас совершенно спокойно, ни малейшего намека на качку. Джамир этому рад – он боится, что ноги сейчас могут его подвести. Каким-то чудом ему удается подняться по лестнице и выйти на палубу. Сгущаются сумерки.
Надо чистить шпигаты.
Он направляется к ним. Опускается на четвереньки и принимается за работу. Он трудится, покуда не начинают кровоточить пальцы.
Шахрияр и Анна
Шахрияр читает Анне, пока она не засыпает. Он целует ее в щеку и выходит из спальни дочери.
Спускается вниз. Пока он идет к фойе, его глаза выхватывают длинный комод у стены, на котором стоят фотографии. Он останавливается и принимается их разглядывать. Вот Анна, Вэл и Джереми в концертном зале, вот они у торгового центра в погожий летний день. Его дочь сидит на широких плечах Джереми. Фотографии расставлены в хронологическом порядке. На самых ранних крошечная Анна взмахивает теннисной ракеткой, собираясь нанести удар по мячу, который не попал в кадр. Вот она идет куда-то, держа за руку Вэл, оглядывающуюся на фотографа, вот сидит в пуховике на снегу, выглядывая из капюшона. Есть фотографии, где Вэл с Джереми. На одной из таких фотографий она задувает свечи на торте, одной рукой отводя со лба упрямый локон волос. На другой – на последнем месяце беременности нежится в кресле у камина. Вот она в окружении друзей салютует бокалом и смотрит в камеру, а вот в одиночестве задумчиво смотрит в окно, устремив взгляд в сторону холмов.
Ни на одной из этих фотографий Шахрияра нет.
Шахрияр возвращает машину, которую брал напрокат, после чего едет на метро домой. До съемной квартиры на юго-западе Вашингтона он добирается в одиннадцатом часу вечера. На ужин – курица на гриле и салат из шинкованной капусты. За едой он смотрит телевизор.
В новостях в основном говорят о предстоящих президентских выборах. Он с вялым интересом смотрит, как сенатор от Мэриленда Пабло Агилар выступает на съезде Республиканской партии. Высокий, с блестящими каштановыми волосами и белозубой улыбкой, он быстро стал узнаваемым, и его часто показывают по телевизору. Он говорит страстно и вроде бы искренне – сперва о войне в Ираке, а потом о своем детстве и родителях-иммигрантах из Мексики. Его отец работал водителем грузовика, а мать уборщицей в отеле. Само собой, они были способны на большее, но они смирились со своим уделом, чтобы обеспечить лучшую жизнь сыну, которому удалось сперва пробиться в Йельский университет, а потом еще и выиграть стипендию Родса[10] для дальнейшего обучения. В завершение своей речи Агилар отмечает, что ему помогла добиться таких результатов непоколебимая вера в том, что упорный труд в Америке непременно приведет человека к успеху. Не так важно, откуда человек родом, важно, к чему он стремится.
Типичные фантазии в духе Хорейшо Элджера[11], за которые так любят цепляться консерваторы, игнорируя горы фактов, свидетельствующих о диаметрально противоположном. Шахрияр фыркает и выключает телевизор.
Несколько позже он сидит на кровати и размышляет о прожитом дне.
Вэл права, времени у него и вправду немного. Он попытался уверить ее, что у него есть нечто вроде плана, что он, мол, найдет работу.
По большому счету его сейчас нельзя назвать безработным. На протяжении последнего года он работал исследователем-аналитиком в Институте политического диалога, учреждении, финансируемом из государственного бюджета и занимающемся, в частности, вопросами защиты общественных интересов вроде охраны здоровья, проблем иммиграции и прав потребителей. Работу предложили благодаря стараниям одного из членов диссертационного совета, который порекомендовал Шахрияра директору института Альберту Фолькеру, который несколько лет провел в качестве представителя ЮНИСЕФ в столице Бангладеш городе Дакке. Фолькер прибыл туда в 1971 году после войны за независимость.
Предложение о работе последовало после того, как они встретились с Фолькером за кофе. Беседа растянулась до обеда. Они сошлись с Фолькером во взглядах на роль гражданского общества в развитии городов, обсудили перипетии извечной политической борьбы двух основных партий в Бангладеш и преимущества бирьяни[12] с курицей над бирьяни с бараниной. На следующий день Шахрияр получил от Фолькера по электронной почте письмо, в котором директор института предлагал ему работу. Вскоре Шахрияр понял, что речь, по сути дела, шла об интернатуре. На протяжении двадцати часов в неделю ему полагалось помогать директору с бумажной работой и готовить его выступления. Зарплаты едва хватало на жилье и еду. Несмотря на это, Шахрияр всё равно спросил Фолькера, возможно ли продлить контракт. В ответ директор лишь мрачно покачал головой. У института нет лишних денег. Когда срок действия рабочей визы Шахрияра подойдет к концу, он лишится и работы.
Он тяжело вздыхает и приступает к ритуалу, предшествующему отходу ко сну. С верхней полки шкафа он достает тряпичную сумку. Лет ей столько же, сколько и ему. Два предмета в ней – еще старше. Он вынимает их, долго-долго смотрит и только потом наконец находит в себе силы уснуть.
Рахим
Утром, за год до того, как Индии было суждено оказаться разделенной на два государства, Рахима Чоудхори везут на работу в его автомобиле «Уолсли-Моррис» 1934 года. Утро самое обычное. На коленях газета «Стейтсмен»[13], кейс – под боком, а за рулем – личный шофер по имени Моталеб. Рахим читает газету, чувствуя нарастающее смятение и ужас. На первой странице практически все новости посвящены завтрашней забастовке, инициированной Мусульманской лигой.
Индия кипела и бурлила весь год. Страна содрогалась в ожидании распри между индуистами и мусульманами, которая неизбежно должна была вспыхнуть с новой силой после провозглашения независимости. Светская партия «Индийский национальный конгресс», в которой доминировали индуисты, выступала против раздела страны на два государства по национальному и религиозному признаку. В подобном разделении она усматривала заговор британцев, желавших ослабить страну, которой они правили две сотни лет и которую теперь должны были оставить. Мусульманская лига, в свою очередь, выступала за раздел, указывая, что без покровительства британцев мусульмане станут в Индии угнетаемым меньшинством. В доказательство серьезности своих намерений добиться права на собственное государство лига призвала к всеобщей забастовке, объявив День прямого действия.
Рахим отчасти поддерживает лигу, но при этом неодобрительно относится к ее лидерам, которые за последние несколько месяцев изъездили вдоль и поперек страну, выступая с зажигательными речами перед толпами, которые и без того горели жаждой деятельности. Впрочем, в открытую дистанцироваться от лиги он тоже не может. Он мусульманин – богатый и успешный. Такие, как он, в Калькутте – исключение из правил.
Он все еще погружен в чтение, когда автомобиль попадает в пробку. Что-то впереди заставило остановиться поток машин, рикш и красных двухэтажных автобусов. Рахим опускает стекло и тем самым допускает ошибку, поскольку в машину тут же проникают клубы пыли, смог, а вместе с ними и шум.
– Авария, – сообщает рикша, который для лучшей видимости привстает в седле. – Паренька машина сбила. Эх, досталось ему. Всё залито кровью. Толпа угрожает водителю.
Рахим открывает дверь, чтобы пойти и разобраться, но Моталеб его останавливает:
– Осторожнее, сахиб. Люди и так уже в ярости, а увидят еще одного богатея из дорогой машины, так и вовсе озвереют.
Он садится обратно, чувствуя собственное бессилие. «Уолсли-Моррис» сворачивает на узкую улицу, соединяющую Парк-стрит с Хангерфорд-роуд. Улочка застроена видавшими виды многоэтажными жилыми домами прошлого века. Вдоль дороги – яркие рекламные щиты, предлагающие весь спектр мыслимых и немыслимых услуг: от пошива одежды на заказ до аюрведических снадобий от венерических заболеваний. На бельевых веревках сушатся сари, юбки и дхоти. Снуют рикши, тянут повозки полуголые жилистые носильщики, роняющие на землю капли пота. Запах тел, сточных канав и старого дерева мешается с ароматом жарящихся в масле муки, кумина и картофеля.
По мере того как машина медленно, но верно едет по улице, некоторые прохожие останавливаются и тычут пальцами, показывая на головной убор Рахима, свидетельствующий о том, что он мусульманин.
Через некоторое время, обогнув пробку, они выбираются на главную улицу.
Вскоре Рахим уже может разглядеть вдалеке бывшее здание обсерватории, в котором теперь располагается фабрика по производству печенья «Британия Бисквитс».
По окрестностям плывет густой сладкий запах. В первые несколько месяцев, когда он возвращался домой, пропитанный ароматом кондитерской, его жена Захира с улыбкой сетовала: мол, она не знает, что делать – то ли обнять его, то ли обмакнуть в чашечку чая. Теперь она почти не обращает на этот запах внимания.
Когда его машина въезжает в ворота, охранники бодро ему салютуют. Автомобиль останавливается у главного входа. Рахим проворно вылезает из машины и, перепрыгивая через две ступеньки, несется наверх. Он предпочитает приезжать на важные встречи пораньше, а из-за того, что пришлось объезжать пробку, он потерял немало драгоценных минут.
Взбежав на второй этаж, он сворачивает направо – в коридор, обрамленный колоннами.
Тяжело дыша, Рахим останавливается у двери, на которой висит табличка «генеральный директор Теодор Дрейк». Смотрит на часы. У него есть ровно одна минута, чтобы перевести дыхание.
Ровно в тот самый момент, когда минутная стрелка на его часах сдвигается на двенадцать, Рахим стучит в дверь.
– Заходите.
Теодор Дрейк сидит за исполинским столом из бирманского тика. Его улыбка теплая и располагающая.
– Чоудхори. Рад вас видеть. Садитесь.
Рахим достает из портфеля папку.
– Я приготовил то, что вы просили, сэр.
– Превосходно.
Пока Дрейк изучает содержимое папки, Рахим разглядывает карту Рангуна в раме, висящую на стене за спиной директора. Перед тем как занять нынешнюю должность, Дрейк служил в звании полковника в британской армии. Он был под началом генерала Уингейта в Импхале, когда японцы вторглись в Бирму, и принимал живейшее участие в освобождении этой страны. После войны он подал в отставку и отправился на гражданскую службу. Необычное решение для человека военного.
Дрейк поднимает взгляд:
– Недурно. Надеюсь, я несильно усложнил вам жизнь, дав так мало времени.
– Нисколько, – качает головой Рахим, несмотря на то что ему пришлось изрядно потрудиться. В папке данные о регистрации, правила внутреннего распорядка, журналы протоколов, организационная структура, счета, инвентарные описи, бухгалтерская книга, данные по физическим активам – одним словом, вся информация о предприятии, которую только можно собрать за те две недели, что ему были выделены.
– Осмелюсь заметить, сэр, что подобный свод документов может весьма заинтересовать потенциального покупателя.
Дрейк нетерпеливо кивает. Ему еще нет тридцати пяти, а виски уже местами тронуты сединой.
– Еще он вполне сгодится для годичного анализа хозяйственной деятельности, который может запросить совет директоров.
– О таком запросе меня бы предупредили. Подобный анализ мог бы потребовать и покупатель.
На этот раз слова Рахима вызывают у Дрейка смешок:
– Мы продолжим говорить полунамеками или вы перестанете ходить вокруг да около и спросите напрямую, что хотели?
– Сколько нам осталось?
– К чему такой фатализм? Это просто меры предосторожности, которые меня попросил принять совет директоров.
– Появился покупатель?
– Кое-кто наводит справки. Больше всего интереса проявляет группа местных инвесторов. Принимая во внимание то, что маячит на горизонте, это вполне ожидаемо. Британские компании по всей Индии сматывают удочки и бегут обратно в Англию. Настал черед «Британия Бисквитс» – только и всего.
– Не все бегут, кто-то и остается.
– Да, но надолго ли? Считайте это первой трещиной на чашке. Трещиной, которая рано или поздно разрастется, и чашка развалится на куски. Когда я пришел с фронта и встал во главе предприятия, независимость казалась делом далеким, а сейчас ее объявление вопрос месяцев, а не лет. Думаю, отчасти именно поэтому совет директоров нанял именно меня. Чтобы переход был наименее болезненным.
Рахим переваривает услышанное. Предчувствия у него дурные. Для него не новость, что по всей стране в крупных компаниях рычаги управления переходят от британцев в руки местных, пусть даже скорость этого процесса застала многих врасплох. Расставание с колонизаторами обещало быть долгим и при этом горьким и сладостным одновременно, причем не только для оккупантов, но и для оккупированных. Во многом британцы сродни династии Моголов, которых они сместили. Англичане служили своеобразным связующим звеном, скреплявшим многоликую страну, в которой жили люди, говорившие на разных языках, с разной религией и культурой.
– У нас работает больше тысячи человек. Что будет с ними, если фабрику продадут?
– Я не стану давать пустых обещаний. Вам, как никому другому, прекрасно известно, что после продажи, как правило, бывают сокращения. Меня первого и уволят, – Дрейк смеется. – Но вам, по идее, нечего переживать. По крайней мере, пока.
– Боюсь, я вас не понимаю, сэр.
– Скажу вам прямо, мистер Чоудхори, я сыт по горло Азией, колониями и романтикой пыльного грязного Востока. Я жду не дождусь, когда наконец вернусь в Англию. Буквально дни считаю.
– Ясно.
– Не хотел вас обижать.
– Я и не обиделся.
– А вы что будете делать? Если страну поделят по религиозному принципу, а к этому, скорее всего, и идет, – останетесь здесь или переберетесь в Восточную Бенгалию? Я так понимаю, именно туда должны отправиться мусульмане, если ваши лидеры добьются желаемого.
Этим вопросом Рахим задавался каждый день на протяжении всего года. Что для него главное? Кто он в первую очередь? Мусульманин – и его судьба с народом, который порвет с Индией, или индиец – и для него страна важнее Аллаха?
– Я пока не знаю, – честно признаётся он. – Думаю, приму решение, если страну действительно разделят. Жена, конечно, предпочтет переехать обратно в Восточную Бенгалию, и неважно, появится ли там отдельная страна или будет просто провинция для одних мусульман. Там ее родина. С ее точки зрения, она просто вернется домой.
– Если вам нужен мотив остаться, я могу рекомендовать совету директоров, чтобы вас после моего отъезда назначили управляющим, – пожимает плечами Дрейк. – Да, вы довольно молоды для этой должности, однако более чем ее заслуживаете. Ну а поскольку новый совет директоров будет состоять, скорее всего, только из индийцев, то они будут более склонны… – он запнулся, подбирая верные слова, – к разнообразию при подборе управляющего.
– Спасибо, сэр, – только и смог выдавить из себя Рахим.
Он работает на фабрике уже пять лет, причем три года – на должности главного бухгалтера. Когда в прошлом году от разрыва сердца умер предыдущий управляющий Уоддингхэм, Рахим считал, что у него есть немалые шансы занять вакантное место. Однако новым управляющим сделали Дрейка.
«Ты просто работай как раньше, – утешала Захира, подбадривая разочарованного мужа. – Твое время придет. Я это знаю».
Он и работал – рука об руку с Дрейком. Когда новичок только встал во главе фабрики, они вместе занялись реструктуризацией долгов, что позволило спасти немало денег. Вместе они планировали стратегию дальнейшего развития компании на тот случай, если стране дадут независимость, разрабатывали подробный план действий, учитывавший все возможные риски и случайности. За год совместной работы Рахим проникся уважением к острому уму Дрейка. Ему даже полюбился его сухой английский юмор.
– Ну как вам мое предложение? Желание остаться появилось? – спрашивает Дрейк.
– Скажем так, вы дали мне пищу для размышлений, – улыбается Рахим.
– Надеюсь, что так. Жду вашего ответа. Причем чем раньше, тем лучше. Подобные возможности, мистер Чоудхори, каждый день не подворачиваются. Мой вам совет: не упустите шанс.
В кабинет заходит служащий и вручает Дрейку телеграмму. Управляющий пробегает ее глазами, комкает и швыряет в мусорное ведро.
– По ходу дела, ваши собратья по вере по всему городу мутят людей. Мне советуют сегодня вернуться домой пораньше. Думаю, схожую рекомендацию следует дать всем работникам.
– Но День прямого действия назначен на завтра.
– Суть в том, что беда, как правило, приходит без предупреждения. Пошли слухи, что завтра мусульмане примутся собирать по городу боевые отряды. Теперь индуисты намереваются сделать то же самое. Насилие порождает насилие.
Он встает и протягивает Рахиму ладонь. Они жмут друг другу руки.
– Искренне надеюсь, что вы хорошенько обдумаете мое предложение. Разделят страну, не разделят – вы, я уверен, всё равно останетесь на коне. А теперь отправляйтесь домой и поговорите с женой.
– Но что, если мне не удастся уговорить ее остаться?
– Сделайте так, чтобы она была счастлива. Будьте хорошим мужем, мистер Чоудхори. Сражайтесь за свою семью. Увы, за это не дают медалей.
Водитель Рахима наготове. Он ждет его на улице у дверей. К воротам на выход валит толпа рабочих. На лицах людей застыла тревога.
– Возвращаемся, Моталеб, – бросает Рахим, забираясь обратно в машину. – Давай срежем по той же улочке, по которой мы ехали сегодня утром. Думаю, все главные дороги забиты народом. Люди спешат домой.
– Слушаюсь, сэр,– Моталеб нависает над рулем. Он всегда сидит за баранкой именно так с тех самых пор, когда поступил в услужение к семье Рахима. Было это в те времена, когда на престоле еще сидел Эдуард VII[14]. За годы работы шофером, сперва у отца Рахима, а потом уже и у него самого, Моталеб сделался важным, как капитан морского лайнера. Машину он ведет с непоколебимой уверенностью.
Рахим откидывается на спинку сиденья, гадая, как получше сообщить жене новости. На протяжении последних нескольких месяцев Захира всячески убеждала его хорошенько обдумать, что они станут делать в случае раздела страны на два государства.
Решив пока не ставить супругу в известность, Рахим уже предпринял кое-какие предварительные меры. В свете надвигающегося геополитического катаклизма индуисты, массово выезжавшие из Восточной Бенгалии, и мусульмане, наоборот, собиравшиеся перебраться туда, активно шли на сделки по обмену недвижимостью. По идее, это должно было значительно упростить процесс перемещения для обеих сторон, однако в большинстве случаев тут таилось немало подводных камней, и одна сторона нередко получала значительно лучшее жилье по сравнению с другой.
Рахим установил контакт с богатым помещиком-индуистом, проживавшим на юге Восточной Бенгалии, который выразил готовность обменять свой особняк на берегу моря на дом Рахима в Калькутте. Вот уже несколько месяцев они переписывались, перечисляя преимущества и достоинства своих жилищ, параллельно обговаривая условия сделки. По сути дела, для ее завершения Рахиму остается только отправить чек.
Не делает ли он ошибку? Не слишком ли он торопится? В последнее время Рахима терзали сомнения, и два месяца назад он попросил на время прервать переговоры. Разумно ли уезжать из Калькутты? Какой смысл дробить одно государство на два? Это ведь всё равно что отрезать ногу в надежде, что из нее потом вырастет новый человек. И вот теперь, после предложения Дрейка, Рахим стал колебаться еще больше, еще сильнее склоняясь в пользу того, чтобы остаться в Калькутте.
Он решает спросить совета у водителя:
– Как думаешь, Моталеб, смогут индуисты и мусульмане жить в мире после того, как англичане уйдут?
Водитель смотрит слезящимися глазами в зеркало заднего вида и встречается взглядом с Рахимом.
– Мы и так уже живем бок о бок тысячу лет, сэр. Индуисты и мусульмане – это как мы с женой. Мы так давно собачимся друг с другом, что если вдруг перестанем, то нам этого будет не хватать.
Рахим смеется:
– Удивительное дело, Моталеб. Я не устаю поражаться, как два столь разных народа могут жить вместе в одной стране. Мы, мусульмане, верим в одного-единственного Бога, невидимого и всезнающего, внешность которого мы не имеем права даже вообразить в своем сознании, не говоря уже о том, чтобы изобразить его на камне или бумаге. Индуисты верят в миллионы богов всех форм, размеров и цветов. Мы день не можем прожить без мяса, а брамины не прикасаются даже к луку с чесноком. Мы считаем, что Аллах сделал человека властителем над всем живым в этом мире, а индуисты почитают священными коров и обезьян.
Они сворачивают на тот же самый переулок, по которому ехали утром. Моталеб сбавляет газ, подстраиваясь под скорость потока.
– Вы уж простите старика, сэр, но мне хочется попросить дозволения рассказать вам одну историю.
– Да, конечно, я внимательно слушаю.
– Спасибо, сэр.
Шофер откашливается.
– Когда я был еще маленький, отец сперва попытался пойти в подмастерья к сапожнику, затем к ювелиру, потом к кондитеру. Нигде у него ничего не получалось. И вот тогда он решил попробовать себя в плотницком ремесле. Нас было шестеро детей в семье, я самый младший. Однажды, когда мать захворала, отец взял меня с собой на работу – в дом своего наставника-плотника. Дом у него был самый обычный, глинобитный с соломенной крышей, а вот двор – просторный и чисто прибранный. «Сядь туда и не сходи с места», – велел мне отец, показав на сливовое дерево в углу. Он дал мне бутыль воды, хлеб, пальмовый сахар. Мне было пять. Из страха сделать что-нибудь не то я сидел на месте, как приколоченный. Ел, пил, одним словом, делал, что велено. Однако в конце концов любопытство взяло верх, и я направился на кухню, где всё еще тлели уголья, оставшиеся с утра. Потом заглянул в комнату поменьше, что примыкала к ней. Замер на пороге и не сразу разглядел, что стоит в другом ее конце. Я колебался, видать, чувствовал нутром, что мне там не место. Но предмет на другом конце комнаты тянул меня к себе словно магнит. Это была глиняная статуя, размерами мне до колена – не больше. Она изображала юношу, красивее которого я никогда прежде не видел. Сделана она была мастерски, детали тщательно проработаны, отчего мальчик выглядел совсем как живой. Казалось, если поднимется ветер, то раздует его одежды. С голой грудью, синекожий, с шафрановой накидкой на шее, мальчик держал свирель у рубиново-красных губ, расплывшихся в легкой улыбке – будто его забавлял какой-то секрет, известный лишь ему одному. В комнате пахло землей и деревом. Взгляд статуи был устремлен на меня. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Наконец, я подался вперед и потянулся к его щеке. Вдруг раздался пронзительный крик, и я замер. По сей день ломаю голову – удалось ли мне прикоснуться к статуе или нет. «Что ты делаешь?!» – в комнату ворвалась жена плотника в развевающемся сари. От ее волос пахло кокосовым маслом. Она вцепилась мертвой хваткой мне в руку и вытащила на солнце, словно какую-то букашку из-под камня. «Где ты! Где ты, муж!» – старуха орала, покуда из мастерской за домом не показался плотник. Он был высоким, бородатым и голым по пояс. За ним следовал мой отец. «Что случилось, жена?» – спросил он. «Этот… этот гаденыш… он едва не…» – старуха, вне себя от возмущения, тыкала пальцем в сторону комнаты, из которой выволокла меня. Плотник посмотрел на меня сурово, но без всякой злобы. «Куда ты еще ходил, мальчик? Говори, да побыстрее». Всхлипывая, я показал на кухню. Старый плотник спокойно и при этом методично стал выносить всю посуду и бить ее о землю, покуда земля не оказалась покрыта черепками. «Ты пойми, – объяснил он отцу, который, стиснув зубы, повел меня прочь. – У меня нет другого выхода. Так поступают, если на кухню или в комнату с алтарем заходит не индуист. Вопрос не в том, верю я в это или не верю, но правилам надо следовать и делать всё, чтобы жена оставалась довольна».
Водитель немного помолчал.
– Так и закончилось краткое ученичество моего отца у плотника, – вновь заговорил он. – Всю обратную дорогу до дома мой родитель молчал. При этом он не то что не ударил меня за мой поступок, он даже не ругал меня. Вообще никак не наказал. В случившемся он видел некий перст судьбы. А красивый синекожий юноша всё никак не шел у меня из головы. Впоследствии я узнал, что это Кришна. И по сей день в моей комнате есть его изображение, несмотря на то что я по пять раз в день, как и полагается всякому правоверному мусульманину, совершаю намаз.
Рахим, очарованный историей, уже открывает рот, чтобы выразить свое восхищение, но вдруг машина резко останавливается. Он поднимает взгляд. Дорогу преграждают три молодых человека в дхоти. У них в руках толстые бамбуковые посохи. На их лбах по три белых полоски и красной точке.
Моталеб и Рахим в волнении переглядываются.
– Это тилака[15] тех, кто поклоняется Шиве, богу разрушения.
– Шива не только бог разрушения, но также созидания и сбережения, – отвечает Рахим, вызывая изумленный взгляд Моталеба. – Будем надеяться, что эти джентльмены тоже об этом помнят.
Когда высокий поджарый мужчина в центре троицы жестом приказывает Моталебу выйти из машины, шофер со страхом смотрит на хозяина. Рахим кладет ему руку на плечо, не позволяя встать, и опускает стекло.
– Что-то случилось?
– Вылезай из машины, – говорит высокий, почесывая тюрбан кончиком посоха. Двое других молодых людей наблюдают, скрестив руки на груди.
Рахим выходит из машины и встает прямо – словно палку проглотил. Он превосходит ростом большинство людей, но при этом ниже собеседника где-то на ладонь.
Собирается толпа – поглазеть.
– В чем дело, бхай? – спрашивает он, по ошибке, на автомате называя высокого словом «брат», как принято среди мусульман-бенгальцев.
– Я тебе не брат.
– Прости меня. Как тебя зовут, дада?
Злоба, исходящая от троицы, заражает толпу. Мужчины и женщины принимаются сквозь зубы цедить ругательства.
Один из крепышей подходит к Рахиму. Изо рта здоровяка пахнет кислым:
– Ни к чему тебе его имя. В этом районе живут индуисты. Ты что здесь забыл?
– К чему грубить? – останавливает его высокий. – Не сомневаюсь, он сейчас сам всё объяснит.
Он подходит ближе и смотрит на Рахима. Высокому не больше двадцати пяти. На его щеке шрам от удара ножа.
– Ты кто? Выкладывай живее. И не ври. Мы тут бандитам из Мусульманской лиги не рады. Мы знаем, что вы планируете беспорядки.
Рахим прекрасно понимает, что одно неосторожное слово – и ему конец. Несмотря на это, его рука спокойно лежит на крыше машины, а голос звучит ровно.
– Мы просто ехали по улице, вот и всё. Нам не нужно проблем – ни с вами, ни с кем-либо еще. Я не интересуюсь политикой. Я не имею никакого отношения к лиге. При этом я не думаю, что лига собирается применять силу. Это всё просто разговоры, чтобы британцы обошлись с мусульманами по справедливости, когда наша страна, наш Индостан, освободится от их владычества.
Рахим знает, что кривит против истины. Лига готовится сражаться и уже на протяжении нескольких месяцев накручивает мусульман. Однако об этом можно и забыть, когда на кону твоя жизнь.
Крепыш, у которого воняет изо рта, обходит вокруг машины Рахима и обращается к толпе.
– Нет, вы слышали? «Наш Индостан!» Он говорит о нашем Индостане, тогда как его подельники-бандиты из Мусульманской лиги пойдут завтра отбирать у нас наши земли, чтобы основать свое государство. А нам, значит, своего государства иметь нельзя – рылом не вышли!
Толпа принимается гадко улюлюкать в ответ и кричать: «Убей его!» Крепыш поворачивается к Рахиму и говорит:
– Может, прямо сейчас отправим тебя в страну ясного света?
– Полегче, – высокий улыбается Рахиму. – Ты уж извини, но сам видишь, как мои друзья расстроены из-за этого Дня прямого действия. Ими руководят эмоции, а не здравый смысл. Согласись, не самая мудрая мысль вступать с ними в политические дискуссии посреди разозленной толпы. Верно я говорю? Как тебя зовут?
Рахим не торопится с ответом. Имя дает власть, а полностью уступать позиции он не хочет.
– Ну и к чему эта бравада? – шепчет высокий, наклоняясь к Рахиму. – Сейчас только я смогу защитить тебя от толпы. Одно мое слово – и тебя разорвут на куски.
– Чего ты хочешь?
– Передай домой весточку через шофера. Если твоя семья захочет увидеть тебя живым, она не поскупится и пришлет нам денег. Сумма, правда, будет немаленькая.
Шахрияр и Анна
Он стоит возле школы Анны среди загорелых привлекательных женщин, приехавших забрать своих детей. В толпе есть и горстка мужчин. Они поджарые, в темных очках и шортах. Что они тут делают? Заняться нечем? У них нет работы? Шахрияр теряется в догадках.
Младшая школа имени Тэргуда Маршалла построена из кирпича и белого известняка. Перед ней на лужайке растут деревья, отбрасывая на здание школы тень. Родители с интересом на него посматривают, но он не стремится с ними общаться, ограничиваясь лишь улыбками и приветственными кивками.
Без пяти три из школы выбегает толпа детей. Среди них – Анна. При виде отца она мрачнеет, машет ему рукой, наскоро прощается с друзьями и направляется к Шахрияру. Мужчине становится интересно, чем вызвана такая реакция? Она его стесняется или просто надеялась увидеть Джереми?
– Привет, красавица, – говорит он и заключает в объятия в надежде, что тем самым не ставит дочь в неловкое положение перед ее друзьями. К нему подходит женщина. Миниатюрная брюнетка. Молодая и привлекательная. На ее левой руке поблескивает кольцо с крупным бриллиантом.
– Всё в порядке? – она смотрит на Анну.
– Я ее отец, – улыбается он.
– Вот как? Я вроде никогда…
– Всё в порядке, миссис Штейн, – говорит Анна. – Это мой папа. Обычно он меня не забирает.
– Да, конечно, – учительница смущается. – Я просто… – она протягивает руку. – Здравствуйте, меня зовут Лиза. Я преподавала вашей дочери в третьем классе.
Он пожимает ей руку и представляется.
Девушка переводит взгляд с его лица на лицо дочери.
– Я могла бы и сама догадаться. Анна просто ваша копия. За исключением глаз.
– Да, – соглашается он, – за исключением глаз.
Они направляются в сторону улицы, оставив позади себя школьные автобусы вместе с «инфинити» и «ауди», припаркованными возле школы.
– Какие у нас планы? – спрашивает Анна.
– Сегодня пятница. Ты прекрасно понимаешь, что это означает.
Она издает недовольный стон:
– Что, опять курсы бенгальского? Только не это!
– Ты всего месяц на них ходишь. Неужели тебе совсем не нравится?
Анна сникает – сейчас она напоминает пристыженную собачку.
– Просто эти бенгальские буквы так тяжело писать. Я застряла на букве «шо».
– Да ведь это самая красивая буква во всем алфавите. Две петельки и прямая линия в конце.
– Может, ты сам меня будешь учить?
– Из меня учитель так себе, не то что твой дед, но я могу помочь тебе с практикой. Кроме того, ты ведь сама говорила, что тебе нравятся песни и танцы, которые вы разучиваете на курсах.
– Ну, они такие… нормальные, в общем, – уклончиво говорит девочка. – А вот еда мне правда очень нравится.
– Очаровательная детская честность и непосредственность. Давай тогда прибавим шаг, а то на автобус опоздаем. Кажется, сегодня на курсах будут давать бирьяни с курицей.
– Ура!
Курсы бенгальского языка располагаются в бенгальском культурном центре на Глиб-роуд в Арлингтоне. Они добираются дотуда за час с одной пересадкой. Они на несколько минут опаздывают на первый урок – рисования. Шахрияр забирает у Анны рюкзак, и девочка, вбежав в класс, скорее бежит к одной из групп, сидящих кружком у разложенных листов. Шахрияр садится у входа, берет из стопки на столике журнал и начинает читать, надеясь, что никто не станет расспрашивать, чей он отец и кто мать его дочери.
Остальные родители живо общаются друг с другом, собравшись в кучку. Женщины – в сари, у некоторых волосы по новой моде прикрыты хиджабами. Они расставляют алюминиевые подносы, прогибающиеся под весом еды, – тут и бирьяни, и курица в соусе карри, и огуречный салат, и допиаза с рыбой. На бумажных крышках – пятна жира.
– Я вас здесь раньше не видел, – обращается к нему на бенгальском сидящий рядом мужчина. Жесткие волосы на его голове были бы с проседью, не будь подкрашены хной в рыжий цвет. Одет он в явно сшитый на заказ серебристо-серый костюм с едва заметным зеленоватым отливом. – Которая тут ваша?
Шахрияр беззвучно цедит ругательство.
– Вон та. Девочка в зеленом платье.
– Славная малышка. Какая кожа! А глаза! Прошу меня простить, ее мать…
– Да, мать – американка, – Шахрияр старается, чтобы ответ не прозвучал излишне резко. Беседа бенгальцев – это настоящая наука, где позволительно будто бы невзначай заговорить о личном, но при этом малейшая грубость может дорого обойтись.
– Простите, не хотел вас задеть. Моя первая жена тоже была американкой. Дочку назвали Ребеккой. Она синеглазая. Мне ли не знать, каково это, когда у тебя дочка наполовину американка. Все эти взгляды, расспросы…
– Первая жена? Получается, вы…
– Развелся, – кивает собеседник. – Еда, язык, воспитание, культура – мы оказались слишком разными. Тут никакая сила любви не поможет. Бывшая жена с дочкой сейчас в Калифорнии. Ребекка поступила там в университет – в Лос-Анджелесе. Ну а я снова женился. Второй раз – на женщине из наших. У нас двое детей.
Он показывает на мальчика-подростка, играющего в настольный теннис.
– Вон мой сын Сумон. Вожу его сюда после школы, чтоб он мог поиграть со своими друзьями.
– Вы часто с ней видитесь? – спрашивает Шахрияр. – Я о вашей дочери от первого брака.
На лице мужчины появляется грустная улыбка:
– Не так часто, как хотелось бы. Она приезжает на Рождество. Ну или я приезжаю. Общается с моими детьми от второго брака. В те годы, когда мы не можем встретиться, я отправляю ей экспресс-почтой подарок. Время от времени она мне звонит. Иногда мне кажется, она это делает больше для галочки.
Шахрияр не знает, что сказать в ответ. Откровения незнакомца представляются ему скорее не даром, а бременем. И чем ему отплатить за такую откровенность? Что поведать о себе? Насколько открыться самому?
– Сочувствую. Мне очень жаль.
– Нет, погодите. Это мне следует сожалеть о своем поведении. Мы совсем не знакомы, а я вам уже полжизни своей пересказал. Можно вывезти бенгальца из Бенгалии, но Бенгалию из бенгальца не вывести никогда. Точно?
Он протягивает руку, и Шахрияр ее пожимает. Ладонь теплая и сухая.
– Фейсал Ахмед.
– Шар Чоудхори.
– Чем занимаетесь, Шар?
– Я только защитил кандидатскую. В прошлом году. А сейчас работаю на правительство, занимаюсь политологией.
– Как интересно.
– А вы?
В ответ мужчина протягивает визитку. Шахрияр глядит на нее: «Фейсал Ахмед, эсквайр». Он впивается взглядом в Ахмеда.
– Думаю, нам надо поговорить, – произносит Шахрияр.
Захира
Рахим и Захира сидят за столом и завтракают. Они в Калькутте, в своем роскошном особняке, именующемся «Чоудхори Манзил».
На столе перед ними тарелки с тостами и джемом, маслом и фруктами. Стоит напряженная тишина. Близится час, когда надо будет принять решение. Казна Британии опустошена в результате войны. Жители Индии более не собираются терпеть владычество крошечного островного государства. Англичане вот-вот готовы объявить о своем уходе. Туда им и дорога, пусть проваливают к себе домой зализывать раны. Увы, далеко не всё так гладко, как хотелось бы. В свете надвигающихся событий между индуистами и мусульманами уже начались свары и ссоры о будущем государства. Надвигается то, что прежде считалось немыслимым – раскол Индии по религиозному признаку.
– Ну как, ты всё хорошо обдумал? – спрашивает Захира.
Рахим кладет в сторону экземпляр газеты «Стейтсмен». Несмотря на то что еще раннее утро, его лицо поблескивает от пота.
– Сперва оботрись, потом отвечай, – велит жена.
Он послушно выполняет ее требование, доставая платок. Захира подозревает, что супруг едва скрывает улыбку, очарованный ее деланой строгостью. Впервые они увидели друг друга три года назад – в день свадьбы. Захире шел девятнадцатый год, и в семье то и дело говорили о ее замужестве. Однажды, вернувшись с занятий в колледже, она обнаружила, что в гостиной собралась толпа народа. Мать, увидев издали дочь, поспешила перехватить Захиру, чтобы та не наткнулась на гостей, которым не следовало видеть ее без тщательной предварительной подготовки.
– Пойдем наверх, – прошептала мама. – К нам приехали от очень хорошей семьи из Калькутты. Хотят на тебя взглянуть. Их сыну нужна жена.
Через месяц Рахим уже ехал на свадебные торжества верхом на пегой кобыле. Его голову венчал тюрбан, украшенный цветами. Захира практически ничего не знала о женихе, кроме того, что отец Рахима подружился с ее отцом в школе, договорившись на прощание при расставании связать семьи узами брака, когда в дальнейшем появится такая возможность. Когда Рахиму шел двадцать четвертый год, отец сообщил ему, что решил женить его на дочери друга детства Абу Бакара, проживавшего на другом берегу реки Падмы, что в Восточной Бенгалии.
Рахим на это дал единственно возможный ответ: «Хорошо, отец».
Когда настало время брачной ночи, Захира присела на кровати, сложив руки, расписанные узором из хны. Ее лицо скрывала накидка сари. Лицо, которого еще ни разу не видел супруг. Когда же это произошло, девушка поняла, что он всеми силами пытается скрыть разочарование.
Она не испытывала ни малейших иллюзий по поводу своей внешности, отдавая себе отчет в том, что она простушка, и, несмотря на это, удивилась тому, сколь сильно ее задела подобная реакция мужа. Боль сделалась еще сильнее, когда она случайно услышала его разговор с матерью. Свекровь имела в семье голос и с неохотой дала согласие на брак, поскольку присмотрела сыну девушку из Калькутты – пусть и менее образованную, зато более красивую. «Это даже хорошо, что ты женился на такой простушке. Во-первых, ее не будут вожделеть другие мужчины, а во-вторых, она будет гораздо более преданной тебе», – слова утешения, с которыми свекровь обратилась к сыну, стали для Захиры буквально пощечиной.
Рахим был высоким, красивым, великодушным, ласковым с окружающими и при этом лишенным той заносчивости, которая была свойственна людям его круга. Наверное, по всем этим причинам она вскоре влюбилась в супруга, несмотря на его разочарование в ее внешности. Она всеми силами силилась компенсировать недостатки своей наружности острым умом, хорошо подвешенным языком, пением и умением разбираться в литературе.
Она завоевывала сердце своего супруга долго, чуть ли не год, и наконец Захира увидела, что ее усилия приносят плоды. Ее лицо, которое Рахим когда-то считал простым и невыразительным, со временем стало для него любимым и родным. Захира не ожидала другого – что по прошествии трех лет брака они по-прежнему будут завтракать в одиночестве. Их мечты о детях всё еще оставались мечтами, и это несмотря на то что они обошли лучших врачей Калькутты – и гомеопатов, и аллопатов. После того как армия этих докторов оказалась бессильна, Рахим с Захирой прибегли к нетрадиционным методам лечения, которые рекомендовали им разномастные знатоки аюрведы и прочие шарлатаны. Советы супругам давали самые разные: кто-то говорил, что им надо есть священные фрукты, кто-то настаивал, что нужно принимать ванны из лунного света. В конце концов муж с женой смирились с судьбой. Их дом стоял пустым – совсем как утроба Захиры…
– Прости, что ты сказала?
– Ты прекрасно меня слышал.
Он потягивает воду, чтобы выиграть хоть немного времени:
– Только не говори, что ты снова об отъезде из Калькутты.
– Мне казалось, мы обо всем договорились.
– Я сказал, что мы всё обдумаем. Даже если страну разделят, у нас в запасе как минимум год.
– И ты хочешь ждать этот год? Собираешься принять решение, когда запахнет жареным? Будем дальше тянуть – может оказаться слишком поздно. Нам придется бежать из Западной Бенгалии, и мы останемся без дома.
Он парирует аргументами, которые вплоть до этого момента казались супруге вполне весомыми.
– И где я там буду работать? Чем я вообще стану заниматься в Восточной Бенгалии?
– Дакка. Это там самый крупный город. Можешь работать там. Да, у тебя не получится отыскать такую же должность, как здесь, по крайней мере вначале, но это ведь временно. Это мы сможем пережить.
– Ты-то, может, и сможешь, – морщится он. – Дакка – это страшная дыра, ее даже городом едва можно назвать, особенно если сравнить с Калькуттой. Коли нам придется перебраться в Восточную Бенгалию, я предпочту поселиться в деревне.
– Рахим, вся Восточная Бенгалия – одна большая дыра. И будет дырой – по крайней мере, еще некоторое время. Именно поэтому там нужны такие люди, как ты. На что может рассчитывать Восточная Бенгалия, если самый лучшие, самые умные из мусульман останутся здесь?
Он снова разворачивает газету, заслоняясь ей от жены:
– Может, мы напрасно беспокоимся и всё обойдется.
Захира сразу понимает, о чем говорит супруг.
– Ну да, конечно. Просто Неру, Джинна и Ганди проснутся однажды утром и, словно по мановению волшебной палочки, решат вдруг поладить друг с другом. Ты же сам прекрасно понимаешь: рано или поздно англичан здесь не будет. Нам нужен план действий. Ты можешь дать мне четкий, ясный ответ: ты хочешь остаться или мы уезжаем?
Он снова опускает газету и вздыхает:
– Да, мы не можем предугадать, что нам уготовано в будущем. Так лучше рискнуть и остаться здесь, чем ехать в края, где я никогда не был.
– Не был – не беда. Я родом оттуда. Уверяю тебя, как только ты приедешь на восток, ты буквально влюбишься в него.
Доводы Захиры достаточно весомы, Рахим уже давно колеблется. Сейчас, чувствуя, что готов сдаться, он пускает в ход последний козырь.
– А как же мои родители?
Рахим – самый младший. Брат и сестра старше его. Сестра обосновалась с мужем-врачом в Бомбее, брат управляет сталелитейным заводом в Лакхнау. Несколько лет назад родителям окончательно надоела калькуттская жара, и они переехали к его старшему брату. С тех пор Рахим с Захирой каждый год навещают их на Ураза-байрам. Всякий раз родители дают ясно понять, что климат в Лакхнау их устраивает и они не собираются возвращаться в Калькутту.
– Если бы ты хотел жить к ним поближе, мы бы давно уже переехали в Лакхнау.
Он встает, стряхивает с себя крошки, оглядывается, нет ли поблизости слуг, огибает стол, подходит к жене и быстро целует ее в голову:
– Всё решим. Скоро. Обещаю. Ты приехала сюда ради меня, может, мне настала пора отплатить тебе тем же. А пока мне пора бежать, а то я опоздаю на встречу с Дрейком.
После отъезда мужа она поднимается в спальню на втором этаже и выходит на просторный балкон, с которого открывается вид на залитую полуденным солнцем Калькутту. Опершись одной рукой на нагретую ограду, Захира другой рукой принимает поглаживать свой живот. Подтянутый, упругий, как кожа на барабане, и, совсем как барабан, совершенно пустой. Может, как только они переедут обратно на восток, всё изменится? Захира смеется. Женщины в отчаянии готовы убедить себя в чем угодно. А потом убедить уже и своих мужей.
И тут кое-что привлекает ее внимание.
На балконную ограду опускается птица. На дальний ее конец. Крупная и совершенно бесстрашная. Черные перья. Острые когти и пристальный взгляд. Птица с надменным видом бессмертного создания принимается ее изучать. На солнце оперенье отливает лиловым, словно оно из бархата. Это не простая ворона. Это ворон. В детстве она очень пугалась этих таинственных созданий с загадочным выражением глаз. Внезапно Захира понимает, что детский страх никуда не делся. «Кыш! Кыш!» – кричит она на ворона, машет руками, топает. Всё это не производит на птицу особого впечатления. Наконец, каркнув на прощание, она срывается с балкона и улетает. Вращаясь по кругу, планирует вниз одно-единственное черное перо.
Потрясенная случившимся, Захира возвращается в спальню, где гораздо прохладнее, чем снаружи. Ложится на постель, чтобы унять бешено колотящееся сердце. Ей это удается, но вместе с тем на нее наваливается страшная сонливость, будто ее кто-то одурманил. Вскоре ее охватывает дремота, темная, как распростертые вороньи крылья, от которых веет жутью. Из нее не вырваться, и вскоре Захира проваливается в глубокий сон без сновидений.
Она просыпается от деликатного покашливания служанки, стоящей в дверях.
Захира с трудом садится в постели. Ощущение такое, словно ее окунули в патоку.
– О господи, Наргиз! Сколько я спала?
– Несколько часов, бегум сахиба. Сейчас полдень.
– Почему ты меня не разбудила? – Заметив обеспокоенное выражение лица служанки, Захира добавляет: – Что такое? Что случилось?
– Я… я не знаю, бегум сахиба. Не могли бы вы спуститься на первый этаж?
Она спешит вниз по лестнице на веранду. Посреди нее стоит Моталеб в окружении прислуги. Люди переговариваются приглушенными взволнованными голосами. Лица у всех мрачные, некоторые из женщин в ужасе прикрывают рты ладонями.
– Моталеб! Что случилось?
Старик начинает плакать.
– Что встали? Дайте ему стул!
Моталеба усаживают и приносят ему стакан воды. Трясясь как лист, он рассказывает о том, что произошло, и в заключение говорит:
– Они дали нам срок до конца завтрашнего дня. К этому времени мы должны внести выкуп.
– А если мы не заплатим? – спрашивает Захира. Ее словно обухом по голове ударили.
Шофер не отвечает. Кое-кто из прислуги – и мужчин, и женщин – начинает тихо плакать. Захира резко поворачивается к ним:
– А ну, прекратите! Что вы ведете себя как дети малые! Думаете, ваши слезы помогут господину?
Громкий голос в сочетании с резким тоном производит магический эффект – шепот и всхлипывания немедленно прекращаются, словно кто-то щелкнул выключателем. Захира опирается ладонью о стену, чтобы не упасть. Надо держать себя в руках. Уныние и страх заразны, словно чума, и распространяются столь же быстро. Женщина смотрит на Моталеба:
– Кто эти разбойники и сколько они просят?
– Я не знаю, кто они, бегум сахиба, но у них на лбу – знак. Это какая-то банда индуистов. Они требуют сто тысяч.
Взяв кусочек лайма, Моталеб чертит на полу три линии, а потом, макнув палец в молотый перец, ставит посередине точку.
– Вот какой знак был у них на лбах, – говорит он.
Захира смотрит на рисунок. У женщины идет кругом голова. Сто тысяч – астрономическая сумма, даже для столь состоятельной семьи, как у Рахима. Она быстро прикидывает в уме. В сейфе наверху примерно треть того, что требуют бандиты. Остальное каким-то образом ей придется добыть самой.
– Ты обращался в полицию?
– Они сказали, что, если я сунусь в полицию, сахибу несдобровать. Велели сразу бежать к вам.
Она устало смотрит на плачущего старика, не испытывая к нему ни малейшего сочувствия.
– Ты подвел своего господина, Моталеб. Ты подвел меня. Будь ты воистину предан семье, ты бы ни за что не допустил, чтобы сахиб попал в лапы этих разбойников. Ну или же, раз это случилось, ты не должен был его оставлять.
Моталеб не смеет посмотреть ей в глаза.
Она спешно поднимается наверх, запирает дверь спальни, открывает сейф и спешно пересчитывает банкноты, перехваченные толстой красной бечевкой. Сорок три тысячи двести. Чуть больше, чем она рассчитывала.
В дальней стенке первого сейфа вделан еще один. Она открывает и его, после чего принимается шарить в нем рукой. Нащупывает бархатный мешочек, высыпает его содержимое. Звякает металл, поблескивают драгоценные камни. Большая часть украшений принадлежит свекрови, меньшая – ее матери. Захира привезла их, когда вышла замуж за Рахима. Женщина убирает драгоценности обратно в мешочек и туда же сует деньги. Если сложить всё вместе, должно хватить на выкуп.
Выйдя из спальни, она направляется в кабинет Рахима, открывает записную книжку мужа на букве «Д». Берет в руки телефонную трубку. Телефон у них меньше года – один из нескольких во всей Калькутте с выделенной линией.
– Здравствуйте, с кем мне вас соединить? – спрашивает женский голос на английском на том конце.
Захира произносит четырехзначный номер.
– Одну секундочку. Соединяю.
После второго гудка трубку снимают:
– Теодор Дрейк слушает.
Женщина застывает. Она изучала английскую литературу, прочла на английском сотни книг и даже для практики разговаривала на английском с отцом, но при этом никогда в жизни не общалась с носителем языка.
Тщательно составив предложения в уме, Захира начинает, запинаясь, говорить.
– Здравствуйте, мистер Дрейк. Меня зовут Захира Чоудхори. Я жена Рахима Чоудхори.
Дрейк молчит – причем так долго, что она начинает опасаться, что не туда попала. Наконец он говорит:
– Здравствуйте, миссис Чоудхори. Какая приятная неожиданность. Кажется, я не имел раньше удовольствия общаться с вами. Что-то случилось?
– Да, мистер Дрейк, – отвечает она. – Боюсь, моего мужа похитили.
Дрейк оказывается закадычным другом комиссара полиции Хардвика. Через полчаса приезжает машина. В ней инспектор и два констебля. Захира принимает мужчин в гостиной.
Комиссар назначает следователем инспектора Вивека Нанди – высокого и крепко сбитого мужчину с густыми, черными как смоль усами. Увидев, что его форма цвета хаки под мышками потемнела от пота, Захира приказывает слугам включить вентилятор под потолком. Электричество, как и телефон, им в дом провели недавно.
– Вы уже внесли выкуп?
– Нет, но деньги я приготовила.
– Это хорошо. Мы обо всем позаботимся. К чему вам марать руки и якшаться с этими мерзавцами, – Нанди, хлюпая, делает глоток чая, который она приказала подать, после чего кусает самсу, оставляя на усах крошки. – Вы не могли бы рассказать подробнее о символе, который нарисовал на полу ваш шофер?
Она описывает знак, и полицейский тут же кивает.
– Трипундра. Эмблема шиваитов. Три линии символизируют волю, знание и действие. Ну или, если хотите, Брахму, Вишну и Шиву. Красная точка – это третий глаз. Да, шиваиты немного агрессивны, но вести себя так, как описывает ваш шофер… Это очень странно.
– Что будет дальше?
Инспектор кивает на констеблей, которые что-то пишут в блокнотах.
– Мы приняли от вас заявление. Теперь займемся бандами, промышляющими в окрестностях. Их, разумеется, немало – все они последователи тех или иных религиозных наставников или аскетов. Они себя именуют воинами веры, но на деле – чистой воды разбойники, которые еще недавно сидели за решеткой. За несколько тысяч готовы натворить всяких бед. Хорошо, что вы рассказали нам о знаке, – это поможет сузить круг поисков, если конечно, бандиты не нанесли символ специально, чтобы пустить нас по ложному следу. Будем выбивать из них дурь, пока не получим ответы на вопросы. Ну а сейчас мне бы хотелось поговорить с вашим водителем. Наедине.
– Но зачем? Он служит семье тридцать лет.
– Тем более, мадам, – Нанди встает, прикрывает рот и деликатно рыгает. – Любой, даже самый хороший фрукт начинает гнить, если его надолго оставить.
– И сколько вам потребуется времени, инспектор? Почему мы сразу не можем поехать в этот район? Любая секунда промедления может закончиться для моего мужа трагически. Что с ним сделают похитители, если не получат деньги вовремя?
– Мадам, скажите, кто тут полицейский? Вы или я? Позвольте мне заниматься своим делом. Начнем с вашего водителя, послушаем, что он скажет, а потом решим, что будем делать дальше.
– Хорошо. Только прошу вас, поторопитесь. И еще: вы уж помягче с Моталебом. Надеюсь, вы меня понимаете.
– Понимаю, – Нанди приказывает констеблям привести Моталеба. Когда они выходят из комнаты, он обращается к ней вполголоса: – Мадам, вы совершенно напрасно из-за этого дела обратились за помощью к белому. Могли бы позвонить прямо нам, и мы бы сразу приехали.
– Сомневаюсь.
– Напрасно, мадам. Может быть, не так быстро, как сейчас, – у нас ведь как-никак приказ комиссара, но всё равно медлить бы мы не стали. Поймите, ходят слухи о том, что завтра могут вспыхнуть волнения, когда Мусульманская лига выведет людей на улицы. Многие из наших людей прочесывают районы, где завтра может быть жарко, – он подается вперед. – Мадам, мы с вами прекрасно понимаем, что англичане рано или поздно отсюда уйдут. Индуистам и мусульманам давно уже пора научиться сообща решать проблемы, вместо того чтобы жаловаться белым из-за всяких мелочей.
Захира возмущена до глубины души.
– Нанди Баду, я только что узнала, что моего мужа похитили. Что за вздор вы городите о жалобах англичанам? Да и о каких мелочах идет речь? Неужели вы полагаете, что любая другая женщина на моем месте поступила бы как-то иначе? Моя святая обязанность сделать всё от себя зависящее, чтобы спасти мужа. Вы со мной не согласны? Мы что, правда будем тут стоять и притворяться, что в свете грядущего объявления независимости к мусульманам никто не испытывает враждебности? Я позвонила Дрейку, чтобы вы сразу же примчались ко мне. Я бы и снова так сделала.
– Ну, начнем с того, что далеко не всякая женщина смогла бы так просто взять телефон и позвонить в полицию.
– Это еще почему?
– Вы принадлежите к привилегированному сословию. На весь город не больше тысячи выделенных телефонных линий. Одна из них – в вашем доме. Ваш муж из уважаемой семьи. У вас связи, вы богаты, у вас положение в обществе. В данных обстоятельствах ваше вероисповедание мало что значит. Оно вообще по большому счету не имеет значения. Полиция пристрастна? Отдаем ли мы кому-нибудь предпочтение? Несомненно. Но дело тут не в религии. Всё гораздо проще. Если нам звонит богатый, влиятельный человек, нам совершенно всё равно, куда он ходит молиться – в индуистский храм, в церковь или в мечеть.
Захира впивается взглядом в полицейского. Помолчав, она кивает.
– Коль скоро вы уважаете деньги и власть, инспектор Нанди, мне тем более представляется очевидным, что я поступила правильно, позвонив мистеру Дрейку.
– Может, и так, мадам. Но страна не стоит на месте. Англичане нам больше не нужны. Нам, индуистам и мусульманам, надо быстрей учиться жить бок о бок, чтобы строить будущее без иноземцев. Я так понимаю, если страна расколется, вы с мужем собираетесь уехать из Индии?
Вопрос неожиданный, и он на секунду озадачивает Захиру.
– Вам-то какое дело? – парирует она.
– Никакого, миссис Чоудхори. Это и трагично, и комично одновременно.
В гневе она возвращается в спальню. Нанди собирается допросить Моталеба, а затем всю остальную прислугу, после чего поехать в район, где похитили Рахима, оставив констебля охранять ее.
Захира размышляет, не позвонить ли Дрейку снова. На этот раз – чтобы пожаловаться на дерзость Нанди. На его безучастность. Непрошеные комментарии политического характера. Она никогда не испытывала особой веры в полицию и сейчас всё сильнее убеждалась в том, что не без основания. Она взвешивает в руке мешочек с деньгами и драгоценностями. Какие у нее еще варианты? Какая же досада, что она женщина. Им, женщинам, на протяжении всей истории человечества отводится роль статисток.
Она отправляется на балкон – тронную залу всех домохозяек. Следственные мероприятия, которые Нанди проводит в ее доме, не занимают у него много времен. Вскоре она видит с балкона, как он, тяжело ступая, возвращается к полицейскому джипу с одним из констеблей. Почувствовав ее взгляд, он оглядывается и поднимает голову. Накинув на голову шаль, Захира делает шаг назад.
– Помните, о чем вы с вами говорили, мадам, – небрежным тоном многозначительно говорит Нанди. – У нас всё под контролем. Как только нам станет что-нибудь известно, мы вам позвоним. Я знаю, как это непросто, и всё же советую вам отдохнуть. Подобные дела требуют хладнокровия.
Она меряет шагами комнату, когда раздается стук в дверь. Снова Наргиз. Захира берет себя в руки. Нельзя допустить, чтобы слуги видели ее волнение.
– В чем дело?
– Моталеб, бегум сахиба. Он просит дозволения поговорить с вами.
Шофер ждет ее внизу у лестницы, комкая фуражку так, словно это мокрая тряпка, которую он силится насухо выжать. Захира не доходит до конца лестницы нескольких ступенек, чтобы стоять выше старика. Его глаза покраснели, форма на костлявом теле сидит криво. Он и в лучшие времена выглядел старым, сейчас же он кажется древним.
– Я задам тебе один вопрос, Моталеб. Отвечай честно, в память о тех годах, что ты служил семье верой и правдой. Ты имеешь хоть какое-нибудь отношение к случившемуся?
– Я скорее жизнь отдам, чем дозволю кому-нибудь сделать дурно сахибу, – у Моталеба перехватывает дыхание. – Верьте мне, госпожа.
Она молча стоит с минуту, внимательно глядя на шофера. Он съеживается от ее взгляда.
– Жди здесь, – говорит она.
Захира идет в ванную комнату и быстро совершает вуду[16]. Обращаясь в молитве к Аллаху, она рассказывает, что собирается делать. Именно поэтому она умывает лицо, ноги, руки и уши, полощет рот.
Затем она направляется в библиотеку – вытянутую комнату, заставленную шкафами с книгами, на полках которых хранится больше пяти тысяч книг на бенгальском, английском, фарси, хинди, урду и арабском. Эту библиотеку семейство Чоудхори собирало на протяжении нескольких поколений. В обычные дни это самая любимая комната Захиры во всем доме. Сейчас в библиотеке очень тепло. Она нагрета солнцем, проникающим в широкие окна, выходящие на юг. В ней стоит аромат старой бумаги, кожи и красного дерева. Захира встает на стул, чтобы дотянуться до самой верхней полки, на которой стоит одна-единственная книга. Это семейная реликвия – Коран в обложке из красной ткани. Ему больше тысячи лет. На первых страницах – имена и даты рождения всех детей, появлявшихся на свет в роду Чоудхори.
Моталеб дожидается ее там, где она его оставила. Захира протягивает ему книгу.
– Клади руку, – велит она.
Глаза старика вспыхивают. Он понимает, что перед ним за книга.
– Клянись на Коране, что говоришь правду.
Он неуверенно тянется к книге, и отдергивает руку, словно ошпаренный, едва не коснувшись Корана.
– Я нечист. Я еще не совершал магриб[17].
– Тогда молись. Собрался в умывальню для слуг? Времени мало, так что не трать его попусту. Ступай в нашу ванную комнату.
Шофер подчиняется. Она кладет книгу на столик. Моталеба долго нет, и когда он появляется снова, Захира видит, что у него закатаны штаны. Это свидетельствует о том, что шофер со всей тщательностью подошел к омовению. Он подходит к Корану с опаской, словно перед ним дикий опасный зверь.
– Положи на него руку и поклянись, что всё сказанное тобой правда, – говорит Захира, видя, как Моталеб колеблется. – Чего ты медлишь?
– Не думайте, это не оттого, что я вам лгу, бегум сахиба, – говорит он, и в его голосе впервые слышится нетерпение. – Просто эта книга принадлежит семье и…
– Коран всегда остается Кораном – и в богатом особняке, и в хижине нищего.
– Как скажете, – прошептав короткую молитву, он кладет на священную книгу руку, сложив ладонь лодочкой, так что Корана касаются лишь кончики его пальцев и запястье.
– Клянусь Аллахом, что всё сказанное мной – правда. Я жизнь отдам, но не допущу, чтобы Рахим-сахибу причинили вред.
– Хорошо, – кивает Захира. – Я тебе верю.
– Спасибо, бегум сахиба. – На лице старика облегчение, кажется, он вот-вот снова заплачет. – Дозвольте вас спросить, что сказали полицейские? Что они будут делать?
Она присаживается на стул у стены.
– Они взялись за дело, будут искать мерзавцев. При этом инспектор настоятельно порекомендовал не пытаться самостоятельно выходить с разбойниками на связь и обсуждать с ними внесение выкупа.
– И вы последуете его совету?
– Нет у меня веры инспектору Нанди, – честно признается Захира. Она слишком устала, чтобы ходить вокруг да около.
– И у меня тоже, бегум сахиба.
– Что же нам делать?
Шофер оглядывается по сторонам, желая убедиться, что они с хозяйкой одни. Увидев, что рядом никого нет, он произносит тихим голосом:
– Если позволите, я вам вот что предложу. Мы с этими разбойниками встретимся. Нельзя, чтобы жизнь сахиба зависела от этого неумехи-инспектора. Похитители показались мне людьми опасными. Кто знает, что они сотворят, если пронюхают, что мы обращались в полицию?
Захира откидывается на спинку стула. Ей уже приходила в голову мысль плюнуть на полицию и заплатить выкуп. Да, связываться с бандитами – предприятие рискованное, но уж всяко лучше, чем сидеть сложа руки и ждать.
– Но Нанди Баду советовал нам ничего не предпринимать.
Моталеб, забывшись, подается к ней и хриплым решительным голосом говорит:
– А что полиция сделает, бегум сахиба? Думаете, они станут искать сахиба Рахима? У них сейчас лишь об одном голова болит – о завтрашнем Дне прямого действия. Сейчас губительна каждая секунда промедления.
– Но ведь полицейские установили наблюдение за районом, разве нет?
– Может, оно и так, но ведь они сами толком не знают, что искать. Я отдам половину выкупа. Пусть они отдадут мне сахиба Рахима, и тогда я скажу бандитам, где спрятана вторая половина.
Она очень долго размышляет над предложением шофера. Отчаяние не ослепило ее, лишив трезвости ума. Ей надо понять, отчего так горят глаза Моталеба. В чем дело? В желании помочь? Или он руководствуется куда более низменными мотивами?
– Не такой уж плохой план, Моталеб, – наконец говорит она.
Лицо шофера озаряется радостью.
– Так вы согласны?
– Да, но только одно условие. Один ты не пойдешь.
– Мне взять одного из телохранителей, бегум сахиба?
Она медленно качает головой:
– Нет, у меня на примете кое-кто другой.
Шахрияр и Анна
Офис Фейсала Ахмеда располагается на углу Вермонт-авеню и Кей-стрит в здании из серо-коричневого гранита. Таких в центре Вашингтона великое множество. В здании десять этажей. Шахрияр сосчитал их, пока шел пешком от станции метро Макферсон-сквер.
Он поднимается на лифте на седьмой этаж. Чтобы попасть в офис Ахмеда, Шахрияр открывает дверь в коридор. На двери золотистая табличка «ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ». Табличка на двери офиса чуть скромнее и из латуни.
Этим утром Шахрияр проснулся преисполненный надежд на лучшее. Они появились у него после разговора с Ахмедом, состоявшегося на прошлой неделе в бенгальском культурном центре. В ходе беседы Ахмед, работавший юристом, задумчиво произнес, что, вероятно, сможет помочь Шахрияру остаться в Америке. При этом Фейсал был крайне аккуратен в выражениях, но за минувшие дни слова поддержки и утешения расползлись опухолью, дав метастазы необоснованной надежды и оптимизма. Воображение рисовало дизайнерскую мебель из стекла и стали и секретаршу с переговорным устройством. В реальности перед ним предстали шаткие деревянные ширмы, отделявшие столы друг от друга, высокие стопки папок и выцветший синий ковролин. В помещении пахло застоявшимся табачным дымом.
Вдоль стены расположились в ряд стулья, на которых дожидались своей очереди другие клиенты. Коротко кивнув в знак приветствия, Шахрияр присел рядом с дородным мексиканцем в заляпанной краской спецовке, на коленях которого лежала строительная каска. В числе других посетителей была и африканская семья. Шахрияр, глянув на наряд женщины, решил, что они из Сомали. Муж с женой возились с годовалым ребенком. Остальные в очереди, судя по внешнему виду, были родом из Южной Азии, как и сам Шахрияр.
Он берет в руки журнал и принимается читать. Проходит минут десять. Открывается дверь. Из-за нее появляется девушка, которая подходит к нему. Она высокая, русоволосая и неулыбчивая.
– Это вы мистер Чоудхори?
– Да, – он встает.
– Прошу вас следовать за мной, – девушка говорит со славянским акцентом, растягивая слова, – мистер Фейсал вас уже ждет.
– Секундочку, – подает голос сомалиец. – Вы, конечно, извините, но мы пришли раньше.
– Он прав, – кивает Шахрияр. – Ничего страшного. Я могу подождать.
– Нет, пойдемте со мной, – девушка поворачивается к раздраженному сомалийцу. – Прошу извинить, мистер Магид, но тут дело срочное, и оно не займет много времени. Вы будете следующим.
Вскочивший со стула сомалиец снова садится с недовольным видом. Девушка проходит с Шахрияром через офис и, встав у двери, стучится.
– Заходите!
Фейсал Ахмед сидит за столом. Позади него окно, выходящее на Вермонт-авеню. Ахмед встает и здоровается с Шахрияром на английском языке.
– Я как раз читал ваше резюме, – он машет листками бумаги, после чего пожимает протянутую руку Шахрияра. – Надеюсь, вы не возражаете, если к нам присоединится Катерина? Она моя ассистентка по юридическим вопросам.
– Нисколько, – Шахрияр садится. Рядом с ним на стул опускается Катерина. У нее уже наготове блокнот и ручка. У девушки точеный профиль и яркие голубые глаза.
– Я бы хотел вас попросить повторить кое-что из того, что вы мне рассказали в культурном центре. Катерина не слышала нашего разговора, а ей нужны все эти детали. Напомните, какой у вас в настоящий момент статус?
– Шесть лет назад я приехал сюда учиться в аспирантуре Университета Джорджа Вашингтона. В прошлом году я защитился и теперь работаю по визе дополнительного практического обучения[18]. Она истекает через три месяца. Если мой нынешний работодатель не подаст ходатайство о выдаче мне грин-карты, а он этого делать не хочет, мне придется уехать. Пока у меня только один выход – найти новую работу.
– Всё верно, – кивнул Ахмед, грызя дешевую ручку. – А где вы сейчас работаете?
– В Институте политического диалога. Это федеральное учре…
– Да-да, я знаю. Если не ошибаюсь, директор там Альберт Фолькер?
– М-м-м-м… да, – Шахрияр удивлен и при этом впечатлен осведомленностью Фейсала. Он видит, как Ахмед и Екатерина быстро, едва заметно переглядываются. – Откуда вам известно?
Ахмед хохочет, демонстрируя мелкие ровные зубы. Его смех обезоруживает.
– Я же все-таки работаю в Вашингтоне юристом, Шар. Я обязан знать, кто здесь кто. Кстати, я хотел спросить по поводу вашего имени. Я так понимаю, это краткая форма? Но от чего? Дайте я сам догадаюсь. Вас зовут Шариф?
Тут уж черед Шахрияра смеяться.
– Шариф? Нет, это слишком просто. Меня зовут Шахрияр.
Ахмед сочувственно морщится, всем своим видом говоря: «Да, чтобы жить в этой стране, каждому из нас приходится идти на жертвы и компромиссы».
– Слышали бы вы, как только меня ни называли, когда я приехал сюда четверть века назад. Дошло до того, что когда я представлялся, то просил называть себя Фазом.
– Мистер Чоудхори, – вмешивается Катерина. – Мистер Ахмед сказал, что у вас тут есть дочь. Какое у нее гражданство?
– Американское. Как и у ее матери.
– Но вы при этом не женаты.
– Совершенно верно.
– Вы когда-нибудь состояли с матерью вашей дочери в официальном браке?
– Нет.
– Я спрашиваю потому, что сперва нам следует рассмотреть очевидные варианты, – поясняет Катерина, переводя взгляд на Фейсала.
– И это совершенно правильный подход, – одобрительно кивает Ахмед. – Шар, прости, мне надо задать тебе личный вопрос. Есть ли у тебя какая-нибудь возможность воссоединиться с матерью твоей дочери? Например, жениться. В этом случае ты чертовски упростишь нам работу.
– У нее есть парень, – качает головой Шахрияр. – Они уже несколько лет живут вместе.
– Досадно, – Ахмед надувает щеки и, постукивая ручкой по столу, медленно выпускает из них воздух. – Должен тебе сказать, Шар, что вариантов у тебя негусто. Впрочем, ты и сам, наверное, это знаешь.
– Ясно.
По всей видимости, разочарование Шахрияра столь очевидно, что юрист тут же спешит его подбодрить.
– Ну-ну-ну… Не опускай руки. Дело вовсе не безнадежное. Раз один способ нам не подходит, надо подумать над другими, – он утыкается в резюме Шахрияра. – Что у тебя с компьютерными навыками? Программировать умеешь?
– Я обычный пользователь. «Ворд», «Эксель». Ну и всё в таком духе.
– Технические специальности?
– Нет. Если вы посмотрите мое резюме…
– Ага, вижу, ученая степень. В какой области?
– Социальная антропология. Моя диссертация была о рыбаках, проживающих на побережье Бангладеш. О социальной экономике.
Ахмед поднимает взгляд на Шахрияра и с любопытством смотрит на него.
– Занятный выбор. Почему ты взял именно эту тему?
– Я просто сам родом с побережья, – отвечает Шахрияр, не вдаваясь в подробности.
– Ладно, хорошо. Пожалуй, в вашем деле нам придется проявить большую изобретательность. Значит, так, Шар, давай на сегодня пока закончим. Начиная с этого момента держи со мной связь через Катерину. Она тебе расскажет, что делать дальше.
– Спасибо. Мы не обсудили ваш гонорар.
Ахмед обрывает его, поднимая руку:
– Давай не будем сейчас об этом думать. У меня гибкие расценки. Ничего такого, чего бы ты не смог себе позволить.
Катерина провожает его до дверей. Они проходят мимо дожидающихся своей очереди клиентов, число которых увеличилось на несколько человек.
– Как думаете, он мне сможет помочь? – Шахрияр поворачивается на пороге к девушке.
У нее крепкое рукопожатие:
– Если вам кто и сможет помочь, так это мистер Фейсал.
Клэр
Доктор Клэр Дрейк просыпается в удушающей жаре. Спина вся одеревенела от того, что она лежала на жесткой койке в комнате отдыха. Подсвеченные радием стрелки наручных часов «Омега Симастер» – это подарок Тедди на первую годовщину их свадьбы – показывают без четверти пять пополудни. Получается, проспала она совсем немного, притом что до этого провела на ногах двадцать часов.
Несмотря на пульсирующую боль в голове, Клэр с трудом встает. Из восемнадцати офицеров медицинской службы, работающих в центральной больнице Рангуна, она единственная женщина. Значит, она не только должна не уступать в трудолюбии и профессионализме коллегам-мужчинам, она обязана значительно их превосходить. Только тогда в их глазах она будет «не хуже остальных ребят». Она женщина и при этом работает доктором. Получается, ей надо бежать, чтобы оставаться на месте.
Пошатываясь, она выходит в фойе. Недостатка в раненых солдатах нет. Из Сингапура, который несколько недель назад заняли японцы, как раз доставили новую партию.
С трудом переставляя ноги, она, словно в тумане, приступает к обходу и трудится, покуда медсестра по фамилии Першинг родом из Шотландии, успевшая послужить на фронтах по всей империи от Сингапура до Танжера, буквально силком не выталкивает ее вон.
– Господи, доктор! Ступайте домой, пока вы не прикончили какого-нибудь бедолагу из Шеффилда, которому не повезло угодить под артобстрел японцев.
Она решает прислушаться к ее совету. Оказавшись на улице, Клэр отказывается от машины, которая ей полагается как офицеру, и решает, что ей лучше пройтись. Белый халат расстегнут и развевается за ней. Клэр выходит на главный проспект. Ни людей, ни машин, разве что время от времени проезжают армейские грузовики. Рангун за последние несколько недель постепенно опустел – по мере того как угроза японского вторжения становилась всё ощутимей. Тедди говорит, что до него вообще, возможно, осталось несколько дней.
Клэр не привыкла возвращаться домой пешком. Она ориентируется по золоченому пику пагоды Шведагон и парным шпилям собора Святой Марии. Наконец вдалеке показывается массивное мрачноватое здание клуба Пегу из тикового дерева.
Она идет по Бадс-роуд, обрамленной лавками, в которых выставлены на всеобщее обозрение чаны с лапшой и снедью в соусе карри, стоящие в метре от сточных канав. При виде еды у нее в пустом желудке начинает урчать. Клэр ловит себя на том, что направляется к киоску, в котором торгуют полупрозрачными макаронами, приправленными какими-то листьями, не поддающимися опознанию. Торговка при виде Клэр подпрыгивает. Продавщица, с одной стороны, встревожена, что ее товаром заинтересовалась столь важная птица, а с другой – очень этому рада. Бирманцы, которые ужинают, сидя на низеньких деревянных табуретах, встречают ее настороженными взглядами. Кто-то как можно быстрей убирается с ее дороги, но при этом никто не встает и не уходит.
Продавщица принимается одну за другой поднимать крышки котелков, с ловкостью фокусника демонстрируя тушеные овощи, салат из чайных листьев, баранину, курицу и нечто загадочное, очень напоминающее Клэр лягушатину в соусе карри.
– Спасибо, ничего не нужно, – говорит Клэр, отступая в последний момент. Когда они приехали сюда с Тедди, то поначалу смело лакомились изысками местной кухни. На второй неделе пребывания она отравилась, купив еду с одного из уличных лотков. С тех пор они с мужем неизменно ели либо дома, либо в клубе Пегу. Несмотря на случившееся, у Клэр сохранилась слабость к бирманской кухне. Особенно ей нравился рыбный суп мохинга с рисовой лапшой, обжаренным нутом и острым перцем. Ее служанка Мьинт подает ей этот суп на завтрак каждый день.
Сегодня она встречает Клэр у ворот ее дома. Мьинт еще нет и двадцати. Стройная, с небольшими грудями, она элегантно смотрится в зеленой блузке и облегающем зеленом лунги. Всякий раз, когда она расплывается в улыбке, ее широкое лицо с гладкой кожей лучится теплом, словно солнышко.
Сегодня, однако, на ее лице суровое выражение. Она спешно ведет Клер в дом.
– Что же вы творите, госпожа? Ходить пешком опасно. Повсюду грабители. Мародеры. Что случилось с машиной?
Клэр удивлена такой реакцией на ее появление. Она заключает девушку в объятия.
– Ты уж прости меня, Мьинт, я вся насквозь потная, но в остальном я тоже рада тебя видеть. У меня такой денек сегодня выдался, что я просто не могла сесть в эту проклятую машину. Мне надо было пройтись и проветриться – чтоб в голове навести порядок.
– Хотите, чтоб в голове был порядок? Тогда сидите дома и занимайтесь уборкой. А я пойду работать в больницу врачом, как вы.
Клэр откидывает голову и хохочет, чувствуя, как вместе со смехом немного уходит и усталость.
– Я согласна! Когда ты готова приступить?
Несмотря на то что слова Мьинт ее позабавили, Клэр понимает, что совет бирманки не лишен резона. Недавно врач поняла, что Мьинт, трудясь служанкой, зарывает свой талант в землю, и преисполнилась решимости поговорить в больнице о том, чтобы Мьинт зачислили в штат младшей медсестрой.
Отец Мьинт служил у них садовником. Он умер два года назад от сердечного приступа. В свой последний день он оказался на попечении Клэр в центральной больнице. На смертном одре он заставил ее дать обещание устроить на работу его юную дочь, проживавшую в Калемьо, которая после его кончины останется круглой сиротой, поскольку ее мать отошла в мир иной во время родов. Клэр сдержала слово и, заручившись согласием Тедди, предложила Мьинт стать у них служанкой. У девушки обнаружилась склонность к языкам и уже через год она бегло разговаривала на английском. Помимо того что ей неизменно удавалось содержать их большой дом в идеальной чистоте, девушка еще и научилась прекрасно готовить – блюда как европейской, так и бирманской кухни.
– Тебе удалось достать свиную корейку на кости? – спрашивает Клэр.
– Удалось. Но с большим трудом.
Клер очень благодарна Мьинт за хлопоты, которых наверняка было немало. В Рангуне дефицит буквально всего. Оно и понятно, японские войска всё ближе к городу, и мясо на местных рынках – большая редкость.
Мьинт предлагает приготовить ужин, но Клэр вежливо, но непреклонно заявляет, что они будут кашеварить вместе. Сегодня пятая годовщина свадьбы Клэр и Тедди. Мьинт с хозяйкой солят мясо, приправляют черным перцем, молотым розмарином и последними, воистину драгоценными каплями оливкового масла. На гарнир они решают сделать пюре, и картофель отправляется в кастрюльку с кипящей подсоленной водой.
В какой-то момент свет на кухне гаснет. Уже сгущаются сумерки, опускается тьма. Хозяйка и служанка зажигают свечи и расставляют их по столешницам и на подоконнике на фоне закатного неба.
Из окна кухни сочится запах жарящегося мяса, сплетающийся с ароматами жасмина, цереуса и жимолости. Вокруг – какофония звуков. Кричат сороки – возвращаясь с дневного промысла, они садятся на ветви огромного дождевого дерева, растущего напротив окна. Пока женщины готовят, особо наглая сорока опускается на ветку, от которой буквально рукой подать до окна. Птица сверлит Клэр янтарными глазами. Врач отшатывается и шарит взглядом в поисках какого-нибудь не особо нужного предмета, которым можно запустить в птицу. Ее выбор останавливается на картофелине. Клэр уже собирается запустить ею в птицу, как на ее запястье мягко смыкаются пальцы.
– Не надо, госпожа. Эта птица может быть духом.
– Ладно, – Клэр откладывает картофелину. – Просто сил уже нет с этими сороками. Такие надоеды!
– Взгляните, ее уже нет, – Мьинт показывает на опустевшую ветку.
Клэр невольно охватывает дрожь. Через несколько минут женщина успокаивается. Птица улетела, ужин почти готов, и потому с чувством выполненного долга Клэр отправляется в ванную комнату.
Их дом, возведенный в конце XIX века, изначально предназначался для британского майора. Ванна – куда новее. Она с мраморными полами и разнообразными новшествами и появилась тут недавно, перед их приездом – по настоянию Тедди. Клэр дергает за ручку и распахивает створки большого окна, за которым виднеется закат. Вдалеке видны вспышки. Рокочет гром. Надвигается непогода, которая принесет облегчение, сменив изнуряющую жару и духоту. Ну а пока дождь еще не начался, можно охладиться и в прохладной воде, которой наполнена ванна на ножках.
Она опускается в ванну и остается в ней, покуда вода не остывает. Клэр выходит из ванной комнаты в халате, обернув волосы полотенцем. В доме пахнет жареной свининой и розмарином. Женщина кидает взгляд на настенные часы. Половина восьмого. Скоро вернется Тедди.
Мьинт на кухне уже сняла свинину с огня и готова разложить ее по тарелкам. Клэр топит масло для картофельного пюре, одновременно объясняя Мьинт, как приготовить стручковую фасоль. В этот момент раздается резкий стук в дверь.
Клэр открывает. На пороге двое солдат, которые ей козыряют. Это бойцы из роты Тедди. Клэр запахивает поплотнее халат, надеясь, что солдаты не заметят, как она покраснела.
– Что случилось? Где полковник Дрейк?
– Мы прибыли по его приказу, мадам, – говорит один из солдат, тот, что повыше. Он хорош собой – темноволосый, с голубыми глазами. Если верить бирке, нашитой на форме, его фамилия Во.
– Отдали приказ об эвакуации, – поясняет второй солдат, пониже. Он блондин, а его фамилия – Гири. – Полковник Дрейк в безопасности. Он прислал нас забрать вас и доставить к нему на вокзал.
– А как же больница? Моя смена на сегодня закончилась, но если что-то случилось, мне нужно туда.
– Персонал и пациентов больницы эвакуируют на корабле. Вас и остальных офицеров повезут на поезде, – говорит Во.
– Но я же врач. У меня профессиональный долг…
– Прошу меня простить, мадам, я просто выполняю приказ.
Женщина прикусывает нижнюю губу, не в силах сдержать переполняющие ее чувства. Сколько лет уже они слышат о японцах, об их успехах, постоянных посягательствах на земли Британской империи… Все эти рассказы легче всего было воспринимать как досужие сплетни. Теперь время иллюзий закончилось.
– Советую вам поторапливаться, мадам, – стоящий в открытых дверях Во показывает на восточные холмы. Клэр смотрит в том направлении.
То, что она увидела из окна ванной комнаты и приняла за надвигающийся на город ураган, оказалось вовсе не им. Клубящиеся тучи несли с собой самые жуткие из кошмаров, а снующие среди них истребители напоминали стальных стервятников.
– Я так понимаю, времени на свиные отбивные у нас нет? – вздыхает она.
Клэр и Мьинт уже много недель назад приготовили все самые необходимые вещи. Теперь женщины кидаются их укладывать. Сперва Клэр помогает служанке уложить ее нехитрый скарб в кожаную сумку, после чего набивает в чемодан свою одежду. На плечо она накидывает рюкзачок с самым ценным, что у нее есть, – фотографиями, драгоценностями и первым изданием Грэма Грина с автографом автора. Во и Гири всячески помогают, обещая, что ВВС Великобритании приложат максимум усилий для того, чтобы потом доставить все остальные ее вещи.
Они выбегают на улицу. Солдаты прибыли не больше чем десять минут назад, но за это время вспышки и рокот стали ближе. Воздух разрывает вой сирен, а разрывы, встающие на фоне неба, напоминают цветы горчицы.
Они набиваются в бронеавтомобиль «ланчестер», припаркованный на дорожке. Мужчины садятся спереди. Гири берется за руль. С ревом автомобиль вылетает из ворот и устремляется по Хэлпин-роуд. На углу Годвин-стрит он резко сворачивает направо. Визжат шины, из-под колес валит дым. Они проезжают плац, откуда в ужасе бегут люди, тыча пальцами в небо. Беременная женщина поскальзывается, падает и тут же исчезает под ногами толпы. Клэр отводит взгляд.
Гири крепко держится за руль. Он словно не замечает творящийся вокруг него хаос. Бронеавтомобиль стонет и скрипит, виляя – солдат старается не задеть пешеходов, попадающихся у них на пути. Один из прохожих замешкался, и автомобиль на всей скорости врезается в него. Раздается хруст, от которого Клэр становится дурно. Тело, кувыркаясь, взмывает в воздух. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем сбитый человек падает на землю, где и остается неподвижно лежать.











