Читать онлайн Турецкие письма
- Автор: Келемен Микеш
- Жанр: Зарубежная классика, Литература 18 века
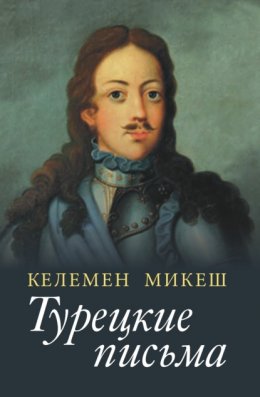
© Гусев Ю.П., перевод, 2017
© Тюшкеш Г., статья, 2017
© Хаванова О.В., статья, 2017
© Российская академия наук и издательство «Наука», cерия «Литературные памятники» (разработка, оформление), 1948 (год основания), 2017
© Редакционно-издательское оформление. ФГУП Издательство «Наука», 2017
От редколлегии
Келемен Микеш (1690–1762) – сподвижник, преданный последователь и слуга великого деятеля венгерской истории, борца за независимость венгерского народа князя Ференца II Ракоци (1676–1735), который стал одной из ключевых фигур венгерского национального сознания. Ракоци взял юного Микеша на службу, пажом, в 1707 г., и с того момента Микеш был с князем и в его триумфах, и в поражениях, следовал за ним в изгнание: в Польшу, затем во Францию, затем, уже навсегда, в Турцию, – из пажа вырос в секретаря, в помощника, исполнявшего самые ответственные поручения. Умный и восприимчивый, Микеш впитывал все лучшее, что видел вокруг и что заслуживало его внимания. Особенно много такого было, конечно, во Франции, в начале XVIII в. уже ставшей средоточием мировой культуры. Едва ли можно сомневаться, что именно время, проведенное им в свите Ракоци, во Франции, и повернуло его духовное развитие в сторону изящной словесности.
Микеш с полным правом может считаться основоположником венгерской художественной прозы. Великие поэты в Венгрии появлялись и до него, уже в XVI в. – прежде всего, конечно, Балинт Балашши, – прозаиком же Микеш был первым. Прозаиком – не потому, что вел хронику событий, непосредственным или далеким свидетелем которых был, и не потому, что записывал свои наблюдения, свои размышления, но главным образом потому, что внес в свои записи, оформленные в виде писем, элемент художественного вымысла. Этот вымысел и превращает его писания, которые могли бы считаться и дневником, и путевыми очерками, в своеобразный любовный роман.
Письма Микеша были адресованы фиктивному адресату («кузине») – дальней родственнице, якобы также живущей в турецкой эмиграции, но в отдалении, на другом, азиатском, берегу Босфора, женщине, к которой он испытывает не только родственные чувства. Созданные в период с 1717 по 1758 г., «Турецкие письма» несут на себе отпечаток влияния французской эпистолярной литературы XVII–XVIII вв., но в то же время являются самостоятельным произведением. Самобытность их связана прежде всего с тем, что Микеш жил – в составе группы приверженцев князя Ференца II Ракоци – в изгнании. Это определяет общую тональность писем и объясняет склонность автора отражать исторические перипетии той эпохи, а также включать в письма этнографические, культурологические сведения о той экзотической среде, в которой он провел более четырех десятилетий.
Живые, непосредственные интонации, окрашивающие письма, свидетельствуют об интенсивной духовной жизни, которой, за отсутствием реальной общественной, жил автор. И здесь тоже нельзя забывать о том, что он успел приобщиться к французской культуре, наложившейся у него на традиции венгерской духовности и, в условиях турецкой реальности, позволяющей свежо и ярко воспринимать необычное, экзотическое окружение. В этом – и не только в этом, но и в умении подавить отчаяние, часто становившееся почти невыносимым, и делать свое дело – ему помогает и юмор, которым славятся венгры, живущие в Трансильвании, помогают ирония и самоирония. Все это позволяет понять, почему оставленное им произведение до сих пор увлекает читателей – и в Венгрии, и в других странах, на языки которых оно переводится.
Турецкие письма
Письма К. М. Графине Э. П. в Константинополе
1
Из Галлиполи*, anno 1717. 10 octobris*.
Любезная кузина! Хвала Всевышнему, долгое наше плавание, в кое из Франции пустились мы сентября 15-го дня, завершилось благополучно. Князь наш, слава Богу, жив-здоров, и был бы здоров вполне, не мучай его подагра. Но мы уповаем на турецкий аэр*, который непременно должен его исцелить. Ах, милая моя кузина, до чего же приятно ступать по твердой земле! Вон даже Святой Петр, и тот испугался, когда ноги его вдруг погрузились в воду*. Как же было не бояться нам, грешным, когда корабль наш валился с боку на бок среди волн, огромных, будто горы Эрдея*. То взмывали мы на самый гребень, то низвергались в такую бездну, что только и оставалось ждать, как горы воды с яростью рухнут на бедные головы наши. Но хлябь морская оказалась все же в должной мере человеколюбива: не захотела она поить нас водой сверх того, что требовалось. Одним словом, любезная кузина, мы здесь, на месте, живы и здоровы. Слаб человек, бывает, и на море хвораешь, не только на суше, когда иной раз так растрясет тебя в экипаже*, что ты жив едва, зато аппетит просто зверский. На корабле же качка, тряска нескончаемая мутит голову, выворачивает желудок, и делается с тобой то же самое, что с пьяницами, кои не могут удержать в себе выпитое вино. Вот и бедный желудок мой первые дня два страждал подобным же образом, зато потом накинулся я на еду, как изголодавшийся волк. Князь наш с корабля не успел сойти, как татарский хан*, который жил тут в изгнании, прислал ему всяческие подарки и среди них прекрасную лошадь под седлом. Князю дали хорошее жилье, мы же, остальные, живем, как собаки. Да только по мне все равно здесь куда лучше, чем на корабле. Милая моя кузиночка, драгоценные письма ваши [в последний раз] уж года два, как были получены мною*; клянусь, хотелось бы мне, чтобы год состоял всего из одного месяца. Надеюсь, радость моя, что теперь, когда аэр, которым мы дышим, у нас с вами один, я буду получать их чаще. И коли теперь разделяют нас с вами всего несколько сотен миль, то кажется мне, что и любить меня вы должны сильнее. Я же, хоть очень люблю вас, писать больше не могу, потому что кажется мне, будто дом вокруг меня кружится и будто я все еще на корабле.
2
Галлиполи, 21 octobris 1717.
Драгоценная кузина моя, а ведь я еще не получил от вас ни единого письмеца, и очень мне это не по душе. Правда, по душе мне вот что: видя, что на нее не обращают внимания, подагра покинула нашего князя, и тот нынче отправился с визитом к татарскому хану, хоть и на лошади этого самого хана. Тот принял его очень радушно. Я даже подумал было, не иначе как собираются взять нас в полон, и уже озирался, кто кинется нас вязать. Но люди эти очень приветливы; они рады были бы поговорить с нами о том о сем, да что делать: за столь короткое время не могли мы стать татарами. Князь попрощался с ханом, мы, остальные, тоже поблагодарили – кивком головы* – их татарские высокородия за гостеприимство и отправились к себе. А красавец-конь был оставлен господину нашему. Думаю, завтра покинем мы это наше унылое и нищее пристанище, потому что прибыла к нам красная карета султана, которую он послал за господином нашим. Красной величаю ее потому, что снаружи покрыта она красным сукном, название же кареты она не заслуживает, потому как всего-навсего повозка*. А повозку тянут, или, лучше сказать, волокут четыре белые клячи. Принуждать их хотя бы к рыси едва ли кто взялся бы, потому как они зело стары и давным-давно забыли, что это за штука такая, рысь; всем вместе им никак не меньше восьмидесяти. Не удержусь, чтобы не сказать и о кучере.
Если бы вы, кузина, его увидели, вы бы подумали, что лошадьми правит не иначе какой-нибудь бургомистр. О, как бережно колышет наша квадрига его почтенную белую бороду! В одной руке он по привычке держит вожжи – по привычке, говорю я, потому как лошади знают свое дело и без вожжей, – в другой руке трубку, то и дело окуривая из нее своих кляч, – для того, наверно, чтобы у них не случился насморк… Все это хорошо, милая кузина, одно плохо: после того как под Белградом разбили турок*, народ бежит в Азию. Немец, говорят, уже возле Дринаполя*, а Дринаполь отсюда в полутора сотнях миль*. Что тут скажешь: мы ведь плыли сюда, чтобы сражаться вместе с турками, а они, турки, разбегаются кто куда. Ах, милая кузина, как воевать с таким народом? Одним словом, завтра отправляемся мы в Дринаполь, чтобы лицезреть могучего султана со множеством жен* и Блистательную Порту*. Но, любезная моя кузина, надо вам уже прогнать прочь вашу лень, отложить спицы и взять в пальчики перо, да почаще писать мне, хотя бы по семь писем каждую неделю. И о здоровье следует печься с великим тщанием, а меня любить тем паче, ибо кто же будет любить вас, драгоценная моя кузиночка, сильнее, чем я*.
3
Дринаполь, 29 octobris 1717.
Пора уже вам, милая кузина, получить письмо, которое отправлено было отсюда, из Дринаполя. Заслуживаете вы, чтобы я рассказал, как добрались мы сюда, в имперский сей град. Из Галлиполи мы выехали 22-го. В пути не случилось ничего достойного описания: ехали как могли, кто на добром коне, кто на кляче. В городе под названием Узункюпри, во дворе дома, где господин наш остановился на постой, увидели мы виноградный куст, огромный, как целое сливовое дерево. Не подумайте, что я вру, но на ветках его с одной стороны и ягоды были большие, будто сливы. Самое же удивительное: если с одной стороны куста виноград был зрелый, то с другой – мелкий, зеленый, а с третьей только цвести начинал. Так что на одном кусте можно было видеть сразу три времени года. 28-го же, в полутора милях от Дринаполя, встретил нас капитан стражи местного каймакама*, с двумя сотнями янычар*, чтобы приветствовать князя нашего от имени султана и великого визиря, своего господина. А лучше всего было вот что: в полумиле от города разбиты были шатры, где каймакам, от имени господина своего, устроил нам угощение. Кто бы подумал, милая моя кузина, что яства у турок такие отменные! Дело в том, что все мы сильно проголодались. Но еще и в том дело, милая кузина, что из-за стола я встал не насытившись, хотя потчевали нас по крайней мере восьмьюдесятью разными блюдами. Поверить этому никак невозможно, коли не знать обычая. А обычай тут – не приведи Господь, кузиночка! Только ты протянул руку к блюду, его уже уносят, так же второе, третье; одним словом, семьдесят или восемьдесят блюд промелькнули перед носом; иное ты и попробовать не успел – его уже нет. Видно, накормить нас хотели одним запахом, и остались мы после богатого обеда голодными. Вроде Тантала*, что стоит по горло в воде, а пить не может ни капли. Злой и голодный, дал я тогда себе страшную клятву: не наевшись предварительно досыта, никогда не пойду к туркам в гости. О напитках же и речи не было. Правда, съели мы столько, что и жажды не почувствовали. После такого обеда в седла мы вскочили легко. Князь наш, сидя на коне султана, с большой помпой прошествовал через город на свою квартиру. Вечером же каймакам прислал нам ужин, который был куда лучше обеда, потому что прислуживали на сей раз не турки, а наши люди, и блюда они уносили, только когда мы их просили об этом. Каймакам этот у султана на очень хорошем счету. Еще бы не быть ему на хорошем счету, если он спит с дочкой султана. Сейчас, когда великий визирь в походе, каймакам ведет дома все дела. Зовут его Ибрагим*, и к нашему князю он относится очень доброжелательно. Он был одним из тех, кто предложил султану послать во Францию за нашим князем. Я еще не видел их каймакамство в лицо, но если даже никогда не увижу в жизни, то вас, милая моя кузиночка, я страсть как люблю. А вы меня?
4
Дринаполь, 7 novembris 1717.
Ах как хочется мне, дорогая кузина, чтобы эту вашу неистребимую лень прогнали вы прочь и писали мне чаще. Милое письмо ваше я получил как раз в ту минуту, когда садился в седло. Сказать вам, куда мы направились? Направились мы к нему, к тому светлейшему и благороднейшему каймакаму, который спит с султановой дочкой, когда может. Его счастью я не то чтобы сильно завидовал, потому как ходят разговоры, что жена его красотой не блещет. Сам я ее, конечно, не видел, в этом вы можете мне поверить. Можете мне поверить и в том, что не очень-то и хочу увидеть в таком виде, в каком видят ее евнухи-кастраты. Милая кузина, знайте: взять в жены дочь султана – честь большая, но радость совсем не такая уж огромная. Как, должно быть, горько было каймакаму расставаться со своей дивной красавицей женой, когда ему отдали дочку султана! Сердечная любовь – больше, чем любое богатство; доброе супружество не обязательно живет в богатых домах. Знаю, милая моя кузина, вы надо мною смеетесь: дескать, кто бы рассуждал о супружестве! Так рассуждает о солнечном свете слепец, который знает, что есть свет, но не знает, каков он. Но – и пусть на прелестных губках ваших играет насмешливая улыбка, я с уверенностию считаю, и все во мне: печень, легкие, почки – с уверенностию считают, что негоже милую, хоть и бедную женушку бросать ради немилой, но богатой супруги. Разве же я не прав? И я даже не о женитьбе говорю: от нее отделяют меня двести миль. А потому остается мне написать вам, драгоценная моя кузина, что каймакам принимал нас с большим радушием и большим почетом. Почти два часа он беседовал с господином нашим, потом подарил ему прекрасного коня, а когда собрался прощаться с ним, жена его послала князю несколько красивых платков. Очень бывает полезна дружба таких людей: будь я так близко к Загону*, как наш каймакам к визирству, то я был бы уже на околице Загона. Мы совсем не знаем еще, зачем приехали сюда, но боюсь, как бы планы наши не вылетели в трубу, потому как турки с радостью готовы мириться с тем, что их бьют. Но дальше нам отсюда, милая кузина, идти некуда, остается уповать на волю Божию: он привел нас сюда, пускай же ведет и дальше.
Но поверите ли, как трудно мне привыкать к этой стране. Правда, турки нас любят, мы ни в чем не испытываем нужды, никому из нас от них никакой обиды. Но – тяжело тут чужестранцу, потому как ни знакомств, ни друзей он завести не может. Нация эта ненависти к христианину не питает, но смотрит на него сверху вниз. Тут не приходится ждать, чтобы кто-нибудь позвал тебя к себе в гости, домой; да и сам я не то чтобы этого так уж сильно хотел. Да и зачем? Ну, угостят тебя трубкой с табаком, чашечкой кофе, потом два-три слова – и долгое молчание. А принесли лампаду, стало быть, пора убираться восвояси. Правда, можно, пожалуй, спросить у хозяина, как, дескать, ваши детки, но не дай Бог спросить, как поживает жена: этого я никому не советую, потому как выпроводят тебя палками. О хозяйке и вспоминать не положено, будто женщин на свете вообще нет*. За какие же такие коврижки будет человек желать дружбы с турком? Разве что ради выгоды. Правда, незнание языка тоже может стать причиной неприязни: не станешь же ты открывать душу тому, с кем не можешь поговорить, поделиться мыслями. Я по сей день, любезная моя кузина, очень-очень мало знаю по-турецки. Бог весть, как оно будет дальше, но кажется мне, что и дальше вряд ли буду я знать больше тех двух или трех слов, которые знаю сейчас. Коли не о чем нам говорить с турками, а тем паче с турчанками, то не вижу я резона, чтобы становиться в этом языке больше ученым, чем в сей момент. Посудите сами, милая кузина, много ли нужно ума, чтобы выучить и запомнить три слова? Мы здесь все еще пришельцы и чужаки; когда я лучше узнаю здешнюю жизнь и город, то и напишу больше. А вас, дорогая кузиночка, попрошу: любите этого чужака. Лень надо отбросить, а бумагу не надо жалеть.
5
Дринаполь, 29 novembris 1717.
Милая моя, драгоценная кузина, как же вам везет, что вы сейчас не рядом со мной: будь вы рядом, ах как крепко я бы вас обнял, так крепко, так крепко! и сказал бы вам спасибо за то, что вы благосклонно относитесь к моим письмам и с радостью их читаете. Я буду вам писать столько писем, и они будут такие длинные, что вы умоляюще сложите ручки и будете меня упрашивать, чтобы я не писал столько. Потому как для меня, ей-богу, нет большего счастия, чем писать вам. Ах, нет, вру: читать письма ваши, милая моя кузина, счастие еще большее. Никто другой не смог бы писать такие дивные письма, какие пишете вы. Почему-то кажется мне, что другим это и не дано. Одним словом, драгоценная моя, давайте-ка не щадить друг друга, а писать и писать непрестанно. Уж коли так разбросало нас с вами, то давайте, насколько это в силах наших, отомстим ему и, если по-иному нельзя, то хотя бы посредством писем будем друг с другом беседовать. Глядишь, в конце концов это надоест времени и оно опять нас с вами соединит. Но поскольку вряд ли это произойдет так быстро, как я бы желал, то давайте пока писать и опять писать.
А сейчас напишу то, что достойно внимания вашего: сегодня великий визирь вернулся из похода и торжественно вступил в город. Каймакам и другие сановники, кои тут оказались, каждый со своей свитой, вышли ему навстречу. Могу сказать, милая кузина, что визирь здесь – настоящий бог земной: в других странах короля не встречают с такой помпой и с такими церемониями, как тут встречали визиря. Но ах! вся эта роскошь, все это сияние – не подобны ли они королевскому великолепию в какой-нибудь комедии?* Комедия, ведь она длится два-три часа, на этом и кончается королевство. Вот и визирь: въехал в город с великой помпой, а завтра, может, посадят его на крестьянскую телегу и шестеро слуг вывезут его прочь из города. И случиться это может очень легко. Пожалуй, он и сам это знает, потому как каймакам – султанов зять, и жена его, без сомнения, больше хотела бы быть женой визиря, чем женой каймакама. Я в этом уверен столь же твердо, как если бы она сама мне это сказала. Пока же этот печальный день не наступил, с чистой совестью могу написать вам, что визирь, хоть видел я его лишь издалека, мужчина видный, крепкий, ладный, и тому не следует удивляться, потому как в доме отца своего ему приходилось управляться с волами, и вообще сын мясника должен быть сильным. Отсюда вы, милая кузина, можете судить, что происходит он из семьи мясника, мясником был и отец его, и сам он какое-то время изучал эту науку. Могут ли процветать дела в империи, если отдать ее в руки мясника? Правда, кажется мне, мяснику больше подходит быть полководцем, коли уж он каждодневно занимается кровопролитием, – чем какому-нибудь дровосеку. И тут я смеюсь каждый раз, когда мне это приходит в голову.
Дело в том, что при дворе султана был дровосек один, по-турецки – балтачи*. Понравился он султану, потому что очень уж ловко дрова колол; дал он ему какой-то чин при дворе, потом выше, выше – и стал наш дровосек великим визирем*. Но, к несчастью, сделал его султан визирем как раз в такое время, когда требовался умный человек, чтобы доверить ему войну с царем московским. Одним словом, стал балтачи визирем, и послали его против московского царя, который стоял лагерем на реке Прут и оказался в окружении*, так что впору было ему со всем своим лагерем сдаваться, и он сдался бы, будь балтачи поумнее. Царь уже видел, что не миновать ему плена, но тут царице пришло в голову послать визирю подарки, – может, они с ним договорятся. На другой день посылают они ему богатые подарки, заключают мир, – и московский царь вместе со своим войском избегает пленения. Тем временем прибывает шведский король, приходит к визирю и говорит ему: вот, царь у тебя в руках, завтра можешь взять его в плен, если хочешь. А визирь отвечает: коли возьму я царя в плен, кто тогда о его стране позаботится? Судите сами, милая кузина, как разгневался шведский король, услышав такой ответ. Но спрошу я вас: разве ответ этот не был достоин дровосека? Но думаю, наш мясник все же умней того лесоруба, и выяснится это из того, как он будет вести наши дела. Я же, любезная кузина, желаю, чтобы здоровье ваше было в самом лучшем виде. А если бы вы знали, как я вас люблю, то писали бы мне письма подлиннее.
6
Дринаполь, 10 decembris 1717.
Золотая моя кузиночка, мы все еще здесь, здесь будем и дальше, но убей меня Бог, если я знаю, что мы здесь делаем. Мы пока не умираем от скуки, но сильно к этому близки, потому как прибыли мы сюда не для того, чтобы время зря проводить да охотиться в здешних бескрайних полях, а чтобы конец положить нашему изгнанию. Но надежда очень-очень начинает в нас остывать. Дело в том, что стоят здесь холода, живем мы в холодных домах, но как-нибудь хватило бы в душе тепла, чтобы не дать замерзнуть надежде, – когда бы имели мы дело с другой нацией. Но нет на свете ничего, что остужало бы душу сильнее, чем иметь дело с турком. Конечно, он тебе пообещает, что хочешь, но дождаться, пока выполнит обещание, нет никакого терпения: только слышишь: завтра, завтра, и это завтра растягивается на полгода, а до тех пор ничего, кроме «завтра», из него не вытянешь. Вот и остается жить надеждой*. Его султанство, узнав, что господин наш носит французский камзол, тайно велел сшить теплый кафтан и сегодня прислал его сюда. Кафтан этот таков, что подкладка в нем стоит дороже самого кафтана. Но тут, как говорится, смотреть полагается, не каков подарок, а кем подарен. Дело в том, милая моя кузина, что подарки дарят многие, но мало кто знает, как дарить и что делать, чтобы подарок был правильным. Можно ли считать правильным, если визирь подарит князю цветы, кружку или стеклянный кувшин? Подарки в этой стране – обычное дело; таков здесь обычай, – но хорош ли он, пристоен ли? Давайте не будем больше о подарках.
Автограф письма К. Микеша
Но, золотая моя кузиночка, если бы было мне о чем писать, я бы еще не заканчивал письмо, потому как, клянусь вашим сердечком, писать вам письмо – самая для меня большая радость. А сегодня у меня особенная охота разговаривать с вами. Лучше я буду писать всякую чепуху, только бы не заканчивать письмо так быстро. Но о чем же писать: о палочных наказаниях? Это едва ли можно считать подарком. Но зато какая же большая честь, если сам султан поколотит кого-нибудь палкой; достаточно сказать, что султан побил палкой своего зятя. Надо думать, тот чем-то не угодил жене своей. Впрочем, причину такой болезненной почести мы знать не можем, потому что подобные дела происходят только в гареме, то есть в женском доме. А туда нормальному мужчине входа нет. О палочном наказании мы узнали от одного нашего соотечественника, чья жена состоит в услужении, в чине прачки, у супруги каймакама. Муж ее – венгр, раб каймакама, чин же у него при дворе каймакама – дровокол. Свой человек, он везде свой. Дровокол этот, из патриотизма, часто нас навещает – и развлекает нас рассказами о том, что происходит в разных тайных местах. Ну, скажите, скажите, любезная кузина, нет у меня, что ли, других дел, кроме как писать такую вот чепуху? Но как быть, когда главное наше дело – валяться без дела; а коли и было бы у меня какое-то дело, я бы бросил его ради того, чтобы писать вам. Потому как, милая моя кузина, разве кто-нибудь любит вас так, как я? Но к этому добавил бы я еще два фунта любви, знай я, что вы должным образом заботитесь о своем драгоценном здоровье. А вы меня любите?
7
Дринаполь, 17 decembris 1717.
Сегодня, милая кузина, визирь передал нашему господину, что будет рад видеть его у себя. Но поскольку все мы – пешие, только у господина нашего есть три коня, то каждому из нас прислали по верховой лошади, и мы с пышной турецкой церемонией отправились к визирю. Но посудите, милая кузина, как я испугался, когда, чуть подъехали мы к дому визиря, собравшийся народ во всю глотку стал вопить что-то, вроде как: держи вора! Я уж только смотрел, когда нас схватят под белы руки. Но испуг скоро прошел, потому что визирь принял князя радушно и усадил рядом с собой. Я потом спросил, что означал этот крик? Мне сказали, таков обычай: поднимать крик, когда визирь дает аудиенцию какому-нибудь гостю. Слава Магомету! Слава непобедимому султану! Слава могучему визирю! Видите, дорогая кузина, каково это – не знать обычаев. В другой раз я уж не испугаюсь. Словом, господин наш два часа провел с мясником. О нем говорят, что ума у него больше, чем положено мяснику, и что он не только с топором, но и с делами государства управляется весьма ловко. Нам остается верить, коли говорит это такой умный человек, как наш князь, который уехал оттуда на коне визиря: тот ему коня подарил, таков здесь обычай. Знаю: когда поедем к султану, будет у нас еще один конь.
Я уже говорил, что визири – земные боги. Роскошь, богатство, двор у них – что у твоего короля. Часть их роскоши – в том, чтобы перед ними всегда стоял слуга, но когда они говорят о делах государственных, слугам это не положено слышать, а потому держат они глухонемых слуг. Те любой знак понимают так, как если бы им говорили словами; вот такие слуги находятся в доме, когда визирь беседует о секретных делах. Не правда ли, разумный обычай? Пожалуй, хорошо бы и у нас его ввести, чтоб не было столько сплетен и болтовни. Мне вот еще что пришло в голову: будь старухи у нас глухонемыми, девицы об этом вовсе бы не жалели. Зато я жалею, что в наших делах никакого продвижения вперед; боюсь, как бы мы не застряли тут навсегда. Дорогая кузина, горшку положено жить по воле горшечника, горшок не может сказать горшечнику, мол, зачем ты меня в Дринаполь послал? А мне бы больше хотелось быть горшком с капустой в Эрдее, чем кофейной чашкой на столике у султана.
Не мудро ли говорит турок, что Бог раскидал тут и там хлеб для людей, и каждый должен идти туда и быть там, покуда не съест предназначенный ему хлеб*. Наш хлеб брошен здесь, и мы должны есть его и не роптать, пока он не закончится, и не говорить, что, мол, лучше мамалыга в Эрдее, чем пшеничный хлеб в Турции. Драгоценная моя кузина, я, может, не без причины опасаюсь, что, коли Бог милостивый сохранит меня в теле несчастного изгнанника, то придется мне, может быть, еще целую гору хлеба съесть в этой стране, потому как, коли турка побьют, это вынудит его жить в мире и покое. Наш мясник, хоть визирь он хороший, но вояка – никакой. А и будь он хорошим воякой, султан на него смотрит косо, как и на каймакама, у которого ума хоть и много, но воевать он любит, как я – сутяжничать, и понимает в этом примерно столько же. Но то, что полагается ему знать, он знает, к тому же, как зять султана, своего добьется, а если добьется, то и мир установит. Если же будет мир, стало быть, сидеть и сидеть нам возле своего хлеба, и никуда нам отсюда не деться, пока весь его не съедим. Я же, пока хлеб мой не закончится, всегда буду любить вас. А вы меня? И за здоровьем своим следите, милая кузина, потому что нет ничего дороже здоровья.
8
Дринаполь, 4 januarii, 1718.
Прошу Бога, чтобы новый год вы хорошо и начали, и закончили. Желаю вам здоровья по крайней мере на два фунта больше, и чтобы любили вы меня по крайней мере на сто дирхемов сильнее. Милая кузиночка, хотя сердце мое, все его уголки, складки, карманы полны горячей любови к вам, сам я – словно льда кусок. Что же мне, из-за этого вам не писать? В общем, заслужил я, чтобы вы, милая кузина, поблагодарили меня от всей души за то, что я, хоть и едва жив от холода, все же пишу вам.
И спешу сообщить, что сегодня были мы в пресветлом дворе непобедимого султана*, где князь наш принят был с большой торжественностью. Сначала принял князя великий визирь, в зале Дивана. Перед князем поставлен был круглый столик с большим серебряным блюдом. Приносимые яства клали туда по очереди; ни ножа, ни вилки, ни скатерти, ни салфетки не было на столе. И перед визирем, и перед каймакамом стояло по отдельному столику, и на каждый столик одновременно клали одну и ту же еду. Спустя час, когда обед закончился, князя повели к султану. Никто из нас князя не сопровождал. Когда он предстал перед султаном, на него надели куний кафтан*. Пока князь был у султана, нам, каждому, тоже накинули на спину по кафтану.
Выйдя от султана, князь сел на коня, подаренного султаном. Мы все тоже сели верхом, так что князя к его дому провожали по крайней мере тридцать королей. Не смейтесь, кузиночка: коли бы вы видели нас в тех кафтанах, вы бы подумали, что свита князя состоит из толпы египетских фараонов, – только что мы были не такими черными. Милая кузина, не удивляйтесь, что все эти короли или фараоны страсть как озябли: сегодня тут стоит крепкий мороз. И еще знайте, что их величества из гостей возвращались голодными. Зато князь ехал на жеребце, которого султан подарил ему со всей упряжью, и еще булаву и меч. Меня вы любите, дорогая кузина, если следите за своим драгоценным здоровьем, я же вас люблю, если вы здоровы.
9
Дринаполь, 15 februarii 1718.
Милая кузина, я на вас совсем не сержусь, я даже смеялся, читая жалобы ваши, что не можете вы писать чаще, потому что не с кем отправлять письма. Вы так старательно оправдываетесь и так умильно жалуетесь, что это само стоит десятка писем. Возможно, вам известно, что отсюда в Константинополь почта не ходит. А знаете, в чем причина? Причина в том, что прежде, когда султан еще жил здесь, вельможи даже за самой малой малостью посылали почту в Константинополь. Среди прочего один паша, прибыв сюда, обнаружил, что забыл в Константинополе свою любимую трубку, и тут же снарядил за ней почту. Султан, узнав об этом, издал указ, чтобы между этими двумя столицами почта больше не ходила. Видите, какой урон я терплю из-за какой-то трубки. Здесь мы ничего не упускаем предпринимать ради того, чтобы дела наши шли как можно лучше. Рез-эффенди* (канцлер) часто приходит к нам, мы тоже бываем инкогнито у каймакама, дай ему Бог благополучия! Но боюсь, дело кончится, как у тех гор, что, сойдясь, родили мышь. Ибо то, что я однажды написал, могу написать еще хоть сто раз: зять султана, хоть его часто, по рассказам дроворуба, бьют палкой, все-таки рвется в визири, но к военному делу способен так же, как я – к сутяжничеству. Да я, пожалуй, даже больше в этом понимаю: разве дело стряпчего не в том, чтобы находить выгоду для себя, чтобы от каждой стороны брать подарки и никому не служить? О, милая кузина, как он, этот каймакам, близок к чину визиря! Будь я так близок к женитьбе, пожалуй, оркестр уже играл бы танец невесты. При всем том обещаний сколько угодно, – да только и с ними мы остаемся на том же месте. Турок, если его побьют, поплачет – и смирится. Кроме того, почему-то – один Бог знает, почему – и во Франции подыгрывают немцу, француз лезет из кожи, чтобы помириться с немцем, и если это случится, мы не сможем даже исподлобья смотреть на Эр-дей, а повернемся к нему спиной. О новостях писать не могу: тут такие холода, что новости все замерзли; заканчиваю, потому что старый джифит* уже стоит и ждет письмо; еще замерзнет тут на мою голову. Знать бы, из какого он колена; по бороде я бы сказал, что он из колена Завулонова*. Милая кузина, только глядите, не простудитесь мне. Любите ли вы меня? О том, люблю ли я вас, нечего и спрашивать.
10
Дринаполь, 15 martii 1718.
Дорогая кузина, сегодня, если я правильно посчитал, ровно месяц, как я писал вам в последний раз. Но клянусь своей бородой (когда она вырастет), что, как только потеплеет, я буду писать чаще. Потому как, пускай сердце ваше из мрамора, все равно оно сжалилось бы надо мной, когда бы увидели вы, как я или, вернее, как мы тут живем. Мой дом – это четыре каменные стены, в стене – оконный проем с деревянными ставнями, ветер в это окно входит и выходит без всяких помех. Если же я закрою его бумагой, мыши и крысы ее съедят на ужин. Мебель моя состоит из одной деревянной табуретки, постель постелена на полу, обогревается дом горсткой углей в глиняном горшке. Но вы, кузина, читая это, не думайте, что я достоин жалости больше других: у десятерых нет ни деревянной табуретки, ни такой постели на полу, как у меня, ни ставен, и снег спокойно влетает в окно и падает им на подушку. Да и можно ли называть постелью брошенное на пол покрывало?
В таких вот хоромах мы живем. Но человеку очень нужна надежда, нужна, как пища, и мы, ютясь в никудышном жилье, надеемся, что еще будем жить в хороших домах. Дождемся ли мы когда-нибудь этого?
Зато мы дождались, что прибыл сюда испанский посол*, которого король испанский прислал к нашему князю с обещаниями, что во всем будет ему помогать.
Сегодня утром он встретился с господином нашим, который принял его стоя и разговаривал с ним почти полчаса. Вы, кузиночка, знаете, что я люблю вас.
И знаете, что должны заботиться о своем здоровье; должны также знать, что в холодном доме трудно долго писать.
11
Дринаполь, 22 aprilis 1718.
Уж и не пойму, откуда я пишу это письмо: из Ноева ковчега или из Дринаполя: тут такое половодье, что весь город стоит в воде. Одно хорошо: что погода ясная, а иначе можно было бы подумать, опять наступил всемирный потоп. Надо думать, снег на горах растаял, отчего и здешние реки вышли из берегов; речка, что текла перед нашим домом, так вздулась, что по улицам плавают лодки. И происходят такие вещи, которые бывают только во время потопа: еду из кухни пришлось доставлять верхом на коне. Слыхали вы, кузина, такое? Даже римские императоры не посылали слуг на кухню с такой помпой. Разве что одному Аввакуму позволено было бы, не замочив ног, приносить себе еду*. Такая церемония доставки еды продолжалась, может, два дня. Но не думайте, кузина, что слуги не могли бы принести еду пешком: вода доставала им только до щиколоток. Да только им, слугам, больше нравилось ездить на кухню верхом. Но уж точно не нужен нам был тот великан, про которого говорят евреи, что если бы он во время всемирного потопа взошел на самую высокую гору, то вода доставала бы ему только до пояса, и великан этот все время шел рядом с ковчегом, словно пристяжная рядом с каретой*. А теперь можно писать и о новостях, потому что в доме моем стало теплее и новости оттаяли. Любовь же мою к вам никакой потоп не погасит*. А вы меня любите? Бережете ли свое здоровье?
12
Дринаполь, 27 aprilis 1718.
Милая моя кузина, вы меня плохо знаете, потому как, знай вы меня получше, вы не написали бы, что редко пишете мне оттого, что я-де редко пишу вам. Вы не боитесь моей мести? Знаете ли вы, что нет для меня большего наслаждения, чем мстить тому, кого я люблю. Если я на кого-то сержусь, я ему прощу, как только появится такая возможность; но тому, кого люблю, я должен отомстить. Это зовут сладкой местью; месть же тому, кого ты ненавидишь, – горькая месть. Многие так не считают; но мы-то с вами считаем именно так и не жалеем об этом. Давайте же мстить друг другу и писать часто. Хотите знать новости? Желание ваше я не очень могу удовлетворить.
Французский посол Боннак* трудится здесь не над тем, чтобы война продолжалась, а чтобы скорее закончилась. Этого хочет немец, а турку просто воевать надоело. Что же нам-то делать меж ними? Какую музыку играют, под ту мы и танцуем. Позвали нас сюда – для войны, прибыли же мы – к миру. Можно ли желать чего-то иного, а не того, что угодно Богу?
Должно нам следовать промыслу его, и следовать не как-то, а во всю прыть. Ибо Господь любит, чтобы человек бегом бежал выполнять его волю, не просто с готовностью, но с радостью. Так что не будем грустить, если дела складываются не так, как нам нравится; тот, кто предопределяет будущее наше, знает, как должны идти дела. Но вот если вы меня не любите, золотая моя кузина, то тут я буду очень-очень грустить. Вы же радуйтесь, потому как я вас люблю без памяти. Хорошо ли ваше здоровье, бережете ли вы его? Спокойной ночи, милая кузина!
13
Дринаполь, 9 maii 1718.
Иных Бог возвышает, других унижает, и каждый должен воздавать Ему хвалу за это. Милая моя кузина, сегодня тут кое-что случилось. Я давно уже говорил вам, какое это великое мирское счастье – спать с дочерью султана, и какое большое дело для мясника – потерять чин визиря. Сегодня наш каймакам поднялся до визирства, а бедный мясник оттуда рухнул.
Сегодня султан прислал своего капиджи-баши* к визирю, чтобы тот вернул печать и покинул шатер свой, все оставив там. Бедняге все пришлось бросить, что у него было; в кафтане, который был на нем, его посадили на лошадь, и несколько чаусов* проводили его из города. Сердце мое не могло не сжаться, когда он проехал под нашим окном в окружении примерно дюжины стражников. Надо полагать, его не убьют, а назначат куда-нибудь пашой. Но с какой высоты он упал? Если помнить, что был он мясником, то разница не так велика. Но если смотреть, как высоко он был: где-то на уровне княжеского сословия, – тогда мы увидим, в какую бездну он рухнул. В таком состоянии мы только и можем понять, как повелитель всех людей, даже и королей, возносит кого-нибудь из праха, от сохи, с бойни, а спустя некоторое время низвергает его в прежнее состояние. И состояние это после падения куда тяжелее, чем до вознесения, ибо ты успел вкусить мирской славы. Милая кузина, долго еще я мог бы рассуждать о превратностях жизни человеческой, но не должен забывать, что пишу письмо, а не книгу.
Однако вернусь к новому визирю, который находится сейчас на вершине мирского блаженства: при всей удачливости судьба его будет такой же, как у предшественника, – если не хуже. Но пока что он – на гребне волны и плывет, пока вода его держит. Отобрав печать у бедняги мясника и лишив его всего состояния, султан вручил печать каймакаму, тем самым сделав его великим визирем. И, выйдя от султана, новый визирь торжественно направился в шатер низложенного визиря, где вступил во владение всем его имуществом. Неплохо, не правда ли, милая кузина, за каких-то полчаса разбогатеть на несколько сотен тысяч талеров. Должно быть, счастливчик почти наверняка был уверен, что достигнет такого почетного чина: во‐первых, султан очень любит свою дочь, его жену, a во‐вторых, и его самого очень любит. Еще бы он после этого не лез из кожи! Он, правда, мясником не был, султан нашел его среди мелких писарей, приблизил, дочь свою за него отдал, каймакамом назначил. И вот он уже визирь, и зовут его Ибрагим-паша*. Хотел бы я знать, что он думает – если, конечно, думает – об изменениях, кои происходят в мире. Но думает ли, нет ли, он уже сидит высоко и будет там сидеть, пока можно. Вот и мы сидим тут – и будем сидеть, пока можно, потому что теперь, почти точно, войны ждать не приходится. Новый визирь, он, скорее всего, будет мир насаждать. Для него это – прямая выгода, потому что он человек не военный; ума он большого, но ума не военного.
Нам и сейчас много обещают, но все обещания рассеиваются дымом, и прекрасные утешения, что вот-вот двинемся мы маршем на родину, тают, как облака в небе. Что ж нам: отчаиваться? Только не это. Надеемся мы, милая кузина, на лучшее, уповаем на Бога и будем уповать, даже если почти наверняка будем знать, что того, чего мы ждем, Он не даст нам. Что и говорить, трудно без Загона; трудно 12 месяцев в году нести на плечах груз службы, почти или совсем никаких не имея видов на женитьбу. Все это – очень трудно, милая кузина, но на то мы и христиане, чтобы не терять надежду. Опять я забыл, что пишу письмо, а не книгу, и что совсем вам ни к чему мои проповеди. Но тот человек во мне, который проповедь эту читает, не может сегодня не думать о женщине; такой уж день сегодня: два человека оказались как бы на весах: один вверх взлетел, второй вниз опустился, а мы на земле остались. Как не думать об этом проповеднику? Ведь все это потому, что, коли речь идет о женщине, нельзя игру прервать в середине и нельзя утомлять ее долгим письмом. Я говорил, что люблю мстить, но так и быть, пожалею вас и мстить перестану. Ах, знали бы вы, как я вас люблю! А вы меня? Берегите свое здоровье! Но свеча у меня вот-вот погаснет, да и сам я засыпаю.
14
Дринаполь, 6 junii 1718.
Мы все еще здесь, но не ведаем, что ждет нас: война или мир? Думаю, будут нас держать на цепи с помощью второго. Порта часто присылает рез-эффенди (канцлера) к нашему господину, а когда прибывает он к нам, и карманы его, и пазуха, и чалма – все полно обещаниями; но в том-то и дело, что обещаниями, а не делами. Очень нас обнадеживают, дескать, будет, будет война; таков турок: чем больше он говорит о войне, тем больше ему хочется мира. Но кто бы посмел тут думать о мире, когда вот, скажем, сегодня великий визирь с оружием, в перьях, словно Геракл на очередной подвиг, отправился с войском отсюда к храму Софии. Знает он, что не понадобится ему большое войско, – так оно и есть: мало солдат пошло с ним. Правда, и сам визирь, и ага янычар двинулись в поход с большой помпой. Но это все – комедия, потому как они давно уже ставят на мир. И к Софии они идут лишь затем, чтобы быть ближе к месту, где послы собираются на переговоры о мире. Так что, милая моя кузиночка, не хочу ничего сказать, но точно пора нам повернуться спиной к Эрдею, к милому Волшебному краю* нашему, и покориться великому Божиему промыслу не только ныне, но и присно.
Подумайте сами, кузина: султан послал во Францию, к нашему господину, своего капиджи-пашу с письмом, полным самыми прекрасными обещаниями. Вместе с пашой послала Порта вельможного Яноша Папаи*. После этого мы, ясное дело, надеялись с боем вернуться на родину. Однако вышний промысел оказался иным: предназначение наше было в том, чтобы прибыть сюда для мирной жизни и в этой стране жить в изгнании. Но уж коли Господь лишил нас надежды на то, чтобы сражаться, то возблагодарим его за милость к нам с другой стороны. Потому как, увидев, в каком союзе находится сейчас француз с султаном, можно было догадаться, что князю нашему оставаться во Франции никак нельзя, и, не позови его султан, все равно ему пришлось бы покинуть Францию. С тех пор, как мы сюда прибыли, герцог Орлеанский, регент Франции*, корреспонденции с нашим князем не вел и на письма князя относительно союза с султаном не отвечал. Как бы нам оставалось поступить, не пожелай Господь нас сюда привести и не пошли за нами султан? Вероятно, пришлось бы нам приехать незваными, а тогда и приняли бы нас неприветливо. А так князь, господин наш, живет здесь в большом почете. Денег дают достаточно, во Франции за шесть лет не давали столько, сколько здесь на один год. Видите, кузина, как милостив Бог. Одной рукой закрыл нам дорогу в Эр-дей, зато другой нас кормит. Так надо ли нам отчаиваться, милая кузина? Нет, надо уповать, уповать до тех пор, пока не увидим мы дорогую родину нашу, уповать, пока живы. А не доживем, пускай увидит ее тот, кто доживет. Вы же, милая кузина, берегите свое здоровье. Может быть, вы меня любите; а уж я как вас люблю, в это и поверить нельзя.
15
Дринаполь. 12 julii 1718.
Сколь много бед причинил людям Адамов грех*. Зимой, милая кузина, жаловался я, что зябну очень, трудно писать, а теперь жалуюсь, что тепло. Только не подумайте, милая моя, что во мне говорит изнеженность. Потому как и холод был великий, и жара навалилась такая же. Ежели зимой дома у меня был ледяной погреб, или, скорее, ледяная тюрьма, то теперь – раскаленная печь. Тюрьмой же я называю его потому, что не могу даже в окно выглянуть, ежели только лесенку не подставить: так высоко находится окно, под самым потолком, да и там его нельзя открыть, так оно сделано. Вы, конечно, знаете причину, почему окна тут делают так высоко, а я не знаю; думаю лишь: для того, чтобы ты не мог подсмотреть за соседкой, потому как турок не хочет, чтобы кто-нибудь смотрел на его жену. Верно говорят: Франция – рай для женщин и ад для лошадей, Турция же – рай для лошадей и ад для женщин. Словом, никакой мочи нет у меня оставаться в доме, да и снаружи зной едва выдержишь. Ни до стены, ни до стола не дотронешься, такие они горячие. Намедни же в поле была такая жара, будто мимо раскаленной печи едешь; проведешь там побольше времени – и падай из седла. Никаких других новостей пока что нет, да и эти новости страх какие горячие; но думаю, через короткое время придется мне сообщить вам новости похолодней, потому как подписание мира считается почти несомненным, и опасаюсь, что я вас обниму там, где не хотел бы.
Автограф письма К. Микеша
Но все же не будем отчаиваться, Господу лучше знать, что нам нужно*. Ежели у вас там стоит такая же жара, умоляю вас, не болейте. Я об этом со страхом думаю. Но знайте, милая кузина: невозможно любить вас сильнее, чем люблю я. В другой раз напишу больше.
16
Дринаполь, 15 aug. 1718.
Это, милая моя кузина, будет последнее мое письмо из имперского города. Здесь мы уже съели весь хлеб, что нам полагался*, теперь двинемся дальше, но не вперед, а назад, и остановимся возле той груды хлеба, что ждет нас близ Константинополя. Потому как – чего боялись, в том по макушку и оказались. Кто выведет нас отсюда? Только Господь. За несколько дней до этого пришла к нам весть, что 21 июля великий визирь заключил с немцем мир на 24 года*. Если мне придется столько здесь сидеть, то прощай невестин танец. Увы, милая кузина, ежели до того времени душа моя останется в моем толстом теле, придется мне есть лишь турецкий хлеб из той самой груды, а поскольку будет мир, здесь нам никакого иного дела не останется. Завтра господина нашего отправляют в имперскую столицу. Мы уже собираемся, повозок дали нам достаточно, больше нам и не надо, сами посудите, милая: все пожитки мои я уложил на четвертой части маленькой повозки, а пожитки у меня еще не самые малые*, есть тут такие, кто и вдесятером не смогли заполнить одну повозку. Дали нам и верховых лошадей, потому как, хоть нас всего пятьдесят, но лошадей не больше пяти.
Словом, как я уже сказал, завтра отправляемся. Где мы будем жить, еще не знаю, только знаю, что отсюда увезут. С нами едет и господин Форгач*. Какая радость, что скоро я вас увижу, кузина!* Но здоровье ваше пускай будет хорошим, чтобы радость была еще больше. Написал бы я еще много всего, но когда собираешься в путь, много не напишешь. Господь вас храни, милая кузина, нас уже зовут к обеду.
17
Буюкдере*, 25 augusti 1718.
Слава Богу, вчера прибыли мы на место. Из Дринаполя выехали 16-го; в пути не случилось ничего такого, что нужно было бы упомянуть. Напишу лишь, что я много смеялся* над французами, которые были с нами. Потому как есть среди них такие, кто никогда не сидел на лошади, и уж как они сидели верхом и как ждали привала, было очень забавно смотреть. Вы, милая, слышали про войско Пентесилеи*, здесь, среди них, таких была целая армия. Словом, когда мы вчера сюда прибыли, то думали, что нас поселят во дворцах; но здесь, в селении, не нашли мы ни одного целого дома. Потому господина нашего принудили оставаться в поле близ города, в шатре, до тех пор, пока не будет другого распоряжения и нам не найдут места получше. Не надо было бы вам писать мне, что я нахожусь от вас всего в трех часах пути: я уж так и вижу, как вы переплываете этот прекрасный канал*. Не стоило писать и о том, что мы находимся на берегу канала, на расстоянии пушечного выстрела от выхода в Черное море. Но все это я пишу с радостью, потому как мы совсем близко друг от друга: вот сяду на какое-нибудь маленькое трехвесельное суденышко и поплыву на обед в великий имперский город. А пока мы все будем жить в шатрах, пока не дадут места лучше. Здесь мы на зеленом лугу, но рядом какие-то старые разрушенные строения, в которых скорпионов – как блох. Не хотел бы я видеть таких гостей в своей постели. Сейчас я особенно не хотел бы умереть, иначе как я смогу обнять вас, милая кузина! Ведь покойник, он такой угрюмый, неприятный, он даже жену свою не обнимет. Я же еле терплю, чтобы увидеть вас, но это будет невозможно еще три или четыре месяца, или, точнее сказать, три или четыре дня. Ах, как будет мне грустно, если я не найду вас в добром здравии. В понедельник же ждите меня на обед, пускай будет и капуста*.
18
Буюкдере, 15 septembris, 1718.
Милая моя кузина, дважды выпало мне счастье увидеть вас, но я вас будто и не видел. Только заметил я, что, когда я у вас, день пролетает быстро, как ласточка, а когда я здесь, то тащится, словно рак. Однако я готов с вами ссориться, потому как от вас два дня уже не было ни письмеца. Когда бы не наша лень, мы каждый день по два письма получали бы.
Вы, милая, должны знать, что я ненасытен в чтении ваших писем. Коли хотите вы, чтобы у меня было хорошее настроение, пишите мне часто. Когда я читаю ваши письма, мне и скрипач не нужен, чтобы плясать, потому как я знаю, и другие считают так же, что хорошее письмо лучше всякого танца. Мы же здесь ждем, когда нас расквартируют, а пока обитаем в шатрах, как евреи*. Поскольку у французского посла Боннака есть поблизости дом, он часто сюда приезжает вместе с женой. Но у нас он еще не был, он хочет, чтобы мы первые нанесли ему визит. Однако из этого ничего не выйдет, потому как наш господин знает правила, и нам не пристало ехать к нему первыми. Тут и с титулом имеется какое-то препятствие, и препятствие это препятствует, чтобы препятствие было устранено, так что по этой причине они друг с другом не встречаются*.
Но поскольку у меня никаких препятствий ни со стороны первенства, ни со стороны титулов нет, то я часто у них бываю. Жена у посла – чистый мед; можно сказать, среди женщин она – как очень хорошая жемчужина среди прочих жемчужин. Ах! я и забыл, что ни в коем случае нельзя хвалить одну женщину перед другой женщиной, потому как это ей будет не по душе. А мне-то, мне разве по душе, когда меня в письме называют капустным горшком. Но я это как-нибудь снесу ради пользы дела. Как прекрасно, когда человек не сердится на свою кузину. Как ваше здоровье, заботитесь ли вы о нем? Любите ли меня с тех пор, как мы не виделись? А уж я тебя, милая кузина, люблю, как капусту*.
19
Еникёй*, 22 septembis 1718.
Вы уже знаете, милая, откуда шлю я сейчас свои письма. Могли вы также заметить, что изгнанники евреи из шатров в конце концов перебрались в дома. У нашего господина есть нормальное и удобное пристанище. Знаете вы также, милая, что живем мы на морском берегу, и до того на морском берегу, что к самому моему дому можно подойти по воде. Одного вы не знаете, милая: в чьем доме мы живем. Издали кто-нибудь сказал бы, что это дом какого-нибудь губернатора, хотя хозяин наш вовсе не губернатор. При всем том, может, его и стоило бы назвать губернатором, но только над лисами, потому что он скорняк, зато очень богатый. Скорняку великого визиря еще бы не быть богатым! Расквартировались мы сегодня, а имущества у нас столько, что каждый вселился на свое место за полчаса. В моем доме не путаются под ногами ни стул, ни стол. Хотя место для сиденья у меня есть, оно вроде маленького стула. Коли я захочу сесть, то сажусь на него, но использую его и по-другому: если захочу что-нибудь написать, то можно писать на нем. Хорошо, когда можно жить без всякой домашней обстановки. Так и должно быть у таких изгнанников, как мы, которые сегодня здесь, завтра там. Вот съедим хлеб, который здесь для нас предназначен, и переберемся в другое место. Коли в древности жили люди без всякой мебели, то почему не жить нам. Вон у евреев не было стульев, – и туркам нет в них необходимости. Видел я стул одного былого французского короля*, – у загонского судьи стул лучше, чем у того короля был. Да и зачем они мне, домашние вещи? Ведь корабль, который привез нас сюда, все еще ждет у архипелага*, – поскольку господин наш намерен вернуться во Францию (но в этом я – Фома*). Ожидаем мы приезда сюда господина Берчени* с женой, они поселятся по соседству с вами, милая, но не знаю, надолго ли. Короче, милая кузина, мы уже сидим здесь, возле своего хлеба. Один Господь знает, сколько это продлится и где еще посеян для нас хлеб. Ибо туда все равно ехать придется, как бы ты ни упирался, и придется тот хлеб собрать.
Хотелось бы мне, чтобы и вам, милая, посеяли хотя бы немножко хлеба здесь, рядом с нами: тогда бы надеялся я, что вы приедете навестить нас. Что за дивная картина: сидит дама на красивом разукрашенном кораблике, трое сильных турок ведут его, и летит он по пенным волнам, как стрела. Коли вы сюда не приедете, значит, сердце ваше холоднее камня. Хотя бы на несколько часов, милая кузина, потому как люблю я тебя, как капусту, ежели приедешь. Но о здоровье своем давайте заботиться.
20
Еникёй, 22 oсtobris 1718.
Милая, не смогу я успокоиться, пока не буду знать, благополучно ли прибыли вы домой. Едва вы отсюда отплыли, поднялся сильный ветер, и думаю, волны изрядно вас потрепали. Словом, с тех пор я в тревоге. А еще кажется мне, с тех пор хотя бы на одно письмецо должно было вас хватить, чтобы мое беспокойство немного утихло. Сколько больших рыб ни проплывало под моим окном, у каждой я спрашивал, не съели ли они мою кузину, но ни одна, проклятая, не ответила. Разум мой в растерянности, и останется в состоянии этом, пока я не услышу от вас что-нибудь определенное, моя милая.
Надеюсь, вам не пришлось пережить то, что пережил Иона*, и мне не придется посылать это письмо какой-нибудь рыбе, во чреве которой вы находитесь. Ведь тогда вы вряд ли сможете узнать, что мы вчера поскакали верхом на конях к константинопольским вратам, и там, в каком-то саду возле дороги, наш господин тайно хотел посмотреть на султана, который, прибыв из Дринаполя, с большой помпой вступил в город. Не знаю, описывать ли, кто ехал перед ним и позади него: коли все это я стану описывать, вы, пожалуй, скажете: чего ради я обременяю вас всем этим; коли не стану, вы можете сказать, что я ленив. Чтобы не прослыть в ваших глазах ленивым, лучше опишу, а вы, моя милая, внимайте. По улицам с обеих сторон стояли в ряд янычары. Впереди с большой свитой ехал ассаш-паша*, за ним – чаусы*, эмиры*, улемы* (то есть священники, грамотеи), капиджи-паша, ага янычар с мистанджи-пашой*, каймакам с капитан-пашой*, потом главный визирь с муфтием, чаус-паша*, дальше – потомки Магомета со знаменем, султанские кони в упряжи, потом два верблюда в парадных попонах везли Коран, потом разукрашенная позолоченная карета, в которой находились одежда и оружие Магомета. После этого ехал сам султан на прекрасном коне, рядом – его сын, потом ехали парами ичогланы*, каждый десяток – в кафтанах из тафты разного цвета: первый десяток – в желтом, второй – в красном, третий – в зеленом, четвертый – в синем. Ичогланы при султанском дворе считаются вроде как прислуга. Видите, милая кузина, каких чудес я вчера насмотрелся. Но все это – вроде как дым, во всей этой роскоши султан вовсе не выглядит таким спокойным, как мы; но так оно и положено, чтобы он не был спокойным, пускай хоть в чем-то походит на нас в нашей убогой участи, пускай помнит, что он тоже человек. Так что роскоши этой, милая кузина, давайте не будем завидовать, потому как придет и для него день, когда он хлебнет несчастья и страданий. Тогда что ему вся эта роскошь! В нашем же низком положении больше надежды на лучшее. О, какая прекрасная вещь – христианство! Чем больше роскоши вижу я у турок, тем больше радуюсь своей принадлежности к нашей матери-церкви; ведь у них, у турок, не может быть той надежды, которая у нас не только есть, но и должна быть. Коли поеду в Перу*, там буду проповедовать еще больше, а пока желаю здоровья. Милая кузина, люблю тебя даже чуть-чуть больше, чем капусту.
21
Еникёй, 16 decembris 1718.
Что это происходит с нами, милая кузина, отчего так получилось, что мы уже целый месяц не пишем друг другу? Возможно ль, чтобы мы, находясь так близко друг от друга, не писали? Может, в том и причина, что мы живем близко и видим друг друга часто*. Ах, зачем я сказал: часто? Прости меня, милая кузиночка, разве можно говорить: часто, – коли виделись мы четыре раза за целый месяц? Если б я видел вас даже четыре раза в день, глаза мои не пресытились бы этим зрелищем. Ваше легкое коротенькое письмецо я получил. Чем реже пишешь, тем длиннее должны быть письма. Вы же делаете наоборот. Когда ваши письма коротки, для меня это смерть. Когда я знаю, что вы в добром здравии, я не собираюсь вас щадить: пишите длинные письма, будто барщину отрабатываете. Ну, ладно, я не сержусь, я рад получать и короткие письма, как вот это, из коего вижу я, что господин Берчени прибыл вчера со всеми чадами и домочадцами. Этому я рад, потому как знаю, вы станете проводить время у госпожи, жены его, и не будете теперь в Пере одинокой. С людьми господина Берчени я хорошо знаком. Не знаком только с женщинами и девицами. Но для этого времени много не требуется. Знаю, господин Берчени приедет в гости к нашему князю, потом и я буду ездить к нему; место, чтобы остановиться у них на день-другой, всегда найдется. Мне вот и самому стыдно, что я написал такое короткое письмо, но, хоть оно и коротенькое, надо его отослать, а стыд – ладно, потерплю. Но – здоровье, милая кузина! Знаете ли, милая, как долго я могу вас любить? До тех пор, пока могу курить.
22
Еникёй, 28 decembris 1718.
Я так и думал, что госпожа Берчени не понравится вам. Воистину можно сказать: вельможная дама. Многие носят звание женщины, но не каждая этого имени заслуживает, и таких надо звать женщинками, а то и просто бабами. (Не стану ничего говорить против женщин вообще!) Правда, с госпожой Берчени вам все же проводить время сподручнее, чем с греческими керацами*. От нее самой радости и веселья немного, потому как ближе к зиме и на дереве листья начинают желтеть, но говорить о развлечениях она любит очень, особенно обо всем, что относится к весне. Вы пишете, милая, на лице женщины и в пожилом возрасте видно, что в юности она была красавицей и что теперь ее можно сравнить с красивой зимой. Но кто не посмеется, услышав, что вам не дает покоя вопрос, почему у нашей госпожи нос черный, а щеки белые? Эту историю я вам расскажу. Все это от того, что она, уже будучи замужем, переболела оспой. Вы, конечно, знаете, что женщин господского сословия лечат не так, как простых. И часто они выигрывают от этого, как у нас говорят, от жилетки рукава. Едва она заболела, собрали к ней целую армию докторов, один одно предлагал, другой другое, чтобы оспа не оставила следов, а красота осталась. Один из них предложил позолотить щеки. Его послушались и покрыли ее тонкими листьями из золота, сделав из нее живую статую. Когда это было сделано, какое-то время ей нужно было так оставаться, но после этого все равно пришлось золото снимать, потому как с позолоченными щеками, сами представьте, никуда не пойдешь; румяные щеки все-таки нравятся больше, чем золотые. Но оказалось, что снять золото очень трудно. Водой смыть его было нельзя, и пришлось отковыривать золото понемногу, концом иголки. Со щек его кое-как сняли, но на носу оно присохло сильнее, потому и работа стала труднее. В конце концов убрали и оттуда, да только нос стал черным. Потому не советую я никому покрывать лицо золотом. Вот вы уже знаете, милая, почему у нашей госпожи нос черный, но того не знаете, что завтра великий визирь хочет встретиться с князем, причем наедине.
Этот визирь до сих пор относился к нам очень по-дружески, и господа наши, которые живут здесь в изгнании, ни в чем не могли пожаловаться на него.
Все, за что он берется, получается, потому как изменения тут происходят легко; а уж коли подарок преподнесешь, то и визирь повернется туда, куда попросишь*.
Мы, однако, не в том положении, чтобы давать; наоборот, мы все время ждем от них чего-то. А кто более могуч, тот и более силен, тот может деньгами склонить к чему-то турецких вельмож. Они же смотрят на нас, как на людей, которые всегда готовы просить, а давать – nec nominetur invobis*. Нас здесь довольно много, Порта денег дает достаточно, едим мы досыта, но вот наряднее не становимся, ни я, ни другие. У нашего же господина натура такая, что он не даст, коли не попросишь.
За все годы, что я ему служу, я никогда ничего не просил, милая кузина, и уж и не стану просить. Это и не приличествует эрдейскому дворянину, он скорее будет нуждаться, чем просить. Мой долг в том, чтобы верно служить, остальное – воля Бога. Для эрдейского дворянина нет большего позора, чем сказать, что он служит из корысти. А слышали вы, милая, что тут у нас, очень скоро, одна девица станет мужней женой? Не знаю, когда наступит этот счастливый день, но знаю, что очень хотелось бы, чтобы моя свадьба была так же близка, как у той красной девицы. Я вас люблю, но только при том условии, что вы позаботитесь о своем здоровье.
23
Еникёй, 2 januarii 1719.
Знаю, милая кузина, вы не питаете сомнений, что, не напиши я этого на бумаге, все равно я вам желаю много-много новогодних дней. Длинные, неделями сочиняемые и заучиваемые пожелания оставим чужим людям и проповедникам. А я не могу вам пожелать ничего лучше и дороже, чем Божию святую милость и доброе здоровье. Какой толк в длинном поздравлении! Оно и не приличествует христианам.
Даже Иаков* не давал своим двенадцати сыновьям благословений больше, чем нынче дают одному человеку; притом, коли все эти благословения и осуществятся, из них ведь не построишь ни амбара, ни подвала, и не появится ни обильных стад, ни плодородных полей. Хотя произносятся они с таким видом, что можно подумать, будто вся пашня у тебя сплошь салом выстелена. Но и этого мало: благословение детей продолжается тоже не меньше часа, и нет такой матери, которая не хотела бы, как говорится в тех пожеланиях, увидеть детей своих детей, а потом детей тех детей, и каждый из всех детей должен жить столько, сколько Мафусаил*. Милая кузина, все это – не христианские пожелания. В Ветхом завете они были хороши, потому как в те времена евреи благословение видели в плодородии земли своей, вот Бог и желал им земельного благословения. А истинно христианское благословение касается благ душевных, и истинный христианин должен не о плодородной земле мечтать, а о милости в сердце, чтобы не земля его, а сердце приносило плоды обильные*. Я хорошо знаю, что я от такого обычая не откажусь; кто хочет, пускай отказывается, кто не хочет, пускай ему следует, об этом я не беспокоюсь. Мы же, милая кузина, не будем следовать таким школьным обычаям, но будем следовать обычаям христианским, которые согласны с придворными обычаями*. При дворе же нашем даже подагра становится обычаем. Вот и наш князь лишь вчера ездил верхом, ходил пешком, а сегодня может только сидеть. И неправда, что подагра ищет богатых: ведь будь так, она и не посмотрела бы на нашего господина*. Мы же тогда вообще бы ее не боялись, а боялись бы лишь, что мы с вами не будем любить друг друга. Но разве такое может когда-нибудь произойти? Милая кузина, коли я в каждом письме своем и не пишу, что люблю вас, вы должны это и так знать. Давайте двенадцать раз в году повторять это обещание, этого будет вполне достаточно. Ибо в каждом письме писать: люблю вас, люблю вас, – будет слишком много, и в конце концов мы так к этому привыкнем, что сами не будем чувствовать, что пишем. Дороже то, что реже. Но не во всем, потому как для меня было бы дороже, когда бы вы чаще мне писали. Надеюсь, в этом году мы не будем так ленивы, и желаю, чтобы вы прожили этот год и со мной, и с другими в согласии с милостью Божьей. Не будь здесь так холодно, я бы написал больше, но дом мой стоит над самым морем, а оттуда не идет ко мне никакого тепла. Будем же беречь здоровье!
24
Еникёй, 24 januarii 1719.
Милая кузина, заметили вы вчера, как радовалась госпожа Берчени, когда князь ее навестил? Чем только она ни готова была его потчевать, от счастья не знала, что и делать, я уж ждал, что она начнет плясать перед ним. Не смейтесь, милая, потому как годы годами, а она с радостью попрыгала бы. Правда, в такие времена и в таком положении, как у нас, и танец не танец, а одно горе. Правда, рядом с этой женщиной и два почтенных мужа сплясали бы безо всяких, и за себя, и за дам. Вы хотите, чтобы я сказал, милая, какого мнения я о тех дамах и девицах, которые окружают госпожу? Женщин полагается или хвалить, или молчать, а уж благородному человеку говорить о них плохое тем более не приличествует. Как же мне поступить, чтобы и вам угодить? Что ж, сделаю так, будто произношу я свой приговор, сидя в кресле судьи, так что слушайте меня со вниманием. Начну с полковничихи*. Красивая она была женщина, особенно когда я увидел ее в первый раз, в детстве. Муж ее был тогда комендантом в Гёргене. Госпожу Кайдачи* же за красоту никто никогда не хвалил, лишь за доброту. Вот почему я каждый раз уверяю ее, какая она ужасно красивая, но она, то ли по этой причине, то ли по другой, вечно жалуется. Маленькую Жужи* красотой наделили скупо, но человек она хороший, порядочный и сплошная доброта. Невеста Талабы* и должна быть красавицей.
Ну, вот я и встаю со своего судейского кресла, а вы, милая, сами смотрите, какой приговор я вынес; но высказывать приговор о женщинах – этого права, думаю, вы у мужчин не отнимете; склонность эта рождается вместе с ними, и женщинам нужно терпеливо относиться к подобному. Зато против того, какой приговор выносят о мужчинах женщины, никому возражать не позволено, и приговор этот нельзя выставлять на другой суд, но, склонив голову и колени, с ним нужно смиряться. Коли бы законодатели дали женщинам возможность участвовать в законотворчестве, то и законы, благодаря их проницательному зрению, были бы куда более разумными.
У евреев была одна женщина-судья*, – был ли у них судья лучше ее? Ведь коли бы в судейском кресле сидели женщины, то, мне так кажется, не требовалось бы столько стряпчих да ходатаев, потому как ты сам бы с радостью в суд пошел, рассказать о своей беде.
А там, услышав из уст красивого и милостивого судьи толкование закона, никто бы и возражать не подумал; а коли бы ты даже проиграл тяжбу, то стерпел бы это куда легче. Мне же очень трудно терпеть, что вы редко мне пишете, и должен я вынести приговор о вашей нерадивости. Вы, милая, имеете дело с таким судьей, что крохотным письмецом рассеяли бы всю его суровость. А я бы и больше написал обо всех этих важных вещах, но не стану, чтобы скорее от вас получить ответ.
25
Еникёй, 16 aprilis 1719.
Ужасно, милая кузина, как давно мы не писали друг другу. В чем же причина этого? Ни в чем ином, кроме того, что мы видимся чуть ли не каждые три дня. Видеть вас и писать вам – большая разница. Если бы я всегда мог навещать вас так часто, как с некоторого времени, то, честное слово, меня не надо было бы жалеть. Но не все коту масленица. Уже целая неделя, как мы не улыбались друг другу, и время это кажется мне куда длиннее, чем заячий хвост. А что с этим поделаешь (как говорят словаки). С одной стороны, я об этом не сожалею, потому как не досаждаю вам, хотя у вас и постель лучше, и еды больше, и смех веселее, чем тут. Чтобы гость не надоел, он не должен оставаться в гостях надолго. Но скажу еще более важную причину: она в том, что погода стоит плохая, в такое время плавать по морю дело не слишком здоровое: коли лодка перевернется, то прощай здоровье и все прочее. Я же в море такой храбрый, что стоит лодке чуть-чуть накрениться, я уж думаю, что буду ужинать у рыб. Вы, милая, скажете, что я достаточно плавал по морю. Я же вам на это отвечу: могу похвастаться разве что тем, что каждый раз очень робел и что не представляю более плачевной участи, чем жить в царстве рыб бессловесных. Вчера мы были на празднике у султана. Невозможно вам описать, что там было. Но мы веселились всего лишь как тот возница, который, целый день до позднего вечера сидя на облучке, вечером хвастается тем, как здорово он покатался.
Сегодня рано утром великий визирь прислал к князю чаус-пашу, и тот передал ему приглашение быть на празднике, который визирь устраивает для султана. Князь сел на коня, чаус-паша остановил нас на большом холме на краю луга возле Константинополя: оттуда нам нужно было смотреть на бал. На лугу было разбито много больших шатров, как для султана, так и для других вельмож. Веселье же заключалось в том, что турки гоняли лошадей, стреляли по цели из ружей и маленьких пушечек, а перед султаном состязались борцы. Но все это еще не был настоящий праздник, конец был лучше начала, потому как визирь дал обед султану и всему его двору, и нужно было подносить дары и султану, и его придворным. Не знаю, что дарили другим, а султану визирь подарил трех или четырех цветущих девиц, которые должны были быть очень красивыми и богато украшенными. Потом подарили всякие вещи, украшенные драгоценными камнями, дорогую конскую упряжь, прекрасных коней. (Милая кузина, как здорово быть султаном!) И такое должно происходить каждый год в тот же день. Мы же конца всего этого не дождались, потому как сидеть с утра верхом, не двигаясь и без еды, а на остальное только смотреть издали – не самая большая радость. Поэтому князь провел там только полчаса и, не видя ничего, достойного веселья, к обеду уехал назад, и мы за ним. Но после этого надо было известить визиря, что мы очень веселились и что это было настоящее царское веселье.
Хотя мы еле дождались, когда уедем оттуда. Милая кузина, как часто приходится говорить такое, во что сам не веришь. И поверьте мне, что вас бы я не отдал за все подарки визиря и даже за подаренных дев, но с тем условием, что вы меня будете любить и заботиться о своем здоровье.
26
Еникёй, 26 maji 1719.
Что правда, то правда, вчера изрядно мы перепугались, да и нам досталось несчастий. Во время обеда посуда вдруг принялась плясать на столе, нас тоже зашатало, и тут мы замечаем: а ведь это – землетрясение. Люди здешние говорят, что такого сильного тут еще не бывало. К моему дому вода подходит совсем близко, там всегда ее по колено, но когда началось землетрясение, дно обнажилось, вода вернулась лишь к вечеру. Кто в море был, те хорошо это почувствовали. За час до землетрясения мы видели, что визирь поехал к Черному морю развлекаться, но как только началось землетрясение, он тут же спешно вернулся и заторопился проведать султана. В Константинополе рухнуло много лавок и домов. А тут еще от вас, милая, никаких вестей, я тревожусь, как бы не услышать что-нибудь плохое о вас. Госпожу Берчени, вы ведь знаете, надо вести под руки с большой помпой, когда она идет из дома в другой дом. Но вчера она не стала дожидаться, когда ее возьмут под белы руки, а вскочила и побежала в сад, и вместо гофмейстера ей был испуг. Вчера после обеда муж ее отправился с визитом к жене французского посла, в Перу, и госпожа Берчени весьма сокрушалась, не зная, не случилось ли что с мужем или детьми. А потому пообещала лодочникам два или три золотых, чтобы они отвезли слугу, которого она хотела послать к мужу. Но лодочники боялись выходить в море и не вышли бы даже за десять золотых. Когда их спросили о причине, они ответили: когда землетрясение, то земля под водой может провалиться, а с водой и судно туда уйдет. Мог ли кто-нибудь из семи мудрецов* ответить умнее?
Милая кузиночка, объявитесь как можно скорее, потому как до тех пор мне не до смеха.
27
Еникёй, 18 junii 1719.
Милая моя кузина, очень-очень нужно вам узнать одну новость, чтобы блохи вас не кусали. Дело вот в чем: два георгианских князя*, которых сородичи прогнали из страны, приехали просить помощи у султана. Тот дал им помощь, и вельможные князья явились, чтобы отсюда, с султановой помощью, отплыть через Черное море на родину. Остановились их сиятельства в жалкой корчме. Челяди у них достаточно, но одета она не лучше наших цыган. Но не думайте, милая, что у их сиятельств нет денег: как только деньги кончаются, они продают двоих-троих своих дворовых; так что по мере того как деньги расходуются, и дворня сокращается. Сегодня в десять часов они явились с визитом к нашему князю, пришли в сопровождении кучи своих придворных, но те выглядели такими оборванцами, чисто как последние слуги. Не знаю даже, как они носят имя князей: ей-богу, мне больше нравятся брашовские судьи*, чем эти князья. Дело в том, что георгианцы прежде были воинами, но нынче стали нищими, живут они в греческой вере*; от нас там тоже есть миссионеры. Женщины же там обычно очень красивы.
Намедни вы, милая, написали, что уже понимаете по-французски. Вы очень правильно делаете, что учите чужой язык. Если бы наши земляки все старались учить детей чужим языкам! Но о таких делах они думают так мало, что даже не принуждают дочерей учиться писать и читать, вроде как у тех и охоты нет к этому. А ведь благородной девице обладать этими двумя умениями не только приличествует, но и необходимо*. Кроме прочего, это необходимо и для религии, чтобы читать правильные книги. Но разве не требуется благородной даме в отсутствие мужа обо всем писать ему и читать его письма. Нельзя же все время держать при себе человека, чтобы диктовать ему письма; а коли и будет такой человек, то муж ведь желает писать своей жене не только про то, как лук уродился и сколько вина отдать церкви, но и про всякое другое, высказывать ей свои мысли о любви к ней, чтобы жена могла их прочитать и написать ответ. А поскольку она не умеет, то пишет ему, будто чужому. Если посмотреть, какие письма пишет муж своей жене и что пишет приказчику, нам покажется, что ему все равно, кому писать, и нет меж ними никакой разницы. Я уж не говорю о том, сколько случается всякого такого, о чем человек с радостью написал бы своей жене, иной раз и необходимо было бы написать, но он этого не делает, потому как жена не умеет читать, а он не хочет, чтобы другой это узнал. На это иные самонадеянные, но наделенные коротким умом матери говорят, мол, ни к чему дочери владеть письмом, а то она будет писать любовникам. О, какие умные слова! Будто письмо – причина дурного, а не в письме выражается дурное. Запретные дела случаются не тогда, когда люди пишут друг другу, а когда встречаются друг с другом и когда им нет нужды в письме. Неважно, умеет твоя рука писать, не умеет ли, – сердце идет своим путем. Мне кажется, что я пишу вам, милая кузина, не только потому, что умею писать, но и потому, что чувствую такую охоту. Не умей я писать, при самой первой возможности все высказал бы вам в словах. Так что я делаю вывод: матери поступают неразумно, когда растят своих дочерей в невежестве относительно религиозных предметов, а тех, за кого они их отдают, неизбежно обрекают на страдания из-за невежества жен. Сколь ни красив алмаз, но коли он плохо обработан, его невысоко оценят.
На все это, милая кузина, вы скажете, дескать, я еще не женат, а уже хочу учить женщин. Не хочу, милая моя кузина, не хочу. Я знаю, что вы думаете об этом так же, как я. Пускай каждый поступает как знает, вольному воля, а мне Господь пусть даст такую жену, которая умеет читать и писать, а если не умеет, то он постарается ее научить, если даже ума у нее в голове не больше, чем у кошки. Милая кузиночка, любите ли вы меня хотя бы так, как кошка – мышку?
И в добром ли вы находитесь здравии? Когда мы увидимся? Сегодня, пожалуй, нет, потому как уже одиннадцать часов и мне пора ложиться. Но когда я ложусь, мне кажется, будто я купаюсь, потому что волны морские бьются у самого моего дома, часто мне кажется, будто вода плещется прямо в постели моей.
28
Еникёй, 16 julii 1719.
Верно сказано, милая моя кузина: нет такой хорошей компании, которая со временем не распалась бы. Господин Берчени, который прибыл сюда с женой и со всеми чадами и домочадцами, останется здесь, пока им не приготовят жилье в Тарабии*. Тарабия от нас по суше в получасе ходьбы, по воде же – четверть часа. О том, что так получилось, я, думая о вас, очень сожалею; знаю, вы часто пускаетесь в плаванье по морю, отправляясь к нам на морских скакунах*. Коли госпожа Берчени живет близко от нас, вы могли бы приезжать ней, а стало быть, больше проводить времени и у нас, а так вам придется опять плыть по морю, когда вы захотите приехать к нам в гости. Пациенция*, милая кузина: кто сильней, тот и главней. Наверное, вы хорошо знаете, чей посол потребовал*, чтобы Берчени убрался из Перы; пока он туда не переселится, та персона не хочет жить с ним в одном городе. Теперь же мы все должны быть едины, ибо все мы изгнанники, кроме двоих*, и должны ждать здесь, куда направит нас небесный зов из облака, как евреев в пустыне. Будет чудо, если нас тоже отсюда не прогонят. Я бы об этом сожалел лишь потому, что мы с вами тогда окажемся еще дальше друг от друга; а вообще-то мы все хотели бы, чтобы нас отсюда увезли, потому как мы здесь живем в большой тесноте, и случись пожар, нам некуда будет бежать, разве что прыгать в море. Я бы при этом попал как кур во щи, потому как плавать я не умею.
Милая кузина, каждый человек должен покориться воле Божией, особенно изгнанник, а уж тем более тот, кто изгнанник в Турции. Потому как нигде не происходят изменения так быстро, как здесь, и здесь никто не может быть ни в чем уверенным, разве что в том, что жизнь его висит на волоске. Коли установился мир, то на что нам надеяться? Мы здесь имеем дело с таким двором, где министры меняются каждый день, и коли ты сегодня что-то начал, то завтра нужно начинать все сначала; коли же начинаешь дело не с подарка, то и начинать не стоит. Нынешний визирь хорошо относится к венграм, но успеха нам с ним не добиться, потому как, не умея сражаться, он старается избежать войны любой ценой и готов пойти на что угодно, лишь бы не слышать о сражении. У него на это еще и та причина, что, когда идет война, визирей смещают даже за самую малую неудачу. В мирное же время он может делать свои дела спокойно. Но кто может пообещать, что доброе его к нам отношение будет постоянным? Если его склад мыслей изменится, чего нам от него ждать? Одно скажу, его безбородый помощник (придворный капитан) уже относится к нам с большей враждебностью, чем раньше. А поскольку нам во всех делах нужно обращаться к визирю и приходить к нему с поклоном, то попасть к нему можно только через капитана; и коли нас опередят те, кто сильнее нас и желают нам зла, то дела наши плохи. Похвально в визире то, что в делах, которые касаются других стран, он часто просит совета у нашего князя; эти советы он принимает и следует им, так как убедился в большом уме нашего господина. Но я все время думаю только о том, что завтра или послезавтра найдется кто-нибудь, кто изменит его склад мыслей. Человек ли это будет? Конечно, человек, и он сможет на него повлиять; здешние люди скорее на это способны, чем в другом месте. Но, милая кузина, стоит ли вглядываться в будущее? Оставим будущее Господу. Мне надо думать о том лишь, когда я увижу вас, когда мы улыбнемся друг другу, когда сможем поесть капусты? Ах, я уже не смею говорить о капусте, потому что намедни вы назвали меня капустным горшком, только потому, что я люблю вас, как капусту. А вы? О здоровье ничего не будем писать?
29
Еникёй, 9 augusti 1719.
Ей-богу, стыдно мне, милая кузина, что я должен рассказывать вам, что происходит в столице. Не сиди мы вечно дома, знали бы больше новостей. Хоть это и редко, но когда вы пишете мне о каких-то новостях, вам можно верить. Но как возможно такое, что вы, будучи там, от меня узнаете, когда состоится прием императорского посла, который недавно к вам прибыл. В конце концов вы, пожалуй, от меня будете узнавать, когда там у вас идет дождь? Пускай надо мной будут смеяться, но я подчиняюсь и могу написать, что это уже произошло; но вы ведь, пожалуй, не знаете и того, в какой форме это произошло. Напишу, так и быть. Вы, конечно, как Отче наш, знаете, что обычно, когда султан дает аудиенцию какому-нибудь послу, то сначала для него устраивают обед, а потом визирь ведет его к султану. Но на сей раз вышло не так, потому как у турок сейчас рамазан, это-то вы должны знать. Должны знать и то, что рамазан у них – то же самое, что у нас Великий пост, и продолжается он целый месяц. Известно вам и то, что они в это время до захода солнца не едят, не пьют ни капли воды, даже не курят, что им труднее всего. Более того, есть такая сласть, которую им нельзя в это время днем пробовать, как бы им этого ни хотелось. Подумайте, милая, что это за сласть! Зато ночью – можно. Так что, по причине рамазана, сегодня в два часа утра посла повели в Порту, там приняли, как гостя, а в пять часов повели на аудиенцию к султану. Из всего этого вы можете видеть, что аудиенция сегодня состоялась. Это вы уже знаете, милая, не только от меня, но, наверно, и от десятерых других. Я уже жду, что завтра вы станете спрашивать у меня, можно ли вам поесть или поспать. Я же знаю, что уже поспал бы, потому как настроение у меня мрачное. Но все равно я вас немножко люблю и желаю вам доброй ночи.
30
Бейкоз*, 16 augusti 1719.
Видите, милая, пишу я вам из Азии; будь я в Америке, я бы вам и из Миссисипии писал. Так что смотрите на нас уже как на азиатских венгров. Словом, милая кузина, мы уже пять дней живем здесь в шатрах. Город, что возле нас, и раньше звали, и теперь зовут Бейкоз, и находится он в знаменитой Вифинии*. Знаете ли вы, милая, какими знатными были во времена Рима вифинские цари? Но думаю я не об этом, а думаю я о том, что нахожусь не в Харомсеке*. Но разве Господь был бы там добрее ко мне, чем здесь? Нет, доброта его одинакова всюду; коли Господу угодно, чтобы ты был здесь, то будь здесь и гуляй по этому зеленому лугу. Что верно, то верно, милая кузина, находимся мы в красивейшем месте, шатры наши выстроились в ряд на морском берегу. Этот великолепный канал* мы видим из конца в конец, и до нас ясно доносится гул Черного моря. Мимо нас в Черное море идут огромные парусные суда. Такого канала нет, пожалуй, в целом свете: берега его на всем протяжении друг от друга не далее пушечного выстрела, – пять миль, и на каждом из двух концов – большое море. Где еще найдешь такой канал? Суть в том, что если бы владела этой страной другая нация, то сотворила бы чудо из этого канала: на обоих берегах построили бы города, прекрасные замки, дворцы. Дело в том, что здесь, на краю Европы, городов много, но в других местах их звали бы просто деревнями. Среди прочих – Еникёй, где живем мы; городишко очень скверный, а другие и того хуже. Со стороны Азии же почти везде – пустыня. Дома, стоящие на берегу, где живет султан, это что угодно, только не дома султана. Какая жалость – такие красивые и уединенные места оставлять пустынными, но я, конечно, строить тут ничего не буду, пускай их.
Нигде, милая кузина, не увидишь столько рыбы, как в этом канале; рыбаки вытаскивают за один раз несколько тысяч. Сколько тысяч расходится в султанской столице, и сколько сотен тысяч сушат только в Еникёе?
А как много в нем морских свиней!* Не хотел бы я врать, да и нужды в том нет, но все-таки скажу, что однажды среди прочего видел я их по крайней мере тысячу, словно по воде огромное стадо свиней прогнали. Что правда, то правда, милая кузина, живем мы здесь хорошо, гуляем по зеленому лугу, князь послал за своими конями, значит, часто будет ездить на охоту. Одно я уже заметил: здесь, в Азии, я люблю вас так же, как и в Европе; но вы должны писать мне часто, и письма должны быть хоть немного длиннее, и еще должны заботиться о здоровье, особенно нынче. Потому как, говорят, там у вас нынче чума*.
31
Бейкоз, 7 octobris 1719.
Милая кузина, не появись на небе радуга*, мы точно уже сбежали бы отсюда в горы, потому как вчера был такой ливень, что нас почти совсем затопило. Откуда было нам знать, что, когда идут большие дожди, вода с гор стекает как раз там, где мы разбили свой лагерь. Но теперь-то мы это узнали: вода вдруг залила нашу кухню, и нам пришлось бегом догонять кухонную посуду. Во время дождя я не был в своем шатре, лишь потом пошел посмотреть, все ли там в порядке. И, смейтесь или не смейтесь, но как раз через мой шатер тек ручей по колено глубиной. Счастье еще, что моя кровать была все же немного выше, так что ручей бежал под ней. Как бы там ни было, потоп продолжался только до вечера, потом для воды провели другое русло. Но дождь все не собирается утихать; коли будет лить еще два дня, думаю, мы покинем Азию. Да и пора уже нам подумать о квартирах, потому как Черное море показывает нам самую черную свою сторону.
Милая кузина, представьте только, что было намедни с господином Форгачем. Не знаю, по случаю какого праздника хотел он отправиться отсюда к господину Берчени, чтобы принять причастие. Утром, готовя душу к таинству, приказывает он слуге, чтобы тот нашел лодку, которая перевезет его на другой берег, к господину Берчени. Господин Форгач долго бродил по берегу, дожидаясь слугу, потом, устав от множества всяких мыслей, забыл, для чего он собрался ехать. И, чтобы время шло быстрей, закурил трубку, а когда трубку уже почти искурил, тут и пришла лодка, и господин Форгач, собравшись сесть в лодку, заметил, что у него трубка во рту. Расхохотался он и вернулся в свой шатер. Мы тоже смеялись над ним целый день. Знаю, вы тоже посмеетесь над его набожной любовью к трубке, потому как с ним всегда бывают такие смехотворные случаи. Намедни князь говорил о том, с каким благоговением надо относиться к святому причастию и что в таких случаях нельзя думать ни о чем другом. Форгач слушал, слушал – и вдруг засмеялся, сказав, что ему невозможно представить такого, чтобы не приходили в голову всякие смехотворные вещи. Например, недавно он собирался принять причастие, а когда к нему подошел священник, в голову ему пришла мысль, какая прекрасная попона вышла бы из казулы*, что на священнике. Таких смехотворных мыслей и у нас бывает достаточно; мысли эти плохи, коли мы им отводим большое место. Я же вас люблю, и эта мысль очень хорошая. Берегите здоровье, милая, это тоже очень хорошая мысль.
32
Еникёй, 10 oсtobris 1719.
Дивны дела твои, Господи: вчера я обедал в Азии, а ужинал в Европе. Перенесся же сюда я не по воздуху, а по воде. Из этого вы можете понять, милая, что мы вернулись на прежнее место, а вылазка в шатры закончена. Правда, бежали мы сюда не от неприятеля, а от нескончаемого дождя, отогнать который не было никакой возможности, хоть и были с нами два генерала*. Здесь ежедневные развлечения будут состоять в том, что или господин Берчени приедет к нам, или мы поедем к нему. Не обойдется и без охоты, но не обойдется и без того, чтобы Порта охотилась на нас. Потому как у немецких послов* главная забота, как бы нам навредить; мы же ни в малой степени немцу не вредим, и не знаю, чего так старается немец преследовать бедных изгнанников венгров, которые здесь, на морском берегу, только и делают, что курят да вздыхают. Как вы считаете, милая кузина, читают ли эти безбожники Евангелие? Думают ли о том, что им придется смежить глаза на несколько сотен лет? Тогда не перед императорским судом придется им отвечать, не по мирскому закону будет вынесен приговор, но по Святому Евангелию, которое даже цезарям велит прощать врагов своих и за зло платить добром. Высший суд не принимает allegаtio*, перед земными владыками ставит не законы страны, но истины Евангелия. Тогда напрасно земной владыка станет доказывать, мол, мне министры мои советовали преследовать изгнанников венгров в их несчастной доле, politica ratio* толкала к тому, чтобы довести их до такого состояния, чтоб они в будущем никому не могли вредить. На подобные доводы будет один ответ: а не надо было стараться отнять у них хлеб, который я дал им в чужой стране, после того как ты отнял у них все их достояние; ради politica ratio не следует, во избежание неопределенного будущего зла, доставлять ближним твоим определенное зло. Если бы и другие так думали, мы бы жили в мире и покое. Может, они так и думают иногда, но подобные мысли у них проходят насквозь, как purgatio*. Вы, милая кузина, может, не знаете, но мы теперь намереваемся вернуться во Францию, и коли бы это зависело только от нас, мы бы отправились прямо сегодня. Но от нас зависит только намерение, а возможность зависит от других: князь наш, питая такое намерение, отправил Французскому двору уже несколько писем, но прямого ответа до сих пор не получил. Двор не отвергает, не одобряет однозначно наше возвращение туда, из чего понятно, что он не желает нашего возвращения. Inimicus homo hoc facit*











