Читать онлайн Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта
- Автор: Наталья Кохненко
- Жанр: Историческая литература
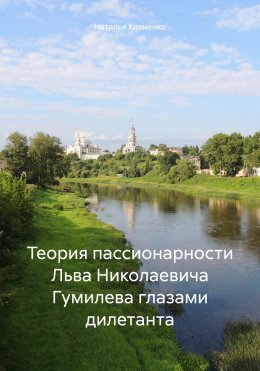
Введение
…Мы можем, подобно резвящимся глупым детям, переводить стрелки на часах истории, но возможности заводить эти часы мы лишены. У нас роль самонадеянных детей исполняют политики. Они по своему почину переводят стрелки с 3 часов дня на 12 часов ночи, а потом страшно удивляются: «Почему же ночь не наступила и отчего трудящиеся спать не ложатся?» За ответом на последний вопрос обращаются к тем самым академикам, которые научно обосновали необходимость перевода стрелок. Таким образом, те, кто принимает решения, совершенно не учитывают натуральный характер процессов, идущих в этнической сфере. И, зная пассионарную теорию этногенеза, удивляешься отнюдь не тому, что в стране «все плохо». Удивляешься тому, что мы все еще существуем.
Л. Н. Гумилев, В. Ю. Ермолаев. «Горе от иллюзий»
Прошло более тридцати лет со дня распада Советского Союза. Тридцать лет по историческим меркам – срок небольшой, но иногда события так ускоряют свой бег, что между прошлым и будущим и за меньший срок образуется пропасть шириною в вечность. Мы за тридцать лет успели развалить страну, потерять миллионы населения и даже осознали иллюзорность своих представлений о «цивилизованном человечестве», в которое мечтали влиться столь дорогой ценой.
Не ко всем, конечно, пришло это осознание. Даже сейчас, после начала СВО, в России слышны голоса глубоко несчастных людей, которым, по их внутреннему ощущению, не повезло с родиной. Случилось так, что до последнего времени эта категория граждан определяла редакционную политику большей части отечественных СМИ, поэтому голоса их звучали громко, убеждая нас в том, что общество расколото. Признаки раскола мы, действительно, наблюдали и наблюдаем. Но реакция большинства населения на возвращение Крыма ясно показала, что уже в 2014 году с идеей великодержавности, способной сыграть цементирующую общество роль, россияне в массе своей расстаться не хотели или даже не могли. Это противоречило бы какому-то, плохо поддающемуся анализу, однако важному внутреннему чувству мировосприятия. Можно по-разному к данному факту относиться, но меньшинству следовало бы его принять.
Проблема заключается в другом. В каком виде эта идея великодержавности должна быть воплощена в жизнь, чего конкретно мы от этого воплощения ждем? Как она соотносится с простым человеческим желанием «жить хорошо»? Когда вы учитесь водить автомобиль, хороший инструктор вам обязательно скажет, что смотреть надо на дорогу не перед капотом, а вдаль, с перспективой; приближаясь же к повороту, – не на сам поворот, а на то место, где вы хотите оказаться после него. В противном случае рискуете приехать вовсе не туда, куда планировали, а в ближайший кювет. Так устроен человеческий мозг.
Перед нами за тридцать с лишним лет накопилась масса вопросов, от ответов на которые зависит не только то, куда мы идем согласно нашему разумению, но и то, где окажемся в реальности. Важнейший из них – кто мы? Монстр с имперскими амбициями? Народ, впитавший с молоком изнасилованной монголом праматери рабскую психологию вечного холопа? И есть ли это «МЫ» как некое целое? Если есть, то почему так легко развалились? Или в 1991 году едины не были, но уж уцелевшее – монолит.
На ряд вопросов ответы практически найдены:
– Не развалились, а нас развалили… американцы.
– Час от часу не легче! Что же это за великая держава такая – любой приходи и разваливай?
– Ну, во-первых, не любой, не передергивайте. Во-вторых, они же не сами – с помощью нашей элиты разваливали.
– Чьей-чьей элиты?
Подобные ответы обескураживают больше, чем их отсутствие. Действительно, когда политическая элита собственный народ мордует всякими оброками и барщинами, это понятно. Не мы первые, не мы последние. Но когда безо всякой причины тысячами или даже миллионами, как утверждают некоторые, она уничтожает дееспособное население, наплевав на его воспроизводство и налоги, а напоследок разгоняет этот народ по национальным углам… Нам веками этих упырей с Луны и Марса поставляют?
Давать ответы на подобные вопросы призвана наука. Но с наукой – по крайней мере, с ее гуманитарной составляющей – дела тоже обстоят все чудесатее. Еще относительно недавно советская этнология в лице Института этнографии АН СССР, впоследствии переименованного в Институт этнологии и антропологии РАН, давала сбивчивые и путаные ответы на вопросы о природе этничности, но признавала ее реальность и объективную обусловленность. Времена изменились.
В девяностые годы в погоне за соответствием «современной научной мысли», вполне дискредитировавшей себя теорией «плавильного котла» чикагской социологической школы, родные ученые перестроились настолько, что объявили (вслед за светочами западной науки, разумеется) этническую идентичность конструктом. Позже они вообще потеряли интерес к этой теме, сосредоточившись на более узких проблемах вроде политической антропологии, антропологии права, исследованиях в области миграционной и гендерной проблематики и т. п.
Все это, конечно, очень интересно и актуально, но похоже на то, как если бы мы изучали положение тел в пространстве, не опираясь на законы классической механики. Поэтому возвращение к теории этноса и понятию этничности неизбежно, так как все эти миграционные, гендерные и прочие процессы идут не в какой-то отвлеченной среде, а во вполне конкретной этнической. В нашем случае даже полиэтнической, от особенностей которой зависит очень и очень многое. И чем раньше мы осознаем необходимость этого возвращения, тем лучше для нас.
С 2010-х годов появились признаки пробуждения интереса к этой теме. Они чаще всего обнаруживались в информационном пространстве в виде политической дискуссии, но были достаточно очевидны. Так, опубликованная в «Независимой газете» (2019 г.) статья Владислава Суркова про «долгое государство Путина» и «глубинный народ» коротко, но неподдельно задела за живое российские круги самой разной политической ориентации. Даже шло бурное обсуждение, где этот народ найти и как его исследовать.
Понятие глубинного народа в статье точно не определено и сформулировано как противоположность глубинному государству. По своим характеристикам оно отсылает нас к терминологии немецкой теории психологии народов XIX века с той разницей, что «народный дух» Мориса Лацаруса и Хеймана Штейнталя характеризует нацию в целом, а в российском варианте, по мнению автора статьи, элита периодически пытается, забыв, где и кем была вскормлена, «космополитически воспарить». Но сейчас уже все хорошо, все нормализовалось, и государство Путина «адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории» [115].
Этими устами да мед бы пить. Тревожных звоночков было много. Уже один тот факт, зафиксированный в названии статьи, что речь шла о государстве, управление которым замкнуто на одну-единственную политическую фигуру, без прямого вмешательства которой не решаются элементарные вопросы на местах, не внушала оптимизма. Но имелось в статье и обнадеживающее начало. Уж коли речь зашла о феномене «глубинный народ», можно надеяться, что в общественный, а при благоприятном стечении обстоятельств и в научный дискурс вернется тема этноса в его примордиалистском понимании.
Мы же, стремясь приблизить это событие, предлагаем уже сейчас обратить внимание на теорию не то чтобы забытую, но изрядно оболганную и извращенную. Это теория этногенеза Льва Николаевича Гумилева. Ей и посвящена данная работа, целью которой является не доказать безупречность пассионарной теории во всех отношениях, а показать необходимость ее переосмысления в силу перспективности с точки зрения поиска ответов на актуальные вопросы современности. Вопросов этих много. Большинство из них, к великому сожалению, давно вышли из поля теоретических дискуссий. От их решения в буквальном смысле зависит жизнь каждого из нас, включая тех, кто крайне далек от желания понять природу этничности. На наших глазах рушится привычный мир, то ли открывая перед нами новые горизонты и перспективы, то ли навсегда закрывая их.
Казалось бы, какое отношение имеет теория Л. Н. Гумилева к масштабным попыткам переписать историю Второй мировой войны, битве глобалистов и антиглобалистов, мировому экономическому кризису и прочим явлениям исключительно социального, как нас уверяют, порядка? Не говоря о том, что существует масса объяснений происходящему, начиная с теории негативного отбора, лишившего нас достойных руководителей и компетентных чиновников, заканчивая заговором некоего мирового правительства. Однако на многие важные «Почему?» все эти объяснения ответа не дают.
Теория же Гумилева если и не отвечает на эти вопросы прямо, вплотную подводит нас к ответам на них. Становится понятно, почему мы никогда не вольемся в «семью цивилизованных народов» на равных правах и даже почему к этому слиянию категорически не следует стремиться. Почему потомки грозных викингов, защищая честь обиженных мигрантами женщин, не нашли более адекватного ответа, нежели демонстрация протеста в мини-юбках. Почему СССР распался, а еще недавно отсталый Китай, представитель социалистической системы, совершил экономическое чудо, которое вывело Поднебесную на лидирующие позиции в мире.
Кроме того, научное обоснование природного происхождения социального инстинкта, инстинкта коллективности – «именно коллективности, т. е. единства двух противоположных начал – группирования и разделения», благодаря которому человек «не может существовать в одиночку, а человечество не может существовать в недифференцированном (несгруппированном) виде» [127] – подводит нас к выводу, что в столкновении глобалистов и антиглобалистов проявляются не разные точки зрения на будущее человечества, имеющие равные права на существование, а противостояние системы во всем ее этническом и социальном многообразии и антисистемы, угрожающей самому существованию человечества.
При этом невозможно не заметить, что открытое заявление о себе этого глобального монстра совпало с тем моментом, когда в научном мире победил конструктивистский взгляд на этническую идентичность. Вооруженные конструктивистской теорией идеологи и политики стали активно продвигать в общественную жизнь противоестественные формы поведения, начиная с пропаганды всякого рода социальной толерантности и заканчивая насаждением того, что называют множественной, символической этничностью.
Теория Л. Н. Гумилева является инструментом, который не только помогает разобраться в происходящем сегодня вокруг нас, но и дает возможность оценить дальнейшие перспективы, даже наметить те принципы, которые могут быть положены в основу стратегии борьбы с антисистемой XXI века, питаемой неконтролируемой миграцией невиданного ранее масштаба. Кроме того, она содержит ориентиры, позволяющие нам лучше понять себя и свою историю.
Сама по себе теория этногенеза не несет идеологической нагрузки, но предоставляет необходимую мировоззренческую опору, базис для идеологии, о необходимости которой говорят уже многие. Для начала же следует показать, что раскрываемые ею представления о мире не противоречат реальности. На реализацию этой задачи и направлена данная работа. Но предварительно необходимо посвятить читателя в историю вопроса.
В отечественной науке интерес к этническим проблемам появился в XVIII веке. Этому способствовало превращение России в многонациональное государство за счет расширения ее границ и, как следствие, необходимость изучения населяющих ее народов. С этой целью Академией наук России были организованы этнографические экспедиции в Сибирь и другие окраинные районы страны. Изучение этносов проходило в естественно-научных рамках. В 1714 году в Петербурге была создана Кунсткамера, ставшая предшественницей Института этнографии, в 1845 году учреждено Русское географическое общество. В программу его исследований входило всестороннее изучение географического пространства России, ее природных богатств и народов.
Параллельно этому с середины XIX века развивалось направление исторической науки, обратившееся к объяснению развития народов. Отечественной историографии того времени был свойственен широкий исследовательский подход. Но после революции в отечественной науке получает распространение марксизм, важнейшим методологическим требованием которого становится классовый и исторический подход к национальным вопросам. В результате в Советском Союзе этнология, не успев родиться, превратилась в этнографию и, став отраслью исторической науки, сконцентрировалась преимущественно на первобытности.
Ситуация начала меняться только с середины 60-х годов прошлого века. Стали проводиться исследования, дающие возможность делать динамические сравнения, были созданы банки данных, проводилось изучение социальных групп в широком этнокультурном контексте. В это же время активизировались теоретические исследования в рамках теории этноса и в соответствии с его примордиалистским пониманием.
Примордиализм – направление в этнологии, согласно которому этничность является изначальной характеристикой человека, она объективна по отношению к индивиду и не может быть создана или разрушена искусственно. Поскольку в советской общественной науке бытовало представление об этносах как общностях объективных, но второстепенных, несравнимых по своей значимости с классами, то предполагалось, что со временем, в процессе строительства нового общества, будет происходить стирание национальных границ. Однако, несмотря на внутреннюю противоречивость такой позиции, сомнений в реальности этносов у отечественных ученых не возникало вплоть до 90-х годов XX века, когда с Запада в отечественную науку пришли новые научные парадигмы, в том числе конструктивизм.
Конструктивизм, в противоположность примордиализму, фиксирует внимание на изменчивости, ситуативности и субъективной природе этнических феноменов. Оспаривая объективность традиционно признанных компонентов этноса, конструктивисты настаивают на существовании представлений о них. Считая этнос категорией условной, они предпочитают использовать понятие «этничность»[1].
Интерес к проблеме этничности в нашей стране начал формироваться еще в начале 70-х годов, а полемика между представителями старой школы, отстаивающими объективистское понимание этноса, и апологетами западных концепций этничности развернулась с конца 80-х годов на страницах журнала «Советская этнография»[2]. Начало этой дискуссии положил доклад директора Института этнологии и антропологии АН СССР В. А. Тишкова, сделанный на заседании Президиума АН СССР в 1989 году.
Примерно в это же время с новой силой разгорелось противостояние представителей российской академической науки и Л. Н. Гумилева. Если с момента появления пассионарной теории в 60-х годах эта борьба носила внутринаучный характер, то во второй половине 80-х – начале 90-х годов она стала достоянием широкой общественности. Гумилев получил возможность отстаивать свою точку зрения на радио и телевидении, его работы издавались огромными тиражами.
Во многом интерес ко Льву Николаевичу, а заодно и к теории пассионарности подогревался его происхождением (сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой) и трагическими обстоятельствами жизни (был репрессирован, провел в ГУЛАГе в общей сложности более десяти лет). Либерально настроенной общественности почудилось, что фигура Гумилева подходит на роль этакого знамени в борьбе с нашим «тоталитарным прошлым». Но по мере знакомства с его воззрениями пришло понимание, что выбранный объект никоим образом уготованной ему роли не соответствует. И русских с коммунистами отождествлять не желает, и события русской истории нового времени полагает трагическими, но во многом закономерными, отказываясь считать их исключительно проявлением чьего-то злого гения, и даже утверждает, что «если Россия будет спасена, то только как евразийская держава» [24].
В 1992 году Лев Николаевич уходит из жизни. Критика со стороны его оппонентов к тому времени уже приобрела массированный и крайне агрессивный характер. Многие из его читателей так ничего и не поняли, по сей день утверждая, что население США – молодой этнос, чье рождение можно отсчитывать чуть ли не от Декларации независимости. Итог – стигматизация: «талантливый популяризатор», но «антинаучно».
Итак, теория этногенеза Льва Николаевича Гумилева появилась в середине прошлого века, подверглась жесткой критике и до сих пор не принята академическим научным сообществом. Причина – ее «антинаучность». За это время путем критического анализа от антинаучной теории можно было камня на камне не оставить, но почему-то «курилка жив», а термины, введенные в оборот Гумилевым, звучат в последнее время все чаще. То и дело применительно к этносоциальным процессам встречаются понятия «химера» или «антисистема», а от «пассионарности» вообще нигде укрыться невозможно. В чем же дело? Попробуем разобраться, начав с критики.
Ее анализу посвящена статья Владимира Александровича Кореняко «К критике концепции Л. Н. Гумилева» (2006 г.), в которой автор приходит к неутешительному выводу: «…анализ истории и основных направлений критики взглядов Л. Н. Гумилева дает в общем удручающую картину» [50]. Картина поистине удручающая, но связано это с целым рядом мелочных придирок и тоном большинства критических статей, выдержанном в диапазоне от саркастически-гневного до завуалированно-высокомерного, о чем господин Кореняко не упоминает.
Например, статья «Пути околоэтнической пассионарности» (1990 г.) Виктора Ивановича Козлова, ученого-этнографа, доктора исторических наук, профессора, лауреата премии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Президиума АН СССР и Государственной премии СССР, мало напоминает научный анализ. Статья обращена к читателям Гумилева, к тем, «кто так или иначе расположен его концепции», а целью автора является «добросовестно показать ущербность его идей» [48]. Около пятидесяти процентов текста занимают цитаты из монографии Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли», обильно снабженные знаками [?] и [!].
Идея Виктора Ивановича понятна, ему хотелось привлечь внимание читателя к тем противоречиям и несуразностям, которые он сам усматривал в тексте Гумилева. Применительно к людям, равнодушным к теории Льва Николаевича, этот прием мог бы оказаться эффективным. Однако речь идет о тех, кто «расположен его концепции» и, соответственно, не только с ней знаком, но и понимает ее иначе, нежели автор статьи. В такой ситуации ни вопросительные, ни восклицательные знаки, ни даже их одновременное использование продемонстрировать «ущербность идей» не могут.
Что касается непосредственно критики, содержащейся в статье, то она выглядит не слишком убедительно: когда дело доходит до субэтносов, суперэтносов и конкретных примеров, приведенных Гумилевым, В. И. Козлов замечает, что эти «рассуждения следовало бы подвергнуть более подробному критическому анализу, но для подобных, в общем-то частных, сюжетов в рамках данной статьи нет места» [48], после чего переходит к изъянам представлений Льва Николаевича о межэтнических контактах и их нравственной сомнительности. К болезненной теме нравственности мы еще вернемся, но… если эта статья – научная критика, как же выглядит публицистика?
Гораздо более содержательна статья академика Бориса Александровича Рыбакова «О преодолении самообмана» (1971 г.). В ней мы не найдем критики непосредственно пассионарной теории этногенеза, так как статья посвящена книге Гумилева «Поиски вымышленного царства» и направлена на разоблачение ошибок и несоответствий в трактовке исторических событий Древней Руси Гумилевым. Объем ее невелик, но место для мелких уколов в адрес Гумилева автор нашел. Вполне невинную мысль Льва Николаевича о месте озарения в процессе научного поиска, которое «не предшествует изучению проблемы и не венчает ее, а лежит где-то в середине, чуть ближе к началу» [95], академик Рыбаков почему-то воспринимает как проявление самомнения и нахальства, несколько раз припоминая Гумилеву его озарения, которые «очевидно, предшествовали научному поиску» [95] или даже заменяли его.
В заключительной части своей статьи «Горькие мысли „привередливого рецензента“ об учении Л. Н. Гумилева» (1992 г.) не стал ограничиваться мелкими уколами доктор исторических наук, профессор Лев Самуилович Клейн, объяснивший популярность трудов Гумилева дилетантизмом, простодушием и полуобразованностью поклонников Льва Николаевича (что отчасти верно, так как среди них встречаются люди разные, как и среди его противников) и выразивший сомнение в сохранности интеллектуального уровня Гумилева после всех испытаний, выпавших на его долю. Аргументом к этому сомнению послужили «долгие годы адаптации к уровню слушателей» во время пребывания Льва Николаевича в ГУЛАГе и широко известная история с ликбезом, который предпринял Гумилев в среде своих солагерников: «блестящее переложение одного раздела испанской истории (отпадения Нидерландов) на феню» [42].
В конце статьи автор заверяет читателей в своем дружеском расположении ко Льву Николаевичу, делает признание, что «очень не хотелось браться за эту статью», горько сожалеет, что приходится «обрушивать столь резкую критику на своего доброго знакомого Льва Николаевича Гумилева», но «это тема, которой играть нельзя» [42], ибо опасность слишком велика. Под опасностью подразумевается оправдание межэтнических конфликтов пассионарной теорией этногенеза.
Подобная тактика стала особенно популярна после ухода Льва Николаевича. Многие ученые мужи даже перестали обрушиваться с критикой на концепцию Гумилева, так как подвергать научной критике совершенно фантастическую теорию, не имеющую к науке отношения, как-то не очень солидно. Иногда ее даже ставят в один ряд с «альтернативной историей» Фоменко и Носовского. Льва Николаевича объявили талантливым популяризатором, а его заблуждения снисходительно объяснили трагизмом его жизненного пути. Интересно, что же популяризировал Гумилев, если его взгляды на историю и этногенез были насквозь псевдонаучны и даже опасны.
Во всех этих, мягко говоря, странных нападках проскальзывает столько глубоко личного, что возникает вопрос: на кого более было направлено раздражение критиков – на «антинаучную» теорию или на ее автора? Такая вот отрицательная комплиментарность[3] на индивидуальном уровне.
Но вернемся к содержательной части критики. Все критические замечания в адрес пассионарной теории этногенеза можно разделить на две неравноценные группы: критика по существу и претензии морально-этического характера. Последние менее разнообразны и в общих чертах сводятся к двум-трем позициям, но по своей убойной силе они значительно превосходят первые и способны похоронить любую теорию независимо от ее научной ценности. Самые невинные из них заключаются в нарушении профессиональной этики и использовании административного ресурса. Они представлены в вышеупомянутой статье В. А. Кореняко и состоят в следующем:
1) Вслед за статьей Л. Н. Гумилева «Этногенез и этносфера», опубликованной в журнале «Природа» (1970 г.), редакция напечатала «небольшую статью тогдашнего директора Института этнографии АН СССР Ю. В. Бромлея (Бромлей, 1970: 51–55). В ней последний изложил свои взгляды на этнос и этногенез. Он не критиковал Л. Н. Гумилева, ограничившись парой безадресных абзацев» [50]. По мнению В. А. Кореняко, «Ю. В. Бромлей по сути уклонился от критики Л. Н. Гумилева, и последнему следовало дождаться серьезного критического анализа своих гипотез или смириться с тем, что академические специалисты не горят желанием вступать с ним в дискуссию» [50], но в том же году в журнале «публикуется подборка трех положительных рецензий на статью Л. Н. Гумилева. <…> Авторы комплиментарных откликов работали в ленинградских вузах. Возникла ситуация, довольно прозрачная и, по меркам того (к сожалению, не нынешнего) времени, неэтичная. Вряд ли у кого-то возникали сомнения в том, что эта серия комплиментарных отзывов была организована в Ленинграде самим Л. Н. Гумилевым» [50].
2) По всем признакам, Л. Н. Гумилев был еще и плагиатором, так как продвигаемые им идеи о хазарско-иудейской химере впервые появились в книге М. И. Артамонова «История хазар». «Лев Николаевич был редактором этой книги. Тождество рассуждений обоих исследователей таково, что возникает мысль, не помог ли редактор автору написать "Заключение". Но репутация М. И. Артамонова как самостоятельного и продуктивного исследователя безукоризненна. Речь может идти лишь о сомнительности приоритета Л. Н. Гумилева в „иудео-хазарском сюжете“» [50]. От себя заметим, что нещадной критике за эту трактовку истории, вовсе не за плагиаторство, на протяжении многих лет подвергался именно Л. Н. Гумилев, а не М. И. Артамонов.
3) Л. Н. Гумилев пользовался покровительством Анатолия Ивановича Лукьянова, который по мере своего продвижения по политической лестнице все настойчивее продвигал его работы в печать.
4) И, наконец, у Льва Николаевича, «не проработавшего в АН СССР ни дня, но рвавшегося на страницы академических журналов и к полиграфическим мощностям издательства „Наука“» [50], был такой «графоманский напор», что он застращал все научное сообщество. От него были вынуждены «защищаться» не только директор Института этнографии АН СССР Ю. В. Бромлей, но и вся Академия наук, давшая в 1987 году отрицательное заключение комиссии Отделения истории АН СССР о работах Л. Н. Гумилева по историко-этнической проблематике.
При сравнении пунктов 3 и 4 возникает вопрос: кто же на самом деле беззастенчиво пользовался административным ресурсом – Лев Николаевич, заинтересовавший своей теорией А. И. Лукьянова, но явно не имевший рычагов давления на кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, а затем Председателя Верховного Совета СССР, или его оппоненты?
В этой связи интересно описание А. В. Вороновичем истории издания монографии Л. Н. Гумилева по теории этногенеза. Начало этой истории не сулило особых проблем. Рукопись монографии получила ряд положительных заключений и в 1976 году «была включена в план издательства (судя по письму Л. Н. Гумилева в Президиум ВГО, написанному в 1978 г.). Работа была отредактирована (редактор издательства В. А. Афанасьев), в музее-квартире Л. Н. Гумилева сохранились верстка титула, оборота титула и содержания труда 1976 г. Но в 1978 г. книга была возвращена в Президиум ВГО с письмом главного редактора А. А. Фролова, в котором последний ссылался на рецензию этнографа Ю. В. Бромлея – в ней отмечалась аполитичность монографии и следовали „упреки в адрес Президиума ВГО, представившего работу к печати в 1974 г.“» [16].
Впрочем, одно другому не мешает: академическое научное сообщество «защищалось». Нам же пора переходить к тяжелой артиллерии идеологического фронта. Поэтому лишь отметим для себя, что в конце 70-х годов, на вкус Ю. В. Бромлея, труд Льва Николаевича, посвященный пассионарной теории, был аполитичен.
Десять лет спустя, в 1988 году, Ю. В. Бромлей неожиданно рассмотрел в пассионарной теории ростки антигуманизма: «…идея высокого процента пассионариев у одних народов и низкого у других (так сказать ущербных) – это лишь слегка закамуфлированная „учеными словами“ давняя концепция „полноценных“ и „неполноценных“ народов или этносов, концепция, мягко говоря, далеко не самая гуманистическая» [10]. А вскоре Лев Николаевич, по мнению критиков, созрел и до уровня идеолога националистов. Господин Л. С. Клейн в 1992 году писал: «…произведения Л. Н. Гумилева претендуют на то, чтобы стать знаменем для политических группировок шовинистического толка вроде „Памяти“» [42].
Понятно: где упоминание «Памяти», там и обвинения в антисемитизме. В. А. Шнирельман посвятил этому вопросу целую статью «Евразийцы и евреи», где писал, что Гумилев «выступал против смешанных браков, хотя и стремился отмежеваться от расизма», что он склонен «искать негативные примеры именно в истории взаимоотношений различных культур с евреями. Так, хотя к „народам торгашей“ он причисляет также флорентийцев и шотландцев, совершенно очевидно, что основной его пафос направлен против евреев» [129].
Господин Шнирельман так увлекся борьбой с «антисемитом» Гумилевым, что даже не счел нужным скрывать своих антироссийских (или русофобских?) взглядов, инкриминируя евразийцам, «что основной пафос евразийского движения сводился к сохранению во что бы то ни стало целостности Российского государства, независимо от того, будет ли оно называться Российской империей, СССР или Евразией» [129].
В. А. Кореняко в своем обзоре критики теории Л. Н. Гумилева отмечал: «Несколько авторов сочли возможным писать о моральных изъянах концепции Л. Н. Гумилева. <…> В. А. Шнирельман и С. А. Панарин указывали на „принципиальный исторический аморализм Гумилева“. Точнее было бы говорить об имморализме, этот термин лучше соответствует обычному ответу Л. Н. Гумилева на вопрос, как он может оправдывать все случаи захватов, агрессий и геноцидов, творившихся „пассионариями“ по отношению к менее „пассионарным“ современникам: „это не плохо и не хорошо“» [50].
Подобное цитирование можно продолжать до бесконечности. Очень хочется спросить уважаемых ученых, где они все это взяли, если мы с ними читали одни и те же работы Гумилева.
Когда речь идет о развитии этноса, прохождении им стадий детства, юности, зрелости и вступлении в пору старости, ставить вопрос об этнической полноценности или неполноценности противоестественно. В этом смысле все народы одинаково полноценны, но в разное историческое время.
О недостаточном владении Ю. В. Бромлеем критикуемого им предмета свидетельствует утверждение, что его «встревожила трактовка судьбы так называемых отсталых народов, отнесенных к числу субпассионариев, то есть тех, чей приниженный статус обусловлен якобы генетически» [10].
В жизни любых живых организмов, начиная с одноклеточных и заканчивая человеком, очень многое обусловлено генетически. Но специфика «отсталых народов», жесткость их адаптационных моделей, не позволяющая быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, определяется не изначальной особенностью генов, а естественным отбором, идущим в человеческой популяции. И направлен этот отбор в мемориальной стадии этногенеза на сохранение гармоничных особей, а вовсе не субпассионариев.
Против смешанных браков Лев Николаевич не выступал. Он лишь призывал к осмотрительности в этом вопросе и отмечал, что широкое распространение экзогамии в определенных условиях может привести к негативным и даже фатальным последствиям. Такая опасность существует, если речь идет о смешанных браках между представителями разных суперэтносов, и то не всегда. Достаточно вспомнить, что браки между представителями древнерусского этноса и ордынцами послужили основой для образования новой этнической общности – великороссов.
Иначе говоря, русские могут заключать браки с татарами, а белорусы с мордвой (государства уже разные, но суперэтнос один) без каких-либо негативных последствий. Если же мы начнем массово смешиваться с китайцами, то результат может быть непредсказуемым. И расовые предрассудки здесь ни при чем. В условиях пассионарного толчка из такого смешения может родиться новая этническая общность, а вне его воздействия образоваться химера. Проблема в том, что, даже зная о существующих возможностях, мы не можем их предугадать (пока).
Кроме того, для образования химеры необязательна активная метисация. Достаточно совместного проживания на одной территории народов, входящих в какой-либо суперэтнос (исторически распределивших обязанности и зоны ответственности, создавших систему сложных взаимосвязей в освоении кормящего ландшафта, т. е. занявших соответствующие экологические ниши), и народа, принадлежащего к иному суперэтносу и своей ниши[4] в создавшейся ситуации не нашедшего. Возлагать вину на весь такой народ бессмысленно и ошибочно, что не отменяет плачевных последствий для всех участников подобного совместного проживания.
В древней истории и в Средние века шансы оказаться в этой роли у евреев были велики, так как они были народом-изгнанником, вынужденным искать место под солнцем. В современном мире в подобном положении вполне могут оказаться вовсе не евреи, а индусы или китайцы в США, арабы в Западной Европе и т. д. Тем не менее, «иудео-хазарский сюжет» стал поводом для бесконечных обвинений Гумилева в антисемитизме, а довольно подробно описанная Львом Николаевичем турецкая химера такого бурного отклика не встретила. Ведь в турецком варианте никаких евреев не было, а были лишь наложницы самой разной этнической принадлежности, рожавшие своим повелителям детей, и христианские мальчики, из которых делали янычар. Не станут же представители европейских народов возмущаться тем, что их одноплеменники невольно развалили Османскую империю.
Впрочем, не можем не привести цитату из книги «Взлеты и провалы в истории этносов. О жизни и творчестве Л. Н. Гумилева – взгляд из XXI века» Ивана Юрьевича Смирнова, которого очень сложно заподозрить в недоброжелательном отношении к Гумилеву или в поверхностном знакомстве с его творчеством. И. Ю. Смирнов пишет, что «в беспристрастности и объективности по отношению к разным этносам Гумилева заподозрить невозможно, для него существовали любимые и нелюбимые этносы. К первому разряду принадлежали, прежде всего, тюркские и монгольские народы, ко второму разряду – в особенности китайцы и евреи. (Антикитайских высказываний у Гумилева можно насчитать значительно больше, чем антиеврейских.) Но подобная не украшавшая этнолога вкусовщина противоречила основам его теории. Ведь в соответствии с теорией ни „хороших“, ни „плохих“ этносов нет, этносы различаются по объективным признакам – приспособленности к тому или иному ландшафту и стадии этногенеза» [104].
Честно говоря, отметив «симпатию» Льва Николаевича к тюркским и монгольским народам[5], мы не заметили ярко выраженной неприязни к китайцам и евреям. Причиной нашей «близорукости», вероятно, послужило именно то, что его теория не предполагает подобной оценки: ни «хороших», ни «плохих» этносов нет. При этом глупо было бы отрицать, что Лев Николаевич, как всякий живой человек, мог иметь личные симпатии и антипатии. Их оценка с нашей стороны, со стороны И. Ю. Смирнова или так называемых «критиков» – тоже своего рода вкусовщина, которая не должна переноситься на пассионарную теорию.
Другим подтверждением «исторического аморализма Гумилева» стало якобы оправдание им межэтнических конфликтов, так как, согласно его теории, они происходят закономерно и зависят от особенностей этнических контактов на различных таксономических уровнях этнических систем и положительной или отрицательной комплиментарности между этносами.
Критикам такого рода следует обратиться к его основополагающей работе «Этногенез и биосфера Земли» (часть 9, глава XXXVII, раздел «Деяния и явления»). В ней Лев Николаевич обозначает четкую грань между понятиями «явление» и «деяние»: «…разница между явлением и деянием принципиальна, ибо деяния можно совершить или не совершить. Они лежат в полосе свободы» [26]. Проблемы, возникающие при межэтнических контактах, касаются «явлений», они обусловлены объективными причинами. Способы же разрешения этих проблем относятся к «деяниям», так как реализуются конкретными людьми и, следовательно, лежат в полосе свободы.
Как видим, ни геноцид, ни другие преступления, творящиеся в рамках межэтнических конфликтов, пассионарной теорией не оправдываются. Речь идет лишь о том, что «каждое преступление имеет фамилию, имя и отчество». Вроде бы все предельно ясно, остается только предполагать, что именно эту часть монографии Льва Николаевича пристальный взгляд критиков случайно обошел стороной. Но… ничего подобного.
В. И. Козлов в своих рассуждениях о путях «околоэтнической пассионарности» подробно останавливается на ней и даже цитирует, но заключение его гласит: «…схема рассуждений в духе логических построений концепции Л. Н. Гумилева приводит, как нетрудно заметить, к оправданию нацистских преступников, деяния которых были обусловлены якобы естественными силами и генетическими факторами» [48]. Этот вывод противоречит написанному Львом Николаевичем до такой степени, что вообще не подлежит обсуждению в рамках разговора о пассионарной теории. Обсуждать здесь можно только мотивы, заставившие серьезного ученого так грубо искажать факты.
Кроме того, В. И. Козлов утверждает, что в трактате Гумилева нет «признания хотя бы гипотетической возможности мирного сосуществования и тем более плодотворного сотрудничества различных народов или этнических групп; в нем нет ничего ни об этнообъединяющих идеях мировых религий (буддизма, христианства, ислама), ни об идеях интернационализма» [48]. На самом деле варианты мирного сосуществования и даже плодотворного межэтнического сотрудничества пассионарная теория этногенеза предусматривает: первые Л. Н. Гумилев назвал «ксениями», вторые – симбиозами.
Статья В. И. Козлова увидела свет в 1990 году, за год до развала СССР, надолго похоронившего под своими обломками дружбу народов, интернационализм, а также их гипотетические возможности. И произошло это после нескольких десятилетий ежедневных коллективных медитаций простых граждан и именитых советских ученых на тему мирного сосуществования. Так кто оказался прав? Лев Николаевич, ставивший неудобные вопросы, или его коллеги, прячущиеся от них за идеологическими штампами?
Что касается высокой степени идеологизации самой пассионарной теории, то доказательством полной несостоятельности этого обвинения является тот факт, что ее используют очень разные люди для оправдания или обоснования прямо противоположных взглядов. Если бы Лев Николаевич выдерживал какую-то определенную идеологическую линию, он бы не ухитрился подставиться под удар со всех сторон одновременно.
Возьмем для примера приснопамятную хазарско-иудейскую химеру. Вроде бы она является железобетонным доказательством антисемитизма Гумилева в копилке претензий его недоброжелателей. Отчасти это подтверждается тем, что в 90-е годы наши собственные националисты с выраженным шовинистическим уклоном очень любили приводить высказывания Л. Н. Гумилева, выхватывая их из контекста и оправдывая свою ксенофобию. Примечательно, что на их взгляд автор пассионарной теории был недостаточно определенен и последователен в этом вопросе. А историк А. Г. Кузьмин в статье «Хазарские страдания» писал, что, «раздувая» Хазарию, Л. Н. Гумилев возвышает ее над Русью.
Вот как описывает эту проблему историк Евгений Юрьевич Спицын: «…замшелую гипотезу о преобладающем влиянии огромного Хазарского каганата во всей Восточной Европе в настоящее время активно развивают и доморощенные норманисты (А. Новосельцев, В. Петрухин, И. Данилевский), и израильские сионисты (Н. Готлиб), и украинские националисты (О. И. Прицак), и даже „патриоты-евразийцы“ (Л. Гумилев, В. Кожинов), которым очень хочется найти среди основателей Древнерусского государства не только шведов, но и иудеев-хазар. В последнее время этот вопрос приобрел не просто острый, но крайне болезненный и актуальный для разных политических сил характер. В частности, „отмороженные“ сионисты стали заявлять свои претензии на обладание „исконной исторической прародиной“ еврейского народа, а наши „патриоты-евразийцы“, не оценив самой сути этих „научных“ открытий, ударились в другую крайность и стали говорить об особом периоде „хазарско-иудейского ига“ в истории Древней Руси» [112].
Это обвинение основано на выборочном восприятии трудов Гумилева. Следующая цитата из «Ритмов Евразии», неоконченной работы Льва Николаевича, показывает, что оценка подобным «научным» открытиям была Гумилевым дана: «Евреи, которые использовали караванные пути как экономические артерии, создали на территории Евразии только несколько колоний (крупнейшая и наиболее известная из них – Хазарский каганат). Они были элиминированы местным населением к X веку. Заметим, что мы не можем согласиться со взглядами А. Кестлера, автора теории „тринадцатого колена Израилева“, считавшего восточноевропейских евреев автохтонами. Этот взгляд не соответствует историческим фактам» [24].
Таким образом, по вопросу идеологических предпочтений Льва Николаевича в лагере оппонентов Гумилева произошел раскол. Одни клеймят его за антисемитизм, другие, как А. Г. Кузьмин или В. А. Чивилихин, недвусмысленно намекают на его русофобию и упрекают в отсутствии патриотизма. Сложно понять, как гумилевский «антипатриотизм» сочетается с обвинениями в адрес Льва Николаевича со стороны В. А. Шнирельмана в близости к евразийцам, для которых «единственным критерием оценки каких-либо действий или событий… <…> …было созвучие идее целостности Российского государства, то есть российский („евразийский“) национализм» [129].
Между тем И. Ю. Смирнов, прекрасно знающий работы Гумилева, полагает, что «нелепо ставить знак равенства между евразийцами и Гумилевым. Главные теоретические идеи Льва Николаевича вполне оригинальны и ни у кого не заимствованы. Гумилев гораздо глубже и интереснее, чем все евразийцы вместе взятые» [104]. Полностью влияние на создателя пассионарной теории евразийцев Смирнов не отрицает, но считает его не слишком благотворным. В части сохранения целостности Российского государства Смирнов, вероятно, вообще сомневается в близости позиций евразийцев и Гумилева.
Так, события в Афганистане и Чечне для Ивана Юрьевича практически тождественны. Этот взгляд он почему-то приписывает и Льву Николаевичу: «…известно, что Лев Николаевич недвусмысленно осуждал вторжение советских войск в Афганистан. Почему же по отношению к столь же бессмысленным и жестоким войнам в Чечне он должен был занять другую позицию?» [104]. Зададимся вопросом, как тогда быть с утверждением Гумилева, что «если Россия будет спасена, то только как евразийская держава» [24]? После вышеприведенных строк И. Ю. Смирнова напрашивается ответ – спасения России Гумилев не желал. Однако это противоречит всему, что мы знаем о Льве Николаевиче.
Каждый сумел найти в работах Льва Николаевича то, что сердцу мило, наглядно показывая, что имеет место субъективность прочтения работ Гумилева, а история – наука, которую на протяжении многих веков используют различные политические силы для обоснования своих, часто весьма фантастических, взглядов.
Знакомясь с аргументацией «научной критики», подобной уже приведенной, решительно перестаешь понимать, где заканчивается наука и начинается идеологическая вкусовщина. И в этой связи невозможно не вспомнить статью еще одного отечественного историка и философа Юрия Ивановича Семенова «Идеологическая мода в науке и скептицизм» (2003). Л. Н. Гумилев в ней упоминается, но очень коротко, с опорой на критические замечания других авторов (Л. С. Клейна, Я. С. Лурье и др.). Приведя некоторые их высказывания, Ю. И. Семенов этим и ограничивается, не дав понять читателю, знаком ли он с трудами Льва Николаевича лично, что простительно, так как статья посвящена иному предмету – борьбе с кумирами.
С зачином статьи невозможно не согласиться: «…чем больше человек в старые времена восхвалял марксизм, чем больше он громил тех, кого он объявлял отступниками от марксизма, ревизионистами, тем больше он в новую пору изощрялся в проклятиях этому учению… <…> …наши обществоведы, покончив с верой в тех кумиров, которых им раньше навязывали, отнюдь не стали свободомыслящими… <…> …наши гуманитарии по-прежнему остаются не свободомыслящими, а верующими, лишь сменившими одних богов на других… <…> …традиция лежать на брюхе не перед теми, так перед другими кумирами существует у русской гуманитарной интеллигенции уже давно – по существу, со времени появления на свет этой самой интеллигенции…» [102].
Далее идут перечисление новых кумиров и короткие критические развенчания каждого из них. В число кумиров угодили «О. Шпенглер, П. А. Сорокин, А. Дж. Тойнби, Л. Витгенштейн, К. Р. Поппер, Л. Фон Мизес, Ф. А. фон Хайек, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский, Л. Н. Гумилев и многие другие» [102]. Достается от автора статьи В. Н. Войновичу и «непрерывно деградировавшему» А. И. Солженицыну, а также Д. С. Лихачеву, который «начал высказываться чуть ли не по всем вопросам, включая такие, в которых он ничего не смыслил» [102]. Относительно представителей русской религиозной философии конца XIX – начала XX в. мы узнаем, что «никаких великих открытий русские религиозные философы не совершили, никакого вклада в развитие мировой философской мысли не внесли, ничем мировую культуру не обогатили» [102]. Однако…
Но с окончательным выводом Ю. М. Семенова опять не поспоришь: «Скептицизм ученого состоит в неприятии ничего на веру. Для ученого не существует авторитетов, которым он бы поверил на слово. Он не только может, но и должен ставить под сомнение все. <…> Для настоящего ученого в принципе неприемлемо понятие культовой фигуры и недопустимо существование в науке моды» [102]. Не претендуя на звание ученых, мы все же прислушаемся к этому совету и перейдем к анализу критики пассионарной теории по существу.
Здесь замечаний достаточно много. Начинаются они, как правило, с указаний на то, что сам предмет исследований не определен или, лучше сказать, неопределенен. Так, В. А. Кореняко, группируя критические замечания по отдельным направлениям, в первых рядах отмечает «отсутствие ясного, непротиворечивого определения этноса как исходного понятия концепции» [50]. И это правда. Возможно, определение этноса у Гумилева и непротиворечиво, но сделать такой вывод мешает именно отсутствие ясности.
Надо сказать, Лев Николаевич сам это прекрасно осознавал, когда писал, что «этнос – феномен биосферы, или системная целостность дискретного типа, работающая на геохимической энергии живого вещества, в согласии с принципом второго закона термодинамики, что подтверждается диахронической хронологией исторических событий. Если этого достаточно для понимания, то можно не читать книжку дальше» [26].
Непосвященный в сложности этнологии читатель после знакомства с таким определением приходит в состояние полнейшего недоумения. Неужели трудно сказать человеческим языком, что такое этнос? Трудно. Во всяком случае, до сих пор никто этого сделать не смог. С «человеческим языком» особых проблем не возникает, но вот критики ни одно существующее в российской науке определение этноса не выдерживает. В зарубежной этнологии применительно к термину «этничность» наблюдается та же картина.
Этничность и этнос – явления хотя и повсеместные, но очень сложные для понимания, а в отсутствие четкой дефиниции практически неуловимые, что подчеркивается всеми исследователями, но четкой дефиниции как не было, так и нет. Отечественный историк и этнолог Сергей Викторович Чешко писал по этому поводу: «Ситуация сложилась весьма своеобразная. Околонаучными популяризаторами „этнос“ объявляется главной социальной ценностью, а этнологическая наука по мере углубления исследований, кажется, все больше утрачивает ясность относительно существа того, что она этим термином обозначает» [127].
Наиболее часто в качестве маркеров этноса и этничности предлагались такие характеристики, как общность происхождения, территории, языка, особенностей культуры и быта. Так, советский этнограф Сергей Александрович Токарев еще в 1964 году писал, что «этническая общность есть такая общность людей, которая основывается на одном или нескольких видах социальных связей: общности происхождения, языка, территории, государственной принадлежности, экономических связей, культурного уклада, религии (если последняя имеется)» [97].
Однако большинством отечественных специалистов по этническим вопросам все перечисленные факторы впоследствии были проанализированы и подвергнуты критике. Практически единодушно были исключены из числа маркеров такие характеристики, как общность территории, происхождения, государственной принадлежности и экономики по той причине, что в большей части конкретных случаев они либо не являются обязательными, либо не выступают в качестве факторов, отличающих соседние этносы. Существуют полиэтнические государства и этносы, которые проживают на территории нескольких государств одновременно.
Попытка сведения этнических различий к особенностям языка и культуры также не принесла положительных результатов. Среди всего многообразия народов можно найти множество примеров, когда один народ говорит на двух или даже нескольких языках, и наоборот, когда представители разных этносов говорят на одном языке. В свою очередь культурные комплексы столь сложны и разнообразны, что не позволяют вычленить четкие критерии, которые могли бы выступить в качестве этнических признаков.
С. Е. Рыбаков пытался объяснить несостоятельность попыток научного сообщества выявить этнические маркеры следующим образом: «Привлекаемые „этнические признаки“ не могут адекватно определять собственно этничность, потому что они отражают феномены, которые сами вытекают из этнического и выступают в качестве его внешней феноменологии. Этническое – это не язык, культура или склад психики, но и не все перечисленное вместе; этническое – это „нечто“ само по себе, которое может лишь отслеживаться по указанным параметрам» [96]. С этим трудно не согласиться, однако вывод, что этничность – «нечто» само по себе, оптимизма не внушает.
Таким образом, как отмечал Л. Н. Гумилев, «у нас нет ни одного реального признака для определения любого этноса как такового, хотя в мире не было и нет человеческой особи, которая была бы внеэтнична. Все перечисленные признаки определяют этнос „иногда“, а совокупность их вообще ничего не определяет» [26]. Сам Лев Николаевич полагал, что признаком, отделяющим один этнос от другого, могут служить модели поведения, так как любой этнос формируется в неповторимых условиях ландшафта, климата, этнического окружения, которые накладывают неизгладимый отпечаток на поведенческие паттерны его членов.
Большинство критиков категорически возражает против такого подхода, иногда в форме довольно экзотической. Так, Л. С. Клейн противопоставляет взгляду Гумилева свой, «противоположный», который базируется на одной из «весьма разработанных концепций этноса, признаваемых в советской и мировой науке» [42]. Опираясь на эту «наиболее авторитетную» концепцию, он пишет: «…если исходить из принятого подведения под понятие „этноса“ таких общностей, как племя, народность, нация, то какие признаки являются общими для них всех? По каким признакам люди отличают одну нацию или народность от другой? А как когда. То по языку, то по происхождению, то по религии, то по расе, то по обычаям или стереотипам поведения (национальному характеру), то по комбинации нескольких из этих признаков» [42]. То есть у Гумилева признаком этноса является стереотип поведения, а в «наиболее авторитетной» концепции – «как когда». Что называется, почувствуйте разницу.
С некоторых пор выход из столь затруднительного положения, казалось, был найден с помощью нового универсального маркера, которым стало «этническое самосознание». Наиболее разработана эта тема у Ю. В. Бромлея, который во главе группы ученых создал дуалистическую теорию этноса. Судя по всему, на эту теорию и ссылается Л. С. Клейн, так как именно она пользовалась наибольшим признанием среди отечественных специалистов на протяжении длительного времени (начиная с 70-х и вплоть до 90-х годов XX века).
Ее дуализм заключается в разделении понятия «этнос» на узкое (этникос) и широкое (этносоциальный организм, или ЭСО). ЭСО описывает те стороны жизни этноса, которые связаны с его социальным функционированием. Этникос же является его основой. Он сопряжен с социальным организмом и понимается как носитель собственно этнических свойств и характеристик (языка, специфики культуры, этнического самосознания и т. д.).
Основным этнодифференцирующим признаком служит этническое самосознание, которое также делится на два взаимосвязанных уровня (личностный и надличностный). На уровне этнической общности это не что иное, как одна из форм общественного сознания, которая «как функционирующая реальность проявляется лишь, будучи актуализированным мышлением отдельных людей» [11]. Формирование личностного самосознания идет постепенно в ходе социализации и под влиянием сложившихся этнических стереотипов.
Как культура этнической общности не является суммой индивидуальных культур ее членов, так и этническое самосознание не образуется из простого сложения самосознаний индивидов. Индивидуальные особенности культуры и самосознания вариативны и допускают отклонения от общепринятых образцов. Но культура и самосознание этнической общности приоритетны: «сначала формируется содержание общественного сознания, а потом уже и индивидуального» [11].
Остается неясным, откуда берется этническое самосознание «как форма общественного сознания» в период становления нового этноса, когда люди, составляющие этот нарождающийся этнос, еще не только не имели возможности социализироваться соответствующим образом, но и были социализированы как члены других этносов. При этом Бромлей утверждает, что этнические общности «принадлежат к тем совокупностям людей, для которых самосознание выступает непременным компонентом – без самосознания нет этнической общности» [11]. Образуется замкнутый круг: без этнического самосознания нет этноса, а без этноса неоткуда взяться этническому самосознанию.
Проще всего поступили конструктивисты – заменили этническое самосознание понятием этнической идентичности, предполагающим субъективный характер чувства этнической принадлежности. Конечно, как и любая другая, этническая идентичность формируется в процессе социализации, но поскольку жесткой привязки к этносу как объективной реальности нет, то не существует ни преград, ни противоречий. Впрочем, и этноса тоже нет, по крайней мере, с 2004 года, когда наш главный конструктивист В. А. Тишков исполнил «Реквием по этносу» (название его работы).
Гумилев же, с точки зрения Тишкова, «выстроил упрощенную, далекую от действительности схему, игнорировавшую социальные и политические факторы, которые и создают устойчивые общности людей. В его работах мы не найдем ни человека, ни межличностных взаимоотношений, ни индивидуальных стратегий поведения, включая то, что сегодня ученые называют множественной, символической этничностью. Зато в его работах и в работах его последователей мы встречаем только коллективности, которые, по Гумилеву, и определяют характер и поведение человека. Поведение этих коллективностей Гумилев выводил из их культурной спайности и взаимоотношений с местной природной средой. От индивида в этой парадигме ничего не зависело, ибо он являлся рабом своей культуры, к которой он был якобы жестко привязан на протяжении всей своей жизни» [116]. Где-то мы уже все это слышали. Остается только «космополитически воспарить».
Надо сказать, что приведенное выше определение Л. Н. Гумилевым этноса – не единственное. Из имеющихся в его работах определений, освещающих ту или иную сторону этноса и этногенеза, а также пояснений к ним видно, что этнос – продукт биосферы, хотя и облеченный в социальную оболочку, которая является способом адаптации человека к первичной окружающей среде. Люди, невзирая на все технические достижения человечества, продолжают оставаться частью биосферы, входя в различные биоценозы в качестве верхней ступени трофической цепи. Возникновение и развитие этносов подчиняются не столько социальным, сколько естественным законам природы, т. е. социальным, конечно, подчиняются, но в той мере, в которой они природным не противоречат, так как естественные законы первичны. В естественной (природной) сфере находится тот самый «фактор Х», который ответственен за возникновение новых этносов.
Этнос является саморазвивающейся динамической системой, в которой определяющую роль играют внутренние связи, создающие ее структуру. Связи эти носят социальный характер и строятся на почве взаимодействия групп людей в культурной и хозяйственной сферах, но в основе их возникновения и разрушения лежат природные закономерности, без учета которых эти процессы не могут быть до конца поняты и всесторонне объяснены.
Спираль развития человечества в целом обусловлена двумя типами движения: циклическим, состоящим из бесконечной череды этногенезов, и поступательным, под которым мы подразумеваем прогресс. В своей основе этногенез имеет закономерности, присущие любому природному циклу, но каждый новый виток этногенеза происходит на новом уровне прогрессивного развития, вызывая иллюзию поступательности всего процесса. «Между филогенезом и этногенезом есть известная, хотя и не полная аналогия, тогда как прогрессивное социальное развитие подчиняется совсем другим закономерностям, описанным в теории исторического материализма с исчерпывающей полнотой» [26].
Критики пассионарной теории В. А. Шнирельман и С. А. Панарин факт множественности определений этноса, данных Львом Николаевичем, отмечают, говоря, что «определения этноса, густо рассыпанные по основным произведениям Гумилева, вызывают лишь недоумение. И не потому, что иному читателю заключенное в них понимание этноса может показаться небесспорным, а потому, что слишком часто одно из них совершенно не согласуется с другим» [128]. Недоумение читателя, по мнению двух критиков, должно проистекать из несовместимости двух групп определений, в одной из которых утверждается, что этнос – явление природное, а в другой говорится о социальных проявлениях этнического.
«О какой биологии вообще можно говорить, если человек обретает этническое посредством воспитания?» [128] – патетически вопрошают Шнирельман и Панарин. Как будто ребенок, приучаясь посредством воспитания к горшку, одновременно перестает подчиняться законам физиологии, а повзрослев и став доктором или кандидатом каких-нибудь гуманитарных наук, споткнувшись, не падает, а взмывает вверх, презрев закон всемирного тяготения. Приблизительно в таком ключе отвечал Лев Николаевич своим оппонентам и совершенно напрасно тратил время. Совместить биологическое с социальным некоторые ученые-гуманитарии категорически не способны.
«Биологизация» этноса является одним из основных раздражающих критиков факторов в теории Л. Н. Гумилева. Научное обоснование такого неприятия практически отсутствует, если не считать, что «никогда и никто не пытался истолковать в социальном аспекте гравитацию или электропроводимость, эпидемии или половое влечение, смерть или наследственность, ибо это область естествознания» [47]. Кроме того, оно (неприятие) вновь густо замешано на идеологии. Мотив этот часто звучит вполне откровенно: «Вообще гиперболизация в этносах биологического начала за счет социального не столь безобидна, как это может показаться на первый взгляд (особенно в современных условиях, когда важнейшее значение приобретает задача взвешенного подхода и осмотрительности во всем, что затрагивает национальные чувства)» [10]. По стремлению к политкорректности в ущерб здравому смыслу некоторые наши ученые давно могут соперничать и с американцами, и с европейцами.
Но наиболее слабым с точки зрения критиков звеном теории Гумилева является сама пассионарность и гипотеза космической природы пассионарных толчков, что вполне закономерно. Как известно, гипотеза является научным предположением, выдвигаемым для объяснения какого-либо явления. Предположительный характер гипотезы не является основанием для отрицания основанной на ней теории, если гипотеза отвечает целому ряду требований, в частности если она не противоречит существующему научному знанию. Это всем хорошо известно, но поскольку в данном случае гипотеза не только не является доказанным фактом, но и примыкает к области естествознания, еще не вполне изученной, проще всего объявить, что она противоречит современной научной картине мира.
Сложнее подобрать основания для выявления такого противоречия. Поэтому большинство критиков объявляет предположение о космической природе взрыва пассионарности антинаучным по принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Некоторые, пытаясь представить Гумилева «основателем некоего учения, сотканного из противоречий, недоказуемых постулатов и мифологем» [128], откровенно лукавят, утверждая, что Лев Николаевич не потрудился для начала поискать причину этому явлению на Земле[6].
Но это еще полбеды. От Л. С. Клейна, протестующего против предполагаемого Гумилевым внеземного происхождения энергии пассионарного толчка, мы узнаем следующее: «Изменение этносов – не изменение материальных тел, а прежде всего – изменение сознания. Те изменения, которые происходят с материальными объектами при всяких этнических преобразованиях – это сопутствующие процессы. Энергия на них идет не из этнической сферы. Но даже если бы этносы были материальными массивами, их изменения вовсе не обязательно должны требовать какой-то дополнительной энергии извне. Ведь достаточно просто перераспределить наличную энергию, т. е. нужны изменения в сфере руководства процессами, нужны идеи, изменения в мозгу. А на них тратятся микроскопические дозы энергии» [42].
Итак, этносы, состоящие из людей, – не «материальные массивы», для их изменения не нужна энергия, достаточно лишь перераспределить уже имеющуюся, неизвестно откуда взявшуюся, а для этого необходимы всего-то «изменения в мозгу», требующие «микроскопических доз энергии». Действительно, изменение сознания без участия вполне материального мозга невозможно, так как сознание и мышление – это функции его высших отделов. Но специалисты в области работы мозга крайне были бы озадачены откровением относительно «микроскопических доз энергии», так как известно, что именно мозг наиболее энергетически прожорливый орган человеческого организма.
Становится понятно, почему Л. С. Клейн, имеющий столь оригинальный взгляд на соотношение материи и духа, обвиняет Гумилева в вульгарном материализме. Ясности в вопросе происхождения пассионарных толчков после этого у нас, конечно, не прибавилось, но теперь мы точно знаем, что Лев Николаевич и его критики по целому ряду вопросов говорили на разных языках и понять друг друга не имели никакой возможности.
Таким образом, восприятие теории пассионарности в основе своей имеет мировоззренческий характер и определяется взглядами оценивающего «на соотношение природы и общественного человека» [26]. Сам Гумилев выделял три точки зрения, существующие по этому вопросу. Первая относит человека и его деятельность всецело к природным явлениям. Это и есть природный детерминизм. Подлинный природный детерминизм на современном этапе развития науки можно считать большой редкостью.
Вторая признает, что когда-то человек был неотъемлемой частью природы, но на современном этапе жестко разделяет социальное и природное, считая «все феномены, связанные с человечеством, социальными, делая исключение лишь для анатомии и отчасти физиологии» [26].
Третья точка зрения заключается в том, что в «антропогенных процессах различаются проявления общественной и комплекса природных (механическая, физическая, химическая и биологическая) форм движения материи» [26]. Она в современной науке представлена, но не в гуманитарной, как правило, среде. Среди авторитетных представителей естественных наук вопросы к теории Гумилева возникают. Однако она не объявляется на этом основании антинаучной.
В работе «Синергетика и прогнозы будущего» (С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий) можно встретить такую оценку теории Льва Николаевича: «Эта концепция представляется глубокой и содержательной, однако ее использование в математическом моделировании требует ответа на вопрос, каким образом пассионарность, хотя бы в принципе, может быть измерена. <…> В этой самосогласованной и убедительной концепции, подтвержденной многочисленными историческими изысканиями, наиболее уязвимым моментом, вероятно, является начальная стадия возникновения этноса, так называемый пассионарный толчок. Сам автор концепции связывал его с некими „мутациями“ либо с неизвестными космофизическими факторами. Развитие нелинейной динамики показывает, что можно обойтись без этих не вполне понятных и вызывающих сомнение сущностей. Возможности для этого предоставляет активно развиваемая в последние годы теория самоорганизованной критичности» [39].
Синергетический подход не отделяет этносы от других систем и решает практические вопросы прогнозирования, оставляя за рамками своих интересов фундаментальные вопросы природы этносов. Тем не менее, мы видим, что авторы работы не отвергают принципиальной возможности обсуждения положений теории пассионарности. Вообще, как отмечает Анатолий Иванович Чистобаев, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, труды Льва Николаевича были высоко оценены представителями точных и естественных наук.
Можно привести и примеры отсутствия непреодолимых противоречий между концепцией Гумилева и некоторыми этнологическими теориями, но это обстоятельство обыкновенно категорически отрицается, так как фигура Льва Николаевича стараниями критиков стала токсичной; никто не хочет компрометировать себя подобными параллелями.
Большой редкостью среди этнологов является подход к проблеме, который был продемонстрирован историком и этнологом Сергеем Викторовичем Чешко в статье «Человек и этничность»: «Совсем не обязательно соглашаться с географо-энергетической интерпретацией этноса Гумилевым, с биологизацией этноса Широкогоровым. Однако оба исследователя, как мне кажется, наметили интересный подход к интерпретации той, „заопытной“ области этничности, в которой, наверное, и скрывается ее суть. Если „очистить“ этничность от всех сопутствующих ей переменчивых факторов, внешних атрибутов, ситуативных проявлений, то она обнаружит себя как недетерминированный никакими материальными причинами социальный инстинкт – инстинкт коллективности. Но не какой-то ойкуменической „соборности“, а именно коллективности, т. е. единства двух противоположных начал – группирования и разделения. Человек не может существовать в одиночку, а человечество не может существовать в недифференцированном (несгруппированном) виде» [127].
Здесь можно спорить о «недетерминированности никакими материальными причинами социального инстинкта», так как по Гумилеву он имеет волновую, т. е. материальную природу, но появляется поле для дискуссии. Однако в современном мире глобализации, стремящемся стереть национальные границы, взгляд на этносы как исключительно социальное, т. е. конструируемое (квазиреальное) явление преобладает.
Все вышеперечисленное делает сомнительной аргументацию «антикосмической» критики пассионарных толчков и вообще пассионарности со стороны оппонентов Л. Н. Гумилева. На критике пассионарности как заимствования из пресловутой теории «героев и толпы» Николая Константиновича Михайловского мы подробно останавливаться не будем, так как в ней (критике) нет ничего кроме искажения смысла текстов Гумилева и традиционного возмущения по поводу превозношения «героев» и умаления обычных людей, представителей «толпы».
Скажем только, что и Михайловский не имел в виду того, что ему вменяется. Он четко определял, что «герой» – «не первый любовник романа и не человек, совершающий великий подвиг. Наш герой может, пожалуй, быть и тем и другим, но не в этом заключается та его черта, которой мы теперь интересуемся. Наш герой просто первый „ломает лед“, как говорят французы, делает тот решительный шаг, которого трепетно ждет толпа, чтобы со стремительной силой броситься в ту или другую сторону. И не сам по себе для нас герой важен, а лишь ради вызываемого им массового движения. Сам по себе он может быть, как уже сказано, и полоумным, и негодяем, и глупцом, нимало не интересным» [73].
Иногда в работах Льва Николаевича встречаются то ли фактические ошибки, то ли недоразумения. И. Ю. Смирнов указывает на то, что среди причин, «породивших в научных кругах недоверчивое и скептическое отношение к теории этногенеза, нельзя не указать содержащиеся в трудах этнолога очевидные фактические ошибки» [104]. Иван Юрьевич даже приводит небольшой список ошибок, которые в «досадном количестве» встречаются в «Этногенезе и биосфере Земли». В этом перечне фигурируют то «невероятные „угро-самоеды“ (с. 194), то не менее фантастический „протомалайский этнос Юе“ (с. 169). Автор смешивает батат с картофелем и заставляет полинезийцев плавать на бальсовых плотах (с. 297)» [104].
Кажется сомнительным, что географ Гумилев путал батат с картофелем, а комментарии И. Ю. Смирнова, разъясняющие разницу между угорской и самодийской («самоедской») языковыми группами или просвещающие относительно этнонима Юе, наводят на мысль, что Лев Николаевич вполне мог разбираться в этих вопросах, но и на них иметь свой оригинальный взгляд. Не факт, что этот взгляд был верным. Поэтому можно считать это фактическими ошибками или предъявлять претензии в связи с отсутствием каких-либо пояснений на этот счет, но сложно не согласиться с Иваном Юрьевичем Смирновым в том, что «мелочные придирки из-за ошибок по частным вопросам» [104] будут несправедливыми.
В защиту этой позиции Смирнов даже проводит параллель с Кантом: «Иммануил Кант в своих лекциях по географии в Кенигсбергском университете сообщал студентам, что бывают хвостатые люди, а живут они в степях вблизи Оренбурга. <…> Однако стоит ли принимать в расчет подобные заблуждения при общей оценке великого немецкого философа? Очевидно, это было бы несправедливо. <…> Так что следует ценить те оригинальные идеи, которые выдвигал Лев Николаевич, и не придавать первостепенного внимания его ошибкам» [104].
Взвешенно следует подходить и к интерпретации тех или иных исторических фактов и событий. Их оценка – практически всегда вопрос крайне субъективный. В связи с этим надо сказать несколько слов об исторических фактах, их трактовке и непоколебимой вере в летописные источники.
Когда Л. Н. Гумилева обвиняют в жонглировании фактами и их вольной интерпретации, следует понимать, что подобные претензии можно предъявить практически любому историку, так как в значительной степени история и есть интерпретация, то есть объяснение, истолкование того, что нам неизвестно доподлинно. А часто и «известное» есть не что иное, как более ранняя трактовка. «Вольность» же доказуема только тогда, когда имеют место нарушение логики и противоречие фактам – фактам, а не их интерпретации, даже авторитетной.
Простой пример. Известно, что Александр Невский умер в ноябре 1263 года в Городце, возвращаясь из Орды. Существует несколько версий относительно причин его смерти. Доминирующей является версия естественных причин. Но есть и сторонники версии отравления князя в Орде. Большинство из них полагает, что отравители – ордынцы, а Л. Н. Гумилев – что если кто и отравил, так это европейцы, которых в Орде тоже было много.
Так вот, смерть Александра Невского – это исторический факт. Обстоятельства ее (время, место и т. п.) – тоже, если они подтверждаются разными независимыми источниками. Причины смерти – интерпретация, непосредственно зависящая от взгляда интерпретатора на взаимоотношения между Русью, Ордой и Европой, то есть от решения вопроса «кому выгодно?»[7]. При этом, как правило, сторонники одного взгляда объявляют свою трактовку убедительной версией, а соображения оппонента – домыслами.
Еще больше осложняется попытка найти истину, когда более или менее нормальная дискуссия подменяется противостоянием «общепринятой точки зрения» и «фантазиями» неких маргиналов. В этом случае вес каких-либо доказательств совершенно обесценивается, а определяющим победителя фактором становится информационный ресурс и авторитет (иногда реальный, нередко сомнительный) в научных кругах. Столкновения Гумилева и его оппонентов по поводу конкретных исторических событий чаще всего носят именно такой характер, что, конечно, не делает Льва Николаевича правым автоматически, но должно приниматься во внимание.
Теперь о летописях. Мы часто забываем, что летописец – всего лишь человек, который может ошибаться, «врать как очевидец» и даже быть ангажированным кем-то. Это относится к «летописцам» всех времен и народов, независимо от их орудия труда (перо, пишущая машинка или ПК). Как писал Д. С. Лихачев, «источники могут тенденциозно искажать факты, следуя каким-то своим концепциям и раскрывая свои идеи. Поэтому задача историка не сводится к выбору источника своего повествования, а она заключена в открытии истины, сознательно спрятанной автором-современником» [61].
Однако нельзя сказать, что критики Гумилева отрицают значение этого фактора. И в этом смысле их методологические претензии к историческим трактовкам Льва Николаевича до известной степени оправданны. Гумилева часто упрекают в пренебрежении к источниковедению вообще и методу научной критики исторических источников в частности.
Так, Яков Соломонович Лурье в статье «К истории одной дискуссии» отмечает принципиальное различие между догадками, «простыми предположениями о возможности того или иного» и гипотезами, вытекающими в работе историка из анализа источников: «Науки о прошлом отличаются от иных эмпирических наук недоступностью „непосредственного наблюдения“. Тем более недопустимым представляется введение в эти науки построений, не вытекающих с необходимостью из материала источников» [65]. Гумилев же «начисто отвергает всякое источниковедение, объявляя его „мелочеведением“, при котором „теряется сам предмет исследования“» [65].
«Мелочеведение» – термин Гумилева (на наш субъективный взгляд, очень удачный), но вряд ли справедливо обвинение, что Лев Николаевич вообще отвергал какое-либо значение исторических источников. Однако вопрос «откуда взял Гумилев известия о…?» вполне обоснован. В данном случае недоумение Я. С. Лурье касается хана Мамая и его договоренностей с генуэзцами, но список этот можно долго продолжать, так как Лев Николаевич, делясь с читателями своими выводами, далеко не всегда давал себе труд объяснить, откуда они взялись.
Сложнее согласиться со следующей мыслью Я. С. Лурье: «Летописцы могли быть и часто действительно были тенденциозны, но эта тенденция отражалась в первую очередь на описании событий близкого им времени. В изложении событий далекой древности она выражалась лишь в отстаивании исконных династических прав Рюриковичей. Главное, к чему стремились составители ПВЛ и Начального свода, – разобраться в противоречивых и часто легендарных сказаниях о событиях IX–X вв. и, по возможности, датировать их. Подозревать Нестора и его предшественника конца XI в. (которого уж никак нельзя обвинить в „западничестве“) в коварных умыслах при изложении событий давно минувших лет нет оснований» [64]. Перед нами чистой воды интерпретация, субъективный взгляд самого Лурье, так как его убеждение в отсутствии «коварного умысла» предшественника Нестора и объяснение якобы истинных мотивов последнего не менее бездоказательны, чем противоположное мнение Гумилева.
Спорно и утверждение Лурье, что провалы в летописании исторических событий не подлежат трактовке: источники могли не сохраниться по объективным причинам, но могли быть и сознательно уничтожены. Последнее требует мотива и открывает широкое поле для различных толкований. Таким образом, в полемике относительно исторических фактов и их летописного отражения мы часто видим противоположные точки зрения Гумилева и его оппонентов одинаковой степени (в лучшем для оппонентов случае) субъективности.
Однако метод доказательств, используемый Гумилевым, не бесспорен, так как сами исторические события, призванные проиллюстрировать и доказать теорию этногенеза, трактуются сквозь призму положений этой, еще не доказанной, теории. Поэтому иллюстрациями к ней исторические примеры являются, но в качестве исчерпывающей доказательной базы не могут быть приняты, так как отбиться в этой ситуации от обвинений в тенденциозном их подборе попросту невозможно.
Наряду со спорностью ряда исторических трактовок в произведениях Льва Николаевича можно найти противоречия, которые часто смущают даже его сторонников. Одним из критериев, которыми руководствуется наука, стремясь к объективности и достоверности полученных результатов, является критерий внутренней непротиворечивости, которая обеспечивается соблюдением основных законов логики в рассуждениях и выводах ученого. Работы Льва Николаевича с этой точки зрения не всегда выглядят безупречными.
Так, например, возникает путаница, связанная с понятиями эгоистической и антиэгоистической этики. Пассионарность Гумилев трактует как качество, противоположное инстинкту выживания. В одном случае он пишет, что оно исключает лишь равнодушие, с равной степенью «порождая подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо и зло», в другом отмечает антиэгоистическую направленность пассионариев, «где интересы коллектива, пусть даже неверно понятые, превалируют над жаждой жизни и заботой о собственном потомстве» [26].
При более подробном знакомстве с теорией этногенеза мы обнаруживаем, что эта направленность в акматической фазе проявляет себя каким-то странным образом и более всего напоминает эгоизм в чистом виде. Однако для Льва Николаевича в этом никакого противоречия нет, и в этом случае он отмечает наличие высокой внутренней ответственности перед коллективом, понимаемым в узком смысле, – перед кланом, родом и т. п. Но коллектив этот в акматической фазе столь часто и кардинально противопоставляет свои интересы общественным, что грань между эгоизмом и альтруизмом размывается совершенно. Все зависит от того, с какой точки зрения наблюдатель оценивает соответствующее деяние – с точки зрения общественной пользы в широком смысле или узкоклановых, семейных и прочих групповых интересов.
Разбираясь с этим вопросом еще более подробно, мы обнаружим, что эгоизм и альтруизм в общепринятом смысле – это вообще не о пассионарности. Пассионарность противоположна лишь эгоизму, понимаемому как приоритет инстинкта выживания перед всеми остальными побуждениями, т. е. в чисто биологическом смысле. На уровне социального поведения, согласно теории Гумилева, примешивается такой фактор, как аттрактивность, противопоставляемая «разумному эгоизму».
Увлекаясь какой-либо мыслью, Лев Николаевич не всегда достаточно четко ее формулирует; еще чаще искажения вносятся благодаря произвольной трактовке читателем терминологии, предложенной Гумилевым. Таким образом, чтобы разобраться в некоторых разночтениях, необходимо основательно «вжиться» в его теорию, но даже в этом случае остается риск субъективных трактовок, делающих их дискуссионными. Возникает законный вопрос: существуют ли причины, служащие оправданием этому занятию, стоит ли тратить на это время и силы?
Положительный ответ на этот вопрос, основанный на непреходящей актуальности поднятых Гумилевым проблем, и побудил автора к написанию данной работы, состоящей из четырех частей. Первая часть содержит некоторые пояснения к самой теории этногенеза. Их необходимость связана с двумя обстоятельствами: повсеместным искажением смысла базовых понятий, введенных Гумилевым, и обилием исторических примеров, фактов и их интерпретаций, сквозь дебри которых Лев Николаевич пытается подвести своего читателя к пониманию сути этногенетических преобразований в процессе развития этнических систем.
Л. Н. Гумилев писал: «…прежде чем излагать историю страны или народа, надо увидеть ее самому, а смотреть тоже можно по-разному: с птичьего полета, с вершины холма, из мышиной норы. В каждом случае мы что-то заметим, а что-то упустим, но совместить все три уровня рассмотрения невозможно» [23].
Сам Лев Николаевич, обладая прекрасной памятью и высокой эрудицией, превосходно себя чувствовал на всех уровнях и легко между ними перемещался. Надо отметить прием, позволяющий Гумилеву оставаться на соответствующей высоте, высоте птичьего полета, – широкую панораму. Это означает, что рассматривается огромная территория, иногда большая часть Евразии целиком. Взгляд автора охватывает ее всю, при необходимости фокусируясь на какой-то конкретной пространственно-временной точке. Следует перечисление имен и дат, описание событий и их объяснения с точки зрения той или иной фазы этногенеза.
Неподготовленный читатель[8] непроизвольно соскальзывает на другой уровень рассмотрения, пытаясь разобраться с предложенной информацией и ее трактовкой, вольно или невольно застревает на деталях. Перспектива неизбежно теряется. А Лев Николаевич уже за тысячу километров, нырнул в очередной водоворот событий. Эта особенность работ Гумилева отмечается не только критиками. В качестве примера можно привести замечание редактора одной из книг Льва Николаевича, который вполне расположен к ее автору: «Ваша книга так насыщена историческим материалом, и так легко и свободно Вы с ним обращаетесь, что читатель, уйдя в интереснейшую фактологию, подчас теряет логику Вашей научной мысли» [21].
Однако Гумилев предложил теорию такой степени обобщения, что уровень восприятия «с высоты птичьего полета» должен непременно присутствовать. Под иным углом зрения адекватно ее воспринять невозможно. Спуски на другие уровни необходимы для формирования связей между кусочками исторического пазла, но целостному восприятию алгоритма развития этноса они часто мешают. Поэтому максимально схематичное и упрощенное изложение динамики этногенеза может оказаться не только полезным, но и необходимым.
Вторая часть работы посвящена краткому рассмотрению истории Руси и России с опорой на положения теории этногенеза. Основная задача ее заключается в демонстрации того, что даже противоположные гумилевским трактовки исторических событий не служат подтверждением ошибочности его теории, а зачастую косвенно ее подтверждают.
За основу были взяты труды таких авторитетов исторической науки, не запятнавших себя пренебрежением к историческим источникам, как Н. М. Карамзин[9], В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов. При обращении к работам этих именитых историков видно, что многие выводы Гумилева, даже формально противореча выводам их авторов, прямо следуют из приведенных ими фактов и имеющихся в их логических построениях противоречий. Некоторые трактовки исторических событий Львом Николаевичем мы позволили себе подвергнуть сомнению, но исходили при этом исключительно из положений его теории.
Задача третьей части – небольшая иллюстрация того, как естественный ход этногенеза и его возможные искажения придают развитию этноса в разных исторических обстоятельствах индивидуальную неповторимость, за которой, тем не менее, можно разглядеть общие закономерности. Наконец, четвертая посвящена картине дня сегодняшнего. Если теория Гумилева в основе своей верна, то она должна непротиворечиво описывать современный мир и обладать определенной прогностической ценностью.
Предлагаемая читателю работа не претендует на научность и является приглашением к размышлению на тему, которая нам представляется важной. Автор оставляет за собой право высказывать собственные соображения по тем или иным вопросам, касающимся теории Гумилева, а также выражать сомнение или несогласие с некоторыми выводами Льва Николаевича.
Часть I
Глава 1. Пассионарность и ее свойства
Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»
Понятие «пассионарность», предложенное Львом Николаевичем Гумилевым, является для теории этногенеза основополагающим. Возникновение новых этнических систем сопровождается всплеском рождения людей пассионарных, а изменение количества пассионарной энергии в этнической системе влечет за собой смену фаз этногенеза. Поэтому так важно понимать смысл понятий «пассионарность» и «пассионарий». Тем более что при полнейшем пренебрежении научного сообщества к теории этногенеза в целом термин «пассионарность» получил как в обывательской, так и в научной среде широкое распространение, и часто можно наблюдать, как даже серьезные эксперты употребляют его весьма вольно.
Под пассионарностью Лев Николаевич Гумилев понимал избыток биохимической энергии, который определяет способность к сверхнапряжению. В поведении людей (пассионариев) эта энергия порождает страстность и жертвенность. «Для пассионариев характерно посвящение себя той или иной цели, преследуемой иной раз на протяжении всей жизни» [26]. Ради этой цели, часто иллюзорной, как отмечает Гумилев, пассионарий готов жертвовать всем, в том числе и своей жизнью.
Механизм проявления пассионарности не вполне ясен и самому автору теории: «Мы не беремся судить: лежит ли в основе пассионарности единый ген или комбинация генов, рецессивный этот признак или доминантный, связан ли он с нервной или гормональной деятельностью организма?» [26]. Но несомненным для Льва Николаевича является то, что природа ее лежит в плоскости биологического, передается этот признак по наследству и тесно связан с областью подсознания.
Однако на любых этапах развития этноса пассионарии не составляют большинство популяции. Основная часть населения состоит из гармоничных особей. Для подавляющего большинства нормальных людей «безудержное сгорание другого человека, немыслимое без пассионарного принесения себя в жертву… <…> …чуждо и антипатично» [26]. Это люди «интеллектуально полноценные, работоспособные, уживчивые, но не сверхактивные» [26]. Они являются очень важным этническим элементом, т. к. «умеряют вспышки пассионарности, умножают материальные ценности по уже созданным образцам» и «вполне могут обходиться без пассионариев до тех пор, пока не появится внешний враг» [26]. Короче говоря, в массе своей это законопослушный обыватель, который соблюдает традиции, для которого стабильность важнее перемен, на постоянных, каждодневных усилиях которого держится вся хозяйственная жизнь этнической системы. Но когда появляется внешний враг, эти люди, даже имея значительный численный перевес, не в состоянии без пассионариев организовать сколь-нибудь серьезное сопротивление.
По этому поводу могут возникнуть возражения: как же тогда быть с известными примерами массового героизма? Для того чтобы понять, что здесь нет никакого противоречия, необходимо обратиться к свойствам пассионарности. Гумилев совершенно определенно пишет, что «пассионарность заразительна. Это значит, что люди гармоничные…<…>… оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны» [26]. Лев Николаевич приводит много примеров этого свойства пассионарности, которое он называет пассионарной индукцией.
Пассионарная индукция очень похожа на явление «заражения» в толпе. Вот что пишет о толпе Густав Ле Бон: «…каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности» [85].
Особенности поведения людей в толпе достаточно хорошо изучены, но не объяснены, так как сложно считать объяснением предположения о существовании коллективной души или заражении и внушении, имеющих гипнотическую природу. В этом контексте гипотеза Гумилева о существовании коллективных полей представляется не менее научной, чем все изыскания в области психологии масс: «Учтем, что равно „наэлектризовать“ несколько сот человек можно только путем индукции, т. е. воздействия на каждую особь заряда пассионарности другой особи. Логичным продолжением аналогии будет гипотеза пассионарного поля (подобие электромагнитного поля), обладающего совсем иными свойствами воздействия на психологию популяций сравнительно с индивидуальными психологиями тех же людей, взятых по отдельности» [26].
Второе свойство пассионарности заключается в том, что сама по себе пассионарность, вопреки широко распространенному мнению, этически нейтральна. Она не является героическим качеством и не сопровождается выдающимися способностями. «Пассионарность отдельного человека сопрягается с любыми способностями: высокими, малыми, средними; она не зависит от внешних воздействий, являясь чертой конституции данного человека; она не имеет отношения к этическим нормам, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо и зло, исключая только равнодушие; и она не делает человека „героем“, ведущим „толпу“, ибо большинство пассионариев находятся именно в составе „толпы“, определяя ее потентность и степень активности в тот или иной момент» [26].
И, наконец, третье существенное обстоятельство связано со степенью пассионарного накала. Отмечая огромную роль в этногенезе деятелей науки и искусства, Гумилев относит многих из них к пассионариям, но меньшей степени напряжения. Любая психологическая типология выделяет некоторое количество достаточно ярких типов, а между ними всегда расположены смешанные и промежуточные. Поэтому сложно не согласиться с тем, что «в случае надобности деление может быть более дробным», а «кроме описанных нами ярких примеров, должны существовать варианты, слабее выраженные, при которых пассионарий не идет на костер или баррикаду… но жертвует многим ради своей цели» [26].
В качестве основы для такого деления Лев Николаевич предлагает систему координат, где на одной оси будут отражаться вариации подсознательной сферы, от пассионарности до инстинкта самосохранения, а на другой – сознательной. Для второй оси он вводит понятие аттрактивности (attractio – влечение), которая противостоит «разумному эгоизму» и является влечением к истине, красоте и справедливости.
Гумилев пишет по поводу аттрактивности: «Природа аттрактивности неясна, как, впрочем, и природа сознания, но соответствие ее с инстинктивными импульсами самосохранения и с пассионарностью такое же, как в лодке соотношение двигателя (весла или мотора) и руля» [26]. Таким образом, в предложенной системе координат ось «аттрактивность – эгоизм» отражает те человеческие качества, которые в психологии подпадают под понятие направленности личности.
У Гумилева в классификации особей по пассионарно-аттрактивному принципу нашлось место для обывателей (1), бродяг-солдат (2), преступников (3), честолюбцев (4), деловых людей (5), авантюристов (6), ученых (7), творческих людей (8), пророков (9), нестяжателей (10), созерцателей (11) и искусителей (12) (рис. 1). Понятно, что этот перечень может быть расширен.
Рис. 1. Классификация особей по пассионарно-аттрактивному принципу [26]
Мы рассмотрели людей гармоничных и пассионариев. Осталось сказать о третьем типе – субпассионариях. Это тем более необходимо, что субпассионариев с пассионариями путают значительно чаще, чем пассионариев с гармоничными людьми. Согласно теории Гумилева, «в составе этносов почти всегда присутствует категория людей с „отрицательной“ пассионарностью. Иначе говоря, их поступками управляют импульсы, вектор которых противоположен пассионарному напряжению» [26].
На схеме «Изменение пассионарного напряжения этнической системы» (рис. 2) уровень субпассионарности расположен ниже оси абсцисс, т. е. уровня тихого обывателя, а пассионарность – выше. Напрашивается вывод, что и активность субпассионариев отрицательна, т. е. эти люди вообще не способны ни на какие телодвижения. Это не так. На схеме представлены два уровня субпассионарности: неспособность регулировать вожделения и неспособность удовлетворять вожделения. Первый будет связан с импульсивностью, когда во главу угла ставится желание, в том числе сиюминутное и низменное: «Хочу!», а во втором – иждивенчество: «Хочу! Дайте!»
Рис. 2. Изменение пассионарного напряжения этнической системы [26]
Конечно, среди субпассионариев есть и патологически ленивые люди, вроде героя одноименного романа И. А. Гончарова Ильи Ильича Обломова. Но есть и вполне живые и подвижные. Зачастую один и тот же субпассионарий может переходить с одного уровня на другой в зависимости от ситуации. Классическим примером субпассионария вообще и такого перехода в частности может служить Шариков из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Первый уровень он демонстрирует, когда гонится за кошкой и устраивает потоп в ванной или пристает к Зиночке. На этом же уровне он функционирует в качестве начальника подотдела очистки: «Мы котов душили-душили, душили-душили…» А в ситуации с квартирой профессора Преображенского («Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть») Шариков – наглый иждивенец.
Гумилев делит субпассионариев на «бродяг», «бродяг-солдат» и «вырожденцев»[10]. В качестве примера «вырожденцев» он приводит люмпенизированную прослойку римских граждан времен позднего Рима, а первые две группы характеризует следующим образом: «Группа субпассионариев в истории наиболее красочно представлена „бродягами“ и профессиональными солдатами-наемниками (ландскнехтами). Они не изменяют мир и не сохраняют его, а существуют за его счет. В силу своей подвижности они часто играют важную роль в судьбах этносов, совершая вместе с пассионариями завоевания и перевороты. Но если пассионарии могут проявить себя без субпассионариев, то те без пассионариев – ничто. Они способны на нищенство или на разбой, жертвой которого становятся носители нулевой пассионарности, т. е. основная масса населения» [26].
Можно подвести итог. Активность, в том числе физическая, не может служить индикатором принадлежности человека к пассионариям, субпассионариям или людям гармоничным. Она свойственна всем группам населения, но имеет разную направленность: люди гармоничные «работают, чтобы жить – никаких иных потребностей у них не возникает»; «человек-пассионарный живет, чтобы работать ради своей идеальной цели»; «индивид, называемый субпассионарием, живет, чтобы не работать, и ориентируется на потребление за счет других людей» [24].
Не стоит думать, что все субпассионарии обязательно тунеядцы. Просто при поиске работы субпассионарий будет ориентироваться на те сферы, где можно заработать при минимальных затратах. «Минимальность затрат» определяется самим субпассионарием в зависимости от личных склонностей, от того, что «легко и приятно» лично ему. Многие субпассионарии в надежде на удачу вполне способны идти даже на смертельный риск (вспомним солдат-наемников) что в глазах посторонних людей и в конкретной ситуации вполне может выглядеть как отвага.
Вообще апеллировать к личностным характеристикам вроде смелости или трусости не имеет смысла при описании градаций пассионарности. «Когда организм готов умереть ради цели (у человека это, как правило, более или менее разумно обоснованная цель), это дает ему преимущество перед более сильным противником, который хочет не только победить, но и выжить. Не следует путать пассионарность с храбростью. Есть люди храбрые, но не пассионарные. Просто пассионарная особь, пусть даже и трусливая, получив отпор, будет повторять попытки достичь своей цели, а храбрый непассионарный человек, которого можно именовать „гармоничником“, может смириться с положением, хотя и не выказать особого страха» [74].
Другим показателем является отношение ко времени. Пассионарии, жертвуя комфортом, спокойствием, самой жизнью, обращены в будущее. Гармоничные люди, сохраняя традиции и воспроизводя выработанные прошлыми поколениями способы и формы хозяйствования и общения, – в прошлое. А субпассионарии живут исключительно сегодняшним днем. Они не способны строить прогнозы на сколько-нибудь отдаленное будущее, но это не связано с их интеллектуальными способностями.
Цель данного краткого описания трех типов людей заключается в самом общем рассмотрении их принципиальных отличий. При переходе к конкретным примерам время от времени неизбежно будут возникать споры, основанные на проекциях собственной личности со стороны оценивающих и субъективности восприятия того или иного персонажа вследствие существующих установок и сложившихся стереотипов. Поэтому феномен пассионарности требует дальнейшего изучения. Необходима разработка критериев, на основе которых возможна объективная оценка уровня пассионарности конкретных людей. Для перехода же к описанию развития этнических систем эти частности не имеют принципиального значения, так как речь в теории этногенеза, по выражению ее автора, идет о статистических закономерностях.
Глава 2. Особенности межэтнического взаимодействия
Вы говорите: «всю мою сознательную жизнь». Но это неправда. Говорите лучше – всю мою бессознательную жизнь.
Из телесериала «Метод»
Если без осмысления термина «пассионарность» невозможно по-настоящему разобраться с внутренней динамикой развития этноса, то представления о комплиментарности, химере и антисистеме необходимы для понимания положений пассионарной теории в области межэтнических отношений и тех искажений, которые они могут вносить в процесс развития этнических систем.
Для того чтобы начать разговор о природе комплиментарности, которая является чувством симпатии или антипатии, возникающим на подсознательном уровне, необходимо вспомнить об этнических полях, существование которых предполагал Гумилев. С научным обоснованием этой гипотезы можно познакомиться в работах советского ученого-биолога Бориса Сергеевича Кузина[11].
Согласно выводам Б. С. Кузина, дифференциация частей, координация их действий и вообще развитие любого органического целого всех таксономических групп, включая отдельных индивидов, коллективы особей и т. п., регулируются морфогенными, филогенетическими и прочими полями, которым присуща динамичность. Б. С. Кузин отмечает, что «принципу поля подчинены также взаимоотношения индивидов внутри колоний и видов, жизнь вида в целом и даже процесс филогенетического развития всего органического мира» [54].
Гумилев формулирует эту мысль следующим образом: «Из факта целостности групп и их единства, выражающегося в единстве их строения и поведения в эволюционном процессе, мы можем заключить, что существуют поля, регулирующие и координирующие этот процесс. Поля эти можно назвать филогенетическими» [26].
Логично предположить, что взаимодействие между таксономическими единицами «органического мира» также определяется взаимодействием их полей (в нашем случае – полей этнических). Именно этот вывод делает и Гумилев. Как известно, поле имеет волновую природу, а волны – общие волновые характеристики (длину, частоту, амплитуду, скорость). Параметры же этих характеристик могут быть различными. По-видимому, в этом и кроется причина положительной либо отрицательной комплиментарности при этнических контактах, определяющей деление на «своих» и «чужих», а также ее кажущаяся иррациональность.
Из теории Гумилева следует, что последствия этнических контактов зависят от уровня, на котором они осуществляются. «Сочетание двух и более консорций и конвиксий нестойко. Оно ведет к распаду или к образованию стойкой формы субэтноса. На субэтническом уровне смешение трактуется как „неравный брак“ с особой „не нашего круга“, причем ступень социальной лестницы часто не имеет значения» [26].
На этническом уровне могут возникать симбиозы, в которых каждый этнос занимает собственную экологическую нишу, находясь во взаимовыгодных отношениях с соседями[12], и ксении, являющиеся нейтральной формой существования этносов. Ксении гораздо менее позитивны, чем симбиозы, так как в этом случае этносы сосуществуют на одной территории, в одном социальном организме, «но не сливаются и не делят функций» [26], что обыкновенно сопровождается чувством взаимного недовольства[13].
Наиболее неблагоприятны контакты на уровне двух и более суперэтносов, часто сопровождающиеся этнической аннигиляцией, демографическим спадом или физическим истреблением слабой стороны [26]. Именно к такому роду контактов относятся этнические химеры, являющиеся питательной почвой для антисистем.
Напрашивается вопрос: почему контакты на различных уровнях этнических групп имеют столь несходные последствия? Для ответа на него уместно обратиться к понятию «картина мира». Этот термин связан с существованием адаптационных механизмов, позволяющих отдельным людям и человеческим обществам быть включенными в окружающую среду наиболее психологически приемлемым образом. Подходы к его пониманию могут несколько различаться, но эта проблема не является для нашей темы центральной, поэтому мы можем опустить их анализ, приняв к рассмотрению концепцию этнической картины мира в изложении доктора культурологии Светланы Владимировны Лурье.
Из ее работ следует, что в основе этноса лежит этническая картина мира, то есть «особым образом структурированное представление о мироздании, характерное для членов того или иного этноса». Она «осознается членами этноса лишь частично и фрагментарно» [63] и служит базой для формирующейся совокупности этнических адаптационно-деятельностных моделей, а ее структуру составляют этнические константы и этнические доминанты.
Этнические константы представляют собой своего рода архетипы[14] – устойчивые бессознательные комплексы, которые изменяться не могут, так как их изменение влечет за собой возникновение нового этноса. «Они сами по себе не имеют содержательного наполнения, а включают в себя лишь формальные характеристики, т. е. представляют собой определенную и постоянную на протяжении всей жизни этноса форму упорядочивания опыта, которая в соответствии со сменой культурно-ценностных доминант народа в течение его истории получает различное наполнение» [63]. Этнические же доминанты – в целом стабильные, но способные к трансформации ценностные установки. Объясняя понятие архетипа, К. Г. Юнг приводил в качестве аналогии систему каналов, где сам архетип представлен руслом, а его содержание – водой, которая по этому руслу протекает.
Этнос состоит из различных внутриэтнических групп, картины мира которых созвучны в части этнических констант, но могут различаться в части этнических доминант. При этом выделяется центральная культурная тема, «которая не может быть приравнена к ценностной ориентации, поскольку, во-первых, для каждого нового поколения членов этноса она как бы предзадана, а во-вторых, в ходе истории народа может представать в различных, вплоть до взаимопротивоположных интерпретациях. Более правильно было бы рассматривать „культурную тему“ как тип устойчивого трансфера, который отражает парадигму „условия деятельности“ в сознании членов этноса. Культурная тема, будучи результатом устойчивого (что вовсе не означает – неразрушимого) трансфера, включается в картины мира различных внутриэтнических групп, а, следовательно, в различные ценностные системы» [63].
Внутриэтническая неоднородность приводит к тому, что членам этноса присущи как общеэтнические поведенческие и коммуникативные модели, так и групповые. В результате возникает мозаичная структура этноса, способствующая поддержанию его стабильности и детерминирующая процесс самоструктурирования. Механизмом осуществления этого процесса является функциональный внутриэтнический конфликт, который «всегда реализуется на базе определенной «культурной темы» [63].
Системообразующее значение функционального внутриэтнического конфликта отмечалось и Гумилевым, причем не только на этническом, но и на суперэтническом уровне: «Суперэтносы имеют одну интересную особенность – внутри системы происходит поляризация. Как монолиты они ведут себя только в фазе пассионарного подъема, а затем, подчиняясь диалектическому закону единства противоположностей, они находят направления для деятельности, осуществляющие устойчивое равновесие в постоянной борьбе между собой. Однако по отношению к другим суперэтносам они выступают как целостность» [21].
В теории Л. Н. Гумилева нет точного аналога этнической картины мира, но при всех различиях в терминологии и расставленных акцентах наблюдается содержательное сходство ряда положений его теории с ее характеристикой. При этом объяснительный потенциал пассионарной теории выше, так как концепция этнической картины мира, принятая в современной науке, имеет преимущественно описательный характер. Конечно, объяснения наблюдаемым феноменам она дает, но природу соответствующих им явлений не раскрывает.
Возьмем для примера информационную теорию этноса Н. Н. Чебоксарова и С. А. Арутюнова, также опирающуюся на понятие картины мира. Согласно этой теории, «в основе возникновения и самоподдержания этносов лежат сгустки коммуникационных, информационных связей» [4]. Информационными связями определяется существование и функционирование и других социальных групп, с той лишь разницей, что объединение людей в эти группы происходит на основе «тематически выборочных инфосвязей» [4]. Для этноса же характерен большой массив «тематически неспециализированной информации» [4], охватывающей все стороны жизнедеятельности человека.
Таким образом, этничность выступает в роли информационного фильтра и удовлетворяет фундаментальную потребность человека в психологической стабильности. Любая социальная группа, выйдя на некоторый критический уровень тематически неспециализированной информации, дает жизнь новому этносу. Так, по мнению авторов теории, часто в этнос трансформируются касты. Могут стать этносом религиозная община, локально-профессиональная общность и т. д.
Доведя эту мысль до логического завершения, можно утверждать, что команда спортсменов, отойдя от решения чисто профессиональных и узко-бытовых проблем и озаботившись вопросами предназначения человека, обустройства мира, управления государством и т. п., может достичь этого самого критического уровня тематически неспециализированной информации, дав начало новому этносу. При этом авторы информационной теории не дают никакого пояснения относительно причин такой трансформации. Возможна лишь констатация данного факта.
Согласно информационной теории, этнос аналогичен виду у животных и состоит из более мелких составляющих: семей, семейных групп, происходящих от общего предка, территориальных общностей и т. д. По мнению С. А. Арутюнова, в этом «и состоит причина нередкой биологизации этноса, как у Широкогорова и Гумилева» [4]. Сам С. А. Арутюнов видит принципиальное отличие в том, что границы видов обеспечивают их раздельное существование за счет своей непроницаемости, а этнические границы в той или иной степени диффузны, делая возможным этническое взаимодействие.
Таким образом, Гумилев рассматривает этнос как биосоциальное явление (с биологической точки зрения скорее соотнося его с популяцией, нежели с видом), а Арутюнов – как исключительно социальное, отмечая при этом, что «этнос изоморфен виду у животных» [4], что свидетельствует о внутренних противоречиях информационной теории.
Вообще подчеркиваемый критиками «биологизм» теории Л. Н. Гумилева, ставящий его в один ряд с такими представителями расово-антропологической школы, как Ж. Гобино и Ж. Ляпуж, сильно преувеличен. Сам Л. Н. Гумилев неоднократно подчеркивал, что этнос имеет комплексный характер и не сводим ни к социологическим, ни к биологическим, ни к географическим явлениям в отдельности. Соответственно, и решить проблему этничности с позиции рассмотрения ее как исключительно социального феномена не представляется возможным.
Если теорию этнического поля экстраполировать на теорию этнической картины мира, то можно предположить, что постоянные волновые характеристики (частота колебаний, например) определяют этнические константы, а переменные (длина, амплитуда) – этнические доминанты. Этнические константы сохраняются на протяжении всей жизни этноса, доминанты же претерпевают изменения (в значительной мере под влиянием затухания первоначальных колебаний вследствие энтропии), имеющие при всем их внешнем разнообразии некоторые общие для всех этнических систем закономерности, которые рассматриваются Гумилевым на примере смены фаз этногенеза.
Вообще комплекс полей различных таксономических групп одного большого целого должен напоминать своего рода матрешку, где каждая из вложенных кукол имеет свои особенности, но соотношение формы и размеров позволяет им беспрепятственно «запрыгнуть» друг в друга, составив единство. Поэтому понятно, почему катастрофические проблемы начинаются на уровне суперэтнических контактов: параметры «материнских наборов» настолько различны, что совмещения достичь невозможно без деформации отдельных частей или даже всего целого.
Для иллюстрации отличий межэтнических взаимодействий в зоне контакта суперэтносов от всех прочих, протекающих на уровнях более низких таксономических единиц, подходит сравнение линейного и нелинейного взаимодействия волн. Линейные волны при взаимодействии не искажают и не препятствуют друг другу. Одна группа волн без изменений проходит через другую. В волновой физике это называется принципом суперпозиции. Линейная трансформация волн происходит только под влиянием внешних факторов и данный принцип не нарушает. Изменение же свойств среды при нелинейном взаимодействии обуславливается самими взаимодействующими волнами.
В силу разнообразных причин возможны ситуации, когда какой-либо этнос отрывается от родного суперэтноса и входит в состав другого, чуждого ему, или длительное и тесное взаимодействие осуществляется на границе суперэтнических ареалов. Этносу вхождение в чужой суперэтнос в любом случае обходится дорого, так как «всегда предполагает отказ от своей этнической доминанты и замену ее на господствующую систему ценностей нового суперэтноса» [24]. Для суперэтнической системы такая ситуация может быть достаточно безболезненна, если новый член находит в системе свою экологическую нишу. При отсутствии такой ниши «прорастание» представителей одного суперэтноса в другой часто приводит к возникновению химеры.
Химера – «сосуществование двух и более чуждых суперэтнических этносов в одной экологической нише» [26]. В таком случае источником существования для этноса, не нашедшего естественного места в системе, становится этнопаразитизм. Частным случаем этнопаразитизма может быть работорговля, в том числе и экономическое рабство, ростовщичество.
Но к наиболее катастрофическим последствиям приводит формирование антисистем, которые могут возникать «в ареалах столкновения этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития» [21].
Отдельные люди с негативным мироощущением встречаются в любой этнической системе, но для самой системы в норме характерно направление энергии на созидание. Иногда это созидание предполагает разрушение старых конструкций (функциональный конфликт, разрешающийся гражданской войной), но конечной целью является усложнение или восстановление (в зависимости от фазы этногенеза) структуры (мироутверждение во всем его разнообразии). В антисистемах негативное мироощущение (мироотрицание) приводит к направлению энергии на разрушение, выражающееся в уничтожении разнообразия.
Гумилев дает этим диаметрально противоположным картинам мира – мироотрицанию и мироутверждению – следующую характеристику: «В первой позиции – стремление заменить дискретные системы (биоценоз) на жесткие („И снится мне железный вал турбины“), которые, по логике развития, превратят живое вещество в косное, косное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития – вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, „за все печали, радости и бредни“ придется отплатить „непоправимой гибелью последней“» [21].
Существование антисистемы предполагает наличие идеологической платформы. И такая платформа всегда создается. Это могут быть как учения, основанные на формальной вере в Бога, но несправедливости устройства тварного мира, так и на отрицании божественного. Вот как это формулирует один из учеников Льва Николаевича Владимир Аскольдович Мичурин: «Все антисистемные идеологии и учения объединяются одной центральной установкой: они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных целей. Вывод из этого двояк: либо подобные учения призывают в корне изменить мир, на деле разрушая его, либо требуют от человека вырваться из оков реальности, разрушая самого себя. И то, и другое на деле дает один результат – небытие. Для антисистемы характерны известная скрытность действий и такой прием борьбы, как ложь» [75].
В качестве примеров идеологических обоснований антисистем Гумилев в своих работах рассматривает гностицизм, манихейство, павликианство, учения катаров и исмаилитов, богумильство, отдельные направления буддизма и некоторые другие. Характерной чертой, объединяющей эти учения, является «жизнеотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа человекоубийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия (тантризм), либо как мираж в зеркальном отражении (исмаилизм), либо как творение сатаны (манихейство), то некого жалеть – ведь объекта жалости нет, и незачем жалеть – Бога не признают, значит, не перед кем держать ответа – и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую» [26].
Антисистемы, появляясь в зоне суперэтнических контактов, не связаны с тяготами жизни. Объективно существование людей в этих зонах и в эти периоды может быть как невыносимым, так и вполне благополучным. Размножение в антисистеме идет не естественным путем, а путем инкорпорации в свою среду вновь завербованных членов. Характерными антисистемными признаками являются ложь и стремление к упрощению системы. Антисистемы не могут существовать долго. Они гибнут сами и губят этнические системы, в которых зародились[15].
Надо добавить, что химера и без возникновения антисистемы несет угрозу существованию этнической системы. Причиной этому является не мироотрицание, хотя в химерных образованиях наблюдается повышенная к нему восприимчивость, а отсутствие привязанности к отчему дому в самом широком смысле. Привязанность эта нарушается в силу отсутствия у некоторых этносов отдельного места в этнической системе. Происходит замещение этнической идентичности псевдоэтничностью (ее частным случаем является космополитизм).
Один из примеров химер у Гумилева – Турция в период поздней Османской империи. На ее же примере он показывает и возможности регенерации, которая стала для Турции возможна «за счет использования неизрасходованной пассионарности „отсталых“ окраинных районов» [21].
Этническая регенерация – «это частичное восстановление этнической структуры, наступающее после периода деструкции» [21]; она имеет свои закономерности, связанные с фазами этногенеза. В фазе подъема этнос растет и структурно усложняется без какой-либо регенерации. Начиная с акматической фазы «уже есть что восстанавливать» [21] (и чем дальше, тем больше). В период от акматической фазы до инерционной регенерация связана с выдвижением на ведущие позиции в системе людей, которые еще способны быть не только самими собой, но и тем, кем должно: «Возможно, что в критический момент найдутся какие-то люди, которые опять поставят во главу угла не свой личный интерес, не свою шкуру, а свою страну, как они ощущают ее, свой этнос, свою традицию» [21].
Разница в том, что в акматической фазе, а до известной степени и в фазе надлома, таких людей еще достаточно много в центральных областях этнического ареала, а в инерционной (особенно ближе к ее окончанию) уже приходится «скрести по сусекам» (окраинам). В фазе обскурации регенерация крайне маловероятна и «носит ограниченный характер» [21]. Ее возможности также связаны с наличием пассионарности на периферии, если провинции еще не утратили чувство общности с центром.
Таковы основные дефиниции, которыми оперирует Гумилев.
Глава 3. От подъема до гомеостаза. Коротко о главном
I
Нарушителей правил сначала называют преступниками. Потом – психами. И, наконец, пророками.
Из телесериала «Метод»
Лев Николаевич Гумилев определяет этногенез как «весь процесс от момента возникновения до исчезновения этнической системы» [26]. Время от рождения этноса до вхождения его в мемориальную фазу длится около 1 200–1 500 лет. За это время этнос последовательно проходит все динамические фазы: пассионарного подъема, акматическую, надлома, инерционную и фазу обскурации. Последняя, мемориальная – гомеостатическое состояние этноса (того, что от него осталось после всех исторических перипетий), в котором он при благоприятных обстоятельствах застывает на неопределенно долгий срок[16].
Вспышка пассионарности – обязательное условие начала этногенеза. Остальное будет зависеть от уровня технологического развития и степени пассионарности материнских этносов, окружающей обстановки и т. п., так как новые этносы наследуют материальную базу, отчасти знания и навыки старых, уходящих в небытие, а также преодолевают их сопротивление и давление внешней среды в виде агрессивных и недремлющих соседей.
Фаза пассионарного подъема длится приблизительно триста лет и состоит из двух этапов по сто пятьдесят лет каждый – скрытого (инкубационного) и явного. Инкубационный характеризуется появлением некоторого количества людей, которые восстают против сложившихся веками правил, норм и ограничений. Это «восстание» какое-то время остается за кадром истории, так как, на взгляд современников, ничего особенного не происходит, жизнь течет как обычно. Появляются какие-то «чудики». Так они время от времени появляются всегда и везде. Окружающие подвергают их обструкции, изгоняют из своей среды, иногда убивают.
Историки тоже не могут отследить этот момент с хроникальной точностью. А спустя некоторое время оказывается, что в недрах накапливающейся пассионарности рождается «идеал», под которым Л. Н. Гумилев подразумевает «далекий прогноз и ничего более» [24]. Более или менее этот процесс становится очевидным (все еще не для современников, но уже для историков), когда у части пассионариев созревает образ будущего и они, стремясь воплотить его в жизнь, объединяются с единомышленниками в некую группу, которая в теории этногенеза носит название «консорция». Это еще не этнос, а люди, входящие в консорцию, могут иметь разное этническое и социальное происхождение, но судьба с этого момента у них общая.
Примерами таких консорций являются люди длинной воли, объединившиеся под началом Чингисхана, ранние христиане, Мухаммед со своими мухаджирами, рыцари Круглого стола в Англии, французские рыцари Карла Великого. Их всех роднит то, что у них есть образ будущего, к которому они стремятся, и этот образ кардинально не совпадает с картиной мира, существующей в их этнической среде. Среда оказывает им сопротивление, но со временем у них появляется все больше и больше единомышленников. Идет ломка старых стереотипов поведения, нарождается новый этнос.
Процесс рождения этноса не всегда идет гладко, иногда буксует, дает временные откаты: например, распри и развал империи после смерти Карла Великого. Это зависит от многих обстоятельств, в том числе от состояния тех этнических систем, в которых начинает «прорастать» новый этнос. Нахождение их на излете этногенетического цикла (в фазе обскурации или гомеостазе) облегчает задачу. Если же эти этнические субстраты находятся на подъеме и обладают сильной социальной системой, то будущему приходится преодолевать колоссальное сопротивление. Сильные и агрессивные соседи также могут оказать серьезное воздействие. При определенном сочетании неблагоприятных условий процесс этногенеза может вообще прерваться. Если этого не происходит, фаза накопления пассионарности неизбежно переходит в свой явный этап.
В этот период произошедшие изменения становятся достаточно выраженными, чтобы их мог заметить сторонний наблюдатель. И вот на глазах у изумленных соседей появляется молодой агрессивный этнос, быстро размножающийся и переходящий к активной экспансии. Количество его субэтносов возрастает, что влечет за собой увеличение числа связей в системе, происходит ее усложнение.
Неуклонно увеличивается и число пассионариев. Тон в обществе задают именно они. Все должны работать на общее дело. Чувство долга является определяющим. Социальная система в этот период оформляется по принципу «Будь тем, кем ты должен быть!» и функционирует достаточно жестко. «Если человек не соответствует своему назначению, то короля убивают, герцога лишают надела, рыцаря выгоняют с позором и с плетьми, раз он оказался трусом, а не героем» [24]. Ни о какой демократии в сегодняшнем понимании в этот период помышлять невозможно, но социальные лифты работают хорошо.
Показательно в этом отношении выстраивание своей империи Чингисханом. В империи Чингисхана не было ни одного выборного органа. Да и сам он был провозглашен императором вождями племен, а не избран народом. Чингисхан осуществлял свою власть в империи через посредство иерархии сотрудников. Он сам назначал людей на высшие воинские и административные должности. Эренжен Хара-Даван отмечал, что при этих назначениях он «никогда не руководствовался только происхождением, а принимая в серьезное внимание техническую годность данного лица и степень его соответствия известным нравственным требованиям, признававшимся им обязательным для всех своих подданных, начиная от вельможи и кончая простым воином» [124]. К таким требованиям относились верность, преданность и стойкость. Одними из самых тяжелых преступлений считались неоказание помощи боевому товарищу и предательство доверившегося.
«При подъеме вырастает роль гармоничных людей, исправно несущих свои обязанности» [26], но определяющей силой они не являются, уступив эту роль пассионариям. Из трех рассмотренных выше типов нет места только одному – субпассионариям. Они потихоньку вымываются из этноса, так как не соответствуют духу времени. Им сложнее выжить и оставить потомство. Как пишет Гумилев, их просто не замечают. Но количество их еще достаточно, чтобы проявиться в акматической фазе.
II
Он приказал подать себе свежую лошадь, сильную и резвую, выбрал новое, крепкое копье, опасаясь, что древко старого не так уже надежно после предыдущих стычек, и переменил щит, поврежденный в прежних схватках. На первом щите у него была обычная эмблема храмовников – двое рыцарей, едущих на одной лошади, что служило символом смирения и бедности. В действительности вместо этих качеств, считавшихся первоначально необходимыми для храмовников, рыцари Храма в то время отличались надменностью и корыстолюбием, что и послужило поводом к уничтожению их ордена. На новом щите де Буагильбера изображен был летящий ворон, держащий в когтях череп, а под ним надпись: «Берегись ворона».
Вальтер Скотт. «Айвенго»
Между тем пассионарность молодого этноса растет. Пик этого роста приходится на акматическую фазу. Длительность ее, как и предыдущей, составляет приблизительно триста лет. Уровень пассионарности очень высокий, но пассионарии перестают работать на общее дело. Подъем индивидуализма повсеместен. Право долга уступает праву силы. На первое место выходят личные цели и интересы, которые определенным образом соотносятся с интересами других людей, но не всех представителей своего этноса, а лишь наиболее близких: членов группы, клана, рода и т. п. Этнос дробится, при этом существует система взаимообязанности и взаимовыручки, круговой коллективной ответственности.
Л. Н. Гумилев характеризует акматическую фазу этногенеза следующим образом: «После определенного момента, некой красной черты, пассионарии ломают первоначальный императив поведения. Они перестают работать на общее дело, начинают бороться каждый сам за себя» [21]. Если в фазе подъема актуален императив «Будь тем, кем ты должен быть», т. е. существует однозначный приоритет системы над индивидом, то в акматической фазе вступает в силу императив «Будь самим собой»: «Художник начинает ставить свою подпись под картинами: „Это я сделал, а не кто-то“. Да, конечно, все это идет на общую пользу, украшает город замечательной скульптурой, но „уважайте и меня!“ Проповедник не только пересказывает слова Библии или Аристотеля без сносок, перевирая как попало, не утверждая, что это чужие святые слова, нет, он говорит: „А я по этому поводу думаю так-то“, и сразу становится известно его имя» [21].
Лев Николаевич объясняет эту метаморфозу тем, что у пассионариев после всех подвигов и свершений во имя общего блага еще остаются нерастраченные силы, которые они и решают направить на реализацию личных целей. Такое объяснение, конечно, является упрощенным. Носители пассионарности – конкретные люди, но на уровне этноса должны быть надындивидуальные механизмы, ответственные за подобную перестройку. В противном случае невозможно объяснить ту согласованность, с которой пассионарии начинают соперничать друг с другом.
Скорее всего, причина «биологична»: чем больше в популяции появляется пассионарных индивидов, претендующих на роль альфа-особей, тем острее ощущается ограниченность ресурсов и проявляется конкуренция. Регуляция такого рода процессов происходит на нейрогуморальном уровне без вмешательства сознания. Применительно к человеку вслед за Гумилевым можно сказать: «развитие индивидуализма ведет к столкновению активных индивидуумов» [26], а активных индивидуумов в это время много.
Период феодальной вольницы в Европе XI–XIII веков – когда бароны беспрестанно воевали друг с другом, громоздили неприступные замки и бросали вызов даже королям – приходится именно на акматическую фазу. В этот период на гербах многих родов появляются прекрасно передающие дух времени девизы: «Не король, не принц, не герцог и не граф. Я – сеньор де Куси», «Королем быть не могу, принцем не желаю, я – Роган», «Герцог Савойи, иду своей дорогой».
Эта характерная черта европейского Средневековья в литературе объясняется почти исключительно особенностями феодализма – феодальная раздробленность, ничего с этим не поделаешь. Тем не менее история знает примеры, когда развитие этой формации никакой раздробленностью не сопровождалось: многим восточным странам эпохи феодализма была присуща государственная централизация. Для объяснения этого противоречия пришлось привлекать факторы, не имеющие прямого отношения к общественно-экономической формации, и выделять модели развития феодализма по западному и восточному образцам. Гумилев же утверждал: «Сам принцип феодализма – экономический принцип – вовсе не предполагает огромного количества безобразий», поэтому «стремление, например, дать по физиономии соседу, а потом убить его на дуэли» [21] связано не с экономическими условиями, а с уровнем пассионарности.
Как отмечал Лев Николаевич, «все пассионарные народы в этот период, период пассионарного перегрева, оказались уже не поборниками тех своих положительных идеалов, которые у них были до этого, а противниками своих соседей, и действовали они со страшной энергией, но уже не под лозунгом „за что“, а „против чего“» [21].
Когда один пассионарий начинает бороться с другими, его шансы на победу повышает наличие людей, образующих группу поддержки. Для средневековых феодалов Европы такой группой была армия, пусть маленькая и больше напоминающая банду, но собственная. Вот тут-то и выясняется, что у субпассионариев появляются шанс и своя ниша в обществе. Определяющей силой они по-прежнему не являются. Однако «изменение отношения к субпассионариям со стороны коллектива показывает один из примеров того, как меняется коллективное поведение в этносе от фазы к фазе» [21].
Акматическая фаза – время надежд, свершений и ярко выраженной внешней экспансии. «При переходе фазы подъема пассионарности в акматическую стремление к расширению ареала наступает столь же неуклонно, как закипание воды при 100°С и нормальном давлении» [21]. «Именно в этой фазе создается единый этнический мир – суперэтнос, состоящий из отдельных, близких друг к другу по поведению и культуре этносов» [24]. Однако и зерна будущего раскола этнического поля начинают прорастать в этот же период: этническая структура усложняется, разные субэтнические группы соперничают друг с другом, у ряда пассионариев возникает желание подкорректировать «первоначальный план» строительства общества.
В характеристике акматической фазы Л. Н. Гумилев значительное место отводит ересям. Они могут возникать в любые времена, но для пассионарного перегрева отстаивание чего-то своего – права на положение в обществе, на власть, взглядов на мироустройство, включая еретические, и т. п. – примета времени. Начало этих явлений и процессов, как правило, можно проследить уже в конце фазы подъема. Собственно говоря, так происходит со всеми типичными характеристиками различных периодов этногенеза – они закладываются в конце предыдущей фазы. Поэтому переход от одной фазы к другой не имеет четко обозначенных временных границ.
В свою очередь события акматической фазы дают толчок изменению характера развития этноса, в результате чего в следующей фазе, фазе надлома, «развитие продолжается, но уже в смещенном виде. Меняется знак вектора, а иногда система разваливается на две-три системы и более, где различия увеличиваются, а унаследованное сходство не исчезает, но отступает на второй план» [21]. Само собой разумеется, что при этом происходит перестройка социальных конфигураций.
Ереси относятся не столько к сфере сугубо религиозного, сколько социального взаимодействия. Согласно классикам социологии ереси, эти религиозные течения являются источником интеллектуального развития и социальных изменений, а еретик – «искаженным своим». Если мы рассмотрим возникновение ересей на нескольких примерах, то увидим, что при всех различиях, связанных с условиями зарождения и развития этнических систем, как правило, прослеживается одна и та же схема. Случаи гетеродоксии фиксируются уже в период подъема, на акматическую фазу приходится их расцвет, а в последующий период происходит институциональное оформление некоторых религиозных течений, по границам которых зачастую проходит надлом.
Так, в Малой Азии ереси начали возникать уже в период становления и оформления восточно-христианской церкви (II–III века н. э.), но настоящий еретический бум в восточных Римских провинциях приходится на IV век (арианство, македонианство, несторианство, монофизитство). Возникновение восточнохристианского суперэтноса Гумилев относит к I веку н. э. В этом случае акматическая фаза будет приходиться на IV–VI века.
Однако на уровне акматической фазы в Византии дело не закончилось. В окончательном расколе этнического поля и событиях периода надлома огромную роль сыграло иконоборчество (VIII–IX века), ставшее не только религиозным, но и политическим течением. Иконоборчество послужило поводом для начала внутренних репрессий и кровопролития. В центре иконоборческого конфликта была не столько полемика между сторонниками и противниками икон, сколько расцвет монофизитской ереси, отрицающей человеческую природу Христа.
Несколько иначе складывались обстоятельства в арабском мире. Появление и начало формирования будущего Мусульманского суперэтноса в VI веке н. э. происходило на фоне состояния гомеостаза, в котором пребывали многочисленные местные племена. Жизнь на Аравийском полуострове текла размеренно, возникающие конфликты носили вялотекущий характер. Зарождение и развитие новой этнической системы не встречало серьезного сопротивления и шло ускоренными темпами. Определенную катализирующую роль играли благоприятные условия для экзогамии в арабских гаремах. Как отмечал Гумилев, процесс этногенеза «в условиях колоссального смешения оказывается более интенсивным» [21].
Монолитность ислама сохранялась достаточно короткий промежуток времени. Преемники Мухаммеда начали делить его духовное наследие вскоре после смерти пророка в 632 году. Уже к концу VIII века было несколько религиозно-политических направлений ислама: сунниты, шииты, хариджиты, мутазилиты, мурджииты. Внутри каждого из этих направлений существовало множество различных религиозных школ. Борьба между ними была острой, вела к расколу исламского мира не только между основными направлениями, но и внутри них. Так, только среди шиитов в VII–XI веках возникают секты исмаилитов, имамитов, алавитов, друзов, ассасинов. Причем некоторых из них, с точки зрения Гумилева, характеризуют признаки антисистемы.
Религиозно-этнические противоречия и политический сепаратизм, а также возникновение антисистемы привели к тому, что огромный Арабский халифат стал распадаться на части. Лев Николаевич писал о Мусульманском суперэтносе: «…жизнь его протекала столь напряженно, что состарила его преждевременно» [21].
Пассионарный толчок в Западной Европе состоялся в VIII веке. Соответственно акматическая фаза у соответствующих этносов должна была разворачиваться приблизительно в период XI–XIII веков. До XI века Европа практически не знала массовых еретических движений. Но уже XII–XIII века характеризуются как расцвет ересей в странах Западной Европы. В конце XII века для борьбы с ними была создана инквизиция. Однако и в XIV–XV веках ереси сохранялись, приобретая новый характер и масштаб.
С XIV века в Европе начинается активная борьба за власть как внутри церкви («великая схизма»), так и между церковью и королевской властью. Если мы внимательно присмотримся к событиям того времени, то обнаружим, что в этот период ереси все больше смещаются из области религиозных противоречий в область социальных, превращаясь в различные по своей направленности социальные течения. Таким образом, речь шла уже не о догматах веры, а о политических, в ряде случаев даже национально-освободительных (проповеди Яна Гуса) мотивах. Фактически здесь мы видим уже первые проявления фазы надлома.
Этногенез в акматической фазе идет очень интенсивно. Рост пассионарности ведет к обострению противоречий, конкретные черты которых определяются актуальными местными условиями. «Акматическая фаза особенно часто является весьма пестрой и разнородной по характеру, доминантам и интенсивности протекающих этнических процессов» [26]. С одной стороны, значительное количество пассионарности делает этническую систему мобильной и наступательной, что способствует ее усилению. С другой, внутренняя борьба пассионариев ведет к дезинтеграционным процессам. Характер и последствия этих процессов могут быть различными. Так, для Западной Европы было характерно территориальное распадение, а для Византии того же этапа развития – идеологическое.
Скорость этнических процессов, как видно на примере Мусульманского суперэтноса, тоже может быть различной. К их ускорению ведет не только отсутствие необходимости расходовать большое количество пассионарности на преодоление сопротивления изначально слабых материнских этнических систем или противостояние соседям, но и благоприятные условия для экзогамии.
В период акматической фазы этническая система не всегда оказывается победительницей во внешних конфликтах, так как избыток пассионарности не гарантирует военного успеха. «Вспомним, что он ведет к дезорганизации, происходящей от развития индивидуализма. Когда каждый хочет быть самим собой, то организовать значительную массу таких людей практически невозможно» [21].
Периоды пассионарного перегрева сменяются временными спадами при постепенном снижении амплитуды. Далее «пассионарный спад ускоряется, социальная перестройка неизбежно отстает от потребностей, диктуемых этнической динамикой. Острота ситуации и довольно значительный, хотя и уменьшающийся, запас пассионарности определяют стремление к радикальным решениям» [26].
III
Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет…
Иван Ильин. «Поющее сердце»
За акматической фазой следует фаза надлома – самая трагическая, но и самая короткая (150–200 лет) пора жизни этноса. По словам Гумилева, трагичность этого периода связана не столько с обилием крови, сколько с тем, что льется она в братоубийственных конфликтах.
К началу надлома внутренние противоречия накапливаются. Идея необходимости перемен становится практически всеобщей, но конечный результат и пути его достижения все видят по-разному: «каждый предпочитает заставить другого жить по-своему, а не искать компромисса. Дивергенция становится неизбежной. Оставшиеся в живых пассионарии примыкают либо к одной, либо к другой группировке и таким образом истребляют друг друга в гражданских войнах, являющихся неизбежным атрибутом фазы надлома» [26].
В Византии надлом прошел под знаком иконоборчества. В этот период внутренняя борьба шла на фоне постоянных внешних войн, восстаний и переворотов. Византийская империя уменьшилась территориально, но вышла из глубокого кризиса обновленной. Меньше повезло арабам, для которых переход к фазе надлома стал не только кризисным, но и фатальным.
Не менее бурно протекала фаза надлома в Европе, где XIV–XV века – время «великой схизмы», войн и смут. За это время Европа прошла через разгром ордена тамплиеров, Авиньонское пленение пап, Столетнюю войну между Англией и Францией, в которую фактически было вовлечено пол-Европы, Жакерию во Франции, восстание Уота Тайлера в Англии, сожжение Яна Гуса с последующим народным восстанием в Чехии и многое другое [26].
Фаза надлома, как уже было сказано, является самой короткой. В этом смысле период XIV–XV веков в Европе идеально вписывается в теорию этногенеза. Но, обратившись к соответствующим главам трудов Льва Николаевича Гумилева («Этногенез и биосфера Земли», глава XIII «Фаза надлома»; «Конец и вновь начало», глава VII «Пассионарные надломы»), мы увидим, что описание событий надлома в Европе далеко выходит за его рамки.
Дело в том, что пассионарные толчки затрагивают узкие полосы земной поверхности. Здесь процессы роста пассионарного напряжения начинаются раньше, и раньше наступает спад. На сопредельные территории пассионарность привносится извне. Временные рамки соответствующих процессов сдвигаются. Эти сдвиги влекут за собой многочисленные последствия. Ввиду важности данного вопроса позволим себе привести большой отрывок из «Этногенеза и биосферы Земли» полностью. Речь идет о Германии, где рост пассионарности наблюдался и в XVIII веке.
«Германия больше других стран пострадала от ужасов Реформации, Контрреформации и Тридцатилетней войны. Это объяснимо: пассионарное напряжение там стало спадать уже в XIII в. …а коль скоро так, то эта богатая и цивилизованная страна стала жертвой этносов с высоким уровнем пассионарности. Хорваты, испанцы, валлоны, датчане, шведы и французы проходили Германию насквозь [17] , а немцы, как лютеране, так и католики, либо терпели бесчинства ландскнехтов, либо сами примыкали к их бандам. Вера тут роли не играла; шли к тем полковникам, которые лучше платили.
Так как католики в 1618 г. одержали победу при Белой Горе, то протестанты из Чехии вынуждены были искать спасения в эмиграции; многие из них нашли убежище в соседнем маркграфстве Бранденбург. Туда же охотно переселялись французские гугеноты, а также польские „ариане“. Берлин стал прибежищем для гонимых протестантов, которые принесли с собой свою пассионарность.
Бранденбургская марка была основана на земле славянского племени лютичей, и население ее в XVIII в. было смешанным – славяно-германским. Импорт пассионарности повлек за собой слияние этих этносов, подобно тому, что происходило в Англии в XI–XIII вв. Таким образом, Бранденбург, ставший бранденбурго-прусским государством, по сравнению с западной Германией и Австрией отстал в этногенезе на одну фазу: когда кругом все „просвещались“, пруссаки еще хотели воевать. Поэтому они выиграли войну за австрийское наследство, Семилетнюю войну, войну с Наполеоном I и, наконец, с Наполеоном III, после чего Пруссия встала во главе объединенной Германии, исключив из нее Австрию и Люксембург» [26].
Англия в этом отрывке тоже упомянута. Ее территория изначально находилась за пределами полосы пассионарного толчка. Поэтому пассионарность в Англии была «импортной» и привносилась сначала норвежцами и датчанами, потом нормандцами и, наконец, французами при Анри Плантагенете. Поэтому все этнические процессы, связанные с накоплением и спадом пассионарности, в Англии были смещены, что, впрочем, не помешало ей принимать деятельное участи в событиях фазы надлома своего суперэтноса и, кроме того, быстро восстанавливаться после понесенных в этих событиях потерь. По мнению Л. Н. Гумилева, «этот пассионарный момент в значительной степени определяет политику самой Англии как державы на фоне европейского концерта политических сил» [21].
Таким образом, в Европе временные границы надлома смещены за счет неравномерного распределения пассионарности среди отдельных этносов. Для более полного понимания временных рамок фазы надлома и их возможных сдвигов в зависимости от конкретных условий следует отметить, что, с точки зрения Гумилева, в Европе «эта фаза совпала с эпохой Реформации, великих открытий, Возрождения и Контрреформации. В Риме это было время завоеваний Мария, Суллы, Помпея и Цезаря, а также гражданских войн. В Византии аналогичный творческий и тяжелый период – победы исаврийской династии и иконоборчество. В Арабском халифате этот возраст оказался роковым: Халифат распался… Арабам осталась только сфера культуры, но зато они в ней преуспели изрядно» [26].
Однако вернемся к типичным характеристикам фазы надлома. Тем более что мы подошли к очень интересному феномену, связанному с субъективностью восприятия данного периода жизни этносов сторонним наблюдателем. Под сторонним наблюдателем подразумеваются не только и не столько современники, живущие за пределами соответствующих этнических ареалов, сколько потомки.
Гумилев пишет, что «фазу надлома трудно считать „расцветом“. Во всех известных случаях смысл явления заключается в растранжиривании богатств и славы, накопленных предками. И все же во всех учебниках, во всех обзорных работах, во всех многотомных „историях“ искусства и литературы и во всех исторических романах потомки славят именно эту фазу, прекрасно зная, что рядом с Леонардо да Винчи свирепствовал Савонарола, а Бенвенуто Челлини сам застрелил из пушки изменника и вандалиста коннетабля Бурбона» [26].
Действительно, если взглянуть на развитие культуры и науки применительно к странам и народам во времена, соответствующие надлому, то чаще всего картина будет схожая. Так, в Европе одной из самых ярких эпох в развитии культуры является Ренессанс. Он делится на различные периоды и датируется XIV – началом XVII века. Степень яркости и плодотворности этого периода в различных областях научного знания, искусстве и литературе становится понятна даже из простого перечисления хорошо известных имен: Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо, Мигель де Сервантес, Франсуа Рабле, Уильям Шекспир и Лопе де Вега, Николай Кузанский, Галилео Галилей, Николай Коперник и Джордано Бруно, Эразм Роттердамский, Томас Мор, Мишель Монтень, Мартин Лютер, Томмазо Кампанелла и Никколо Макиавелли.
Формирование культуры Возрождения в разных европейских странах происходило не одновременно. Раньше всего она сложилась в Италии, которая на протяжении ста с лишним лет оставалась единственной страной культуры ренессанса и прошла несколько этапов: раннее Возрождение, высокое Возрождение, позднее Возрождение. К концу XV века Ренессанс начал набирать силу в Нидерландах, Германии, Франции (северное Возрождение), в XVI веке – в Англии, Испании. По датировке Гумилева, с конца XVI века Западноевропейский суперэтнос вступает в инерционную фазу, а формально завершение эпохи Возрождения в ряде европейских стран пришлось лишь на XVII столетие.
В случае с Византийской империей ситуация предстает не столь очевидной. Фаза надлома здесь приходится на период иконоборчества. С точки зрения протекания социальных процессов никакого противоречия не наблюдается. Империя раскололась по линии противостояния иконоборцев и иконопочитателей (монофизитов и их противников) со всеми соответствующими последствиями: аресты и убийства иконопочитателей, преследование монахов, ограбление и закрытие монастырей, конфискация церковного имущества. Что касается культуры, ее расцвет обычно относят к более позднему периоду – периоду правления династии Комнинов (со второй половины XI по XII век). Даже соответствующий термин существует – Комниновское возрождение, или Комниновский ренессанс.
Время борьбы с иконами принято считать «темными веками». Чаще анализируются культурные процессы до и после него, а в иконоборческий период констатируется некий культурный провал. Насколько это справедливо можно судить по коллективной монографии «Культура Византии. Вторая половина VII–XII в.», в которой отмечается, что «обозначение VII и VIII вв. в качестве „темных“ лишено необходимой конкретности и имеет в виду прежде всего крайнюю скудость уцелевших источников». По мнению ее авторов, «скудость свидетельств источников этой эпохи, даже сравнительно с V–VI вв., – сама по себе является доказательством пережитой империей трагедии» [118].
В монографии также отмечается, что в VIII–IX веках началось возрождение «ряда отраслей культуры – таких, как естественно-научные знания, искусство мореплавания, военная мысль, юриспруденция, светское и религиозное зодчество, прикладные искусства и т. п.» [118]. Строго говоря, этот период и относится ко времени иконоборчества. Иконопочитание было объявлено ересью на Вселенском Соборе в 754 году, а уже Константинопольский собор 842 года провозгласил необходимость восстановления почитания икон и предал анафеме иконоборчество.
Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что культурного расцвета европейского масштаба в этот период жизни Византийской империи мы не наблюдаем. По мнению Л. Н. Гумилева, византийский ренессанс случился раньше. «Византийская культура имела свой период „Возрождения“ эллинской древности, когда греческий язык вытеснил латинский из государственного управления (при императоре Маврикии), и свою Реформацию – иконоборчество, и свою эпоху Просвещения – при Македонской династии» [26].
Из приведенного отрывка сложно судить, распространяет ли Лев Николаевич период надлома в Византии и на VI–VII века, что сомнительно, так как противоречит другим его высказываниям на этот счет. Гумилевская датировка фазы надлома в Византии уже была приведена выше: «победы исаврийской династии и иконоборчество». То и другое датируется VIII–IX веками. Скорее всего, речь идет о проявлении соответствующих тенденций в пограничных с надломом фазах.
Расцвет арабской культуры приходится на IX–XII века. Мы помним, что развитие Мусульманского суперэтноса шло ускоренными темпами. «К X в. энергия арабо-мусульманского этноса иссякла, несмотря на то, что экономика расцвела, социальные отношения нормализовались, а философия, литература, география, медицина именно в эту эпоху дали максимальное количество шедевров. Арабы из воинов превратились в поэтов, ученых и дипломатов. Они создали блестящий стиль в архитектуре, построили города с базарами и школами, наладили ирригацию и вырастили прекрасные сады, обеспечивавшие пищей растущее население. Но защитить себя от врагов арабы разучились. Вместо эпохи завоеваний настала пора потерь» [26].
Действительно, территориальные потери были огромными, но в области науки и искусства арабы совершили невероятный скачок. Примечательно, что с трудами античных мыслителей, в первую очередь Аристотеля, Европа познакомилась благодаря переводам с арабского. Общепризнанно, что в развитии научного знания арабский Восток IX–XII веков далеко опередил современную ему Европу, а достижения арабских ученых стали основой для развития средневековой европейской науки. «Превосходство Запада над Востоком, – как заметил Георгий Владимирович Вернадский, – в смысле науки и техники – дело гораздо более позднего времени. Лишь в XVI или XVII веке можно определенно говорить о научно-техническом превосходстве Европы над Азией, причем все еще с оговорками. В более раннее время не всякий мог бы разглядеть в Европе ростки будущей культурной гегемонии» [14].
В этнической системе к фазе надлома накапливается «усталость от великих». В своем стремлении преобразовать жизнь к лучшему («Мы знаем, мы знаем, все будет иначе!») этнос идет по пути радикальных решений, так как пока еще эти пути диктуются пассионариями со всей присущей им решительностью и бескомпромиссностью. Пассионарность начинает быстро снижаться за счет гибели своих носителей во внутренних катаклизмах.
Иногда удается «сплавить таких людей за пределы страны: в Палестину, в Мексику, в Сибирь; тогда пассионарный уровень снижается, народу становиться легче, правительство может координировать ресурсы страны и с их помощью одерживать победы над соседями. Внешне этот спад пассионарного напряжения кажется прогрессом, так как успехи затемняют подлинное снижение энергетического уровня» [21].
«В эту эпоху этнос или суперэтнос живет инерцией былого взлета и кристаллизует ее в памятники искусства, литературы и науки» [24]. Благодарные потомки не устают восторгаться Венерой Боттичелли и Сикстинской Мадонной Рафаэля, цитировать Фирдоуси и Омара Хайяма, вспоминать китайских выдающихся философов и арабских математиков. Однако на место пассионариев приходят гармоничные люди и субпассионарии. Возникает эгоистическая этика, диктующая новый стереотип поведения. Система упрощается. Приближается инерционная фаза.
Инерционная фаза или, как ее называл Лев Николаевич, «золотая осень» этноса – не худший вариант развития событий. Но переход к ней – тяжелое испытание. Как и любой другой этап этногенеза, фаза надлома не является однородной. Периоды накала страстей сменяются периодами затишья, но именно «в надломе бывает короткий период депрессии – разгула субпассионариев. Надо суметь его пережить, чтобы выйти в инерционную фазу» [21].
Из трех упомянутых нами суперэтносов до «золотой осени» дожили только два – Западноевропейский и Восточнохристианский. Арабы, конечно, тоже с лица земли не исчезли, но суперэтническую целостность утратили.
IV
…Очевидно, в этом есть какое-то непонятное свойство природы: вино переходит в уксус, Мюнхаузен – в Феофила.
Из к/ф «Тот самый Мюнхаузен»
Продолжительность инерционной фазы, как и длительность фазы обскурации, подвержена значительным колебаниям. «Это зависит как от интенсивности внутренних процессов разложения этноса, так и от исторической судьбы, определяемой степенью развития материального базиса, накопленного за предшествовавший период, физико-географическими условиями ареала и состоянием смежных этносов» [26]. Если исходить из общей продолжительности процесса этногенеза от пассионарного толчка до вхождения этноса в состояние гомеостаза (1 200–1 500 лет), то на совместную долю инерции и обскурации приходится порядка 4–7 веков.
По образному выражению Льва Николаевича, переход к инерционной фазе осуществляется под лозунгом «Дайте же жить, гады!» Уставший от бурной молодости этнос в лице сохранившейся своей здоровой части начинает наводить в доме порядок. Можно долго рассказывать о подробностях этого переустройства, но суть его сводится к тому, что можно назвать стандартизацией и унификацией.
За предыдущие насыщенные событиями времена члены этноса «уже научились понимать, что индивидуальности, желающие проявиться во всей оригинальности, представляют для соседей наибольшую опасность» [26]. На деле, конечно, никакого осознанного и одинакового понимания в такой массе людей возникнуть не может. Просто так или иначе основная часть пассионариев уничтожена, а оказавшийся в большинстве обыватель терпеть не может того, что лично для него чуждо. Индивидуальность же, особенно в своих крайних проявлениях, непонятна, а посему опасна и вообще мешает жить. Продолжают работать универсальные механизмы естественного отбора, но сами критерии отбора меняются.
Стандартизация начинается со смены общественного императива на «Будь таким, как я!» Населению предлагается некий идеал, к которому следует стремиться. В роли такого идеала может выступать реальная личность вроде императора Октавиана Августа, как это случилось в Римской империи, или умозрительный образ вроде идеала джентльмена в Англии, святого – в Византии, богатыря – в Центральной Азии [26].
За формированием образца (идеала) следует навязывание этого стандарта, то есть приведение представителей этноса к некоторому единообразию. Диапазон принуждающих мер весьма широк: от общественного неодобрения до прямого насилия над теми, кто не желает (а иногда, в силу яркости индивидуальных черт, не может) вписаться в предложенные рамки. Физическое насилие как отголосок фазы надлома более свойственно начальной стадии инерционной фазы. Постепенно эффективности общественного мнения в большинстве случаев становится достаточно.
В сравнении с предыдущими периодами этногенеза в этом отношении принципиально ничего не меняется. В любом обществе существуют нормы, которые поддерживаются соответствующими санкциями. Разница заключается в том, что вариативность норм снижается, и применение санкций приводит к большему «усреднению» людей, чем в предшествующие инерции времена. Поэтому «вымывание» из этноса пассионарного элемента продолжается. Только скорость этого процесса ниже, чем в фазе надлома. Одновременно возрастает роль людей гармоничных.
Прекрасной иллюстрацией к преобразованиям инерционной фазы в области формирования человека является анализ трансформации образа положительного героя, приведенный в уже упомянутой монографии «Культура Византии. Вторая половина VII–XII в.». Он заслуживает хотя и выборочного, но довольно объемного цитирования: «…становлению византийской литературы присущ постепенный отказ от изображения сложности и противоречивости природы человека в пользу парадигматического идеала, определяемого набором отвлеченных от конкретности достоинств и недостатков. Собственно эволюция литературного героя заключается при таком подходе не в создании нового литературного образа неповторимой индивидуальности, но в изменяемости самого каталога добродетелей и пороков, с одной стороны, и конкретных носителей этих качеств – с другой.
<…>
Фигура собственно византийского святого как идеального героя не оставалась неизменной константой на протяжении веков. <…> VIII – X столетия выдвинули в герои житий ряд крупных церковных иерархов (константинопольских патриархов Германа, Тарасия, Никифора, Мефодия, Игнатия, Евфимия), известных исповедников веры (Феофана, Феодора Студита). Это уже не агиографический герой в духе св. Антония, борющегося с искушением вдали от мирской суеты. Напротив, святые VIII – X вв. совсем нередко в гуще столичных событий и противостоят вполне конкретным историческим персонажам с иными, чуждыми святым, взглядами и убеждениями.
<…>
Эволюция литературного героя проходила в VIII – X вв. не только по линии изменения его социального облика и общественной позиции. Изменялся набор черт, выдвигавшихся в качестве идеальных. Показательна в этом смысле трансформация образа идеального императора. Анализ „княжеских зерцал“ („княжеских“, конечно же, условно, поскольку речь в них идет об идеале императора) показывает, что на протяжении VII – первой половины IX в. они утрачивают вполне традиционные для идеализированного облика императора черты: воинские доблести, образованность; преодолевается представление о двойственной природе императора (божий избранник и одновременно человек, равный перед лицом бога своим подданным); исчезают портретные характеристики; определяющим в парадигме монарха становится его благочестие.
<…>
С конца IX в. (в „Учительных главах“ Василия I) и на протяжении X в. происходит дальнейшее преображение литературного героя. В каталог императорских добродетелей возвращается образованность; хотя и осторожно, но затрагивается тема знатности по происхождению; выдвигается на передний план функция императора – блюстителя закона» [118].
Существенна динамика в теме войны и мира: «…поэтический апофеоз войны не претил византийскому автору VII в.», но постепенно позиция меняется. «Ее теоретическим выражением на исходе IX столетия были „Учительные главы“ Василия I, наставлявшего будущего императора Льва VI в том, как следует крепить мир в духе евангельской заповеди „блаженны миротворцы“, и посвятившего этому сюжету отдельную главу, а о полководческих обязанностях монарха не упоминая совсем» [118].
Впрочем, призыв к «травоядности» часто звучит в начале инерционной фазы, но окончательно утверждается лишь ближе к ее концу, когда пассионарное напряжение падает ниже необходимого для нормального функционирования оптимума. А в промежутке этническая система живет вполне насыщенной жизнью, частенько воюет. Византия в этом отношении не была исключением.
Период правления Македонской династии (конец IX – начало XI веков) считается золотым временем Византийской империи: развиваются торговые связи с западными и восточными соседями, растут города, их население увеличивается, расширяются византийские владения как на Западе (завоевание Болгарского царства), так и на Востоке (победы над арабами, приращение территории за счет армянских земель). При императоре Василии II Византия становится сильнейшем государством Европы. Это и время успехов Византийской империи в идеологической сфере. Словом, Византийская империя достигла процветания.
При беглом взгляде на инерционную фазу она представляется прекрасным временем. «Трудолюбивые ремесленники, бережливые хозяева, исполнительные чиновники, храбрые „мушкетеры“, имея твердую власть, составляют устойчивую систему, осуществляющую такие дела, какие в эпоху „расцвета“ казались мечтами. В инерционной фазе не мечтают, а приводят в исполнение планы, продуманные и взвешенные. Поэтому эта фаза кажется прогрессивной и вечной» [24]. Однако, с «вечностью» у Византии, и не только у нее, почему-то не сложилось. Интересно, почему?
Ответ на этот вопрос мы получим, если рассмотрим динамику развития этноса в инерционной фазе. Идеальные образы святого, богатыря и джентльмена достойны подражания, однако, чтобы им следовать, этнической системе необходима достаточно весомая доля пассионарности, а пассионарность медленно, но неуклонно снижается. В итоге богатырь получает прописку в сказках, джентльмен мельчает, а святой превращается едва ли не в свою противоположность.
Им на смену приходит идеал «золотой посредственности». Воцаряется «порядок, который обеспечивает возможность спокойно жить и существовать в меру своих обязанностей, никогда не претендуя на достижение решающего успеха» [26]. Некоторое время пассионарии еще находят себе приют в науке и искусстве – «сферах, не связанных с риском» [26]. Но постепенно происходит снижение эстетического уровня произведений культуры. Количество их при этом может даже увеличиваться, создавая иллюзию интенсивности творческого процесса. Ученые перестают мечтать о великих открытиях и сосредоточиваются на практических изобретениях.
«Конечно, на этом фоне появлялись гении: мыслители, ученые, поэты, но их было не больше, чем в жесткую акматическую фазу. Зато они (гении акматической фазы – Н. К.) имели хороших учеников, а их концепции – резонанс» [26]. Выдающиеся достижения, не имеющие прикладного характера, в этнической системе ближе к концу инерции оценить по достоинству, как правило, некому. Как говорится, нет пророка в своем отечестве.
Исподволь на фоне торжества посредственности происходит потеря не только индивидуальности, но и нравственных ориентиров. Вера уступает место безверию. Морально-нравственное разложение охватывает все более широкие слои населения. Тихие и трудолюбивые люди перестают соответствовать духу времени; их постепенно вытесняют субпассионарии типа «обывателей» и «созерцателей». Причем субпассионарии чувствуют себя все лучше и комфортнее, так как «в „мягкое“ время цивилизации при общем материальном изобилии для всякого есть лишний кусок хлеба и женщина» [21]. Численность их неуклонно растет. Наступает фаза обскурации.
Переход из фазы накопления пассионарности в акматическую или из акматической в надлом еще можно привязать к каким-то событиям. Фазовый переход от надлома к инерции вообще является одним из самых тяжелых кризисов в жизни этноса и потому, как правило, хорошо заметен. Водораздел между инерцией и обскурацией, как правило, четко не прослеживается. Темные времена подкрадываются незаметно.
По этой схеме развивались события и в Византийской империи. Мы упомянули последнего василевса Македонской династии Василия II. Он пытался ограничить влияние византийской аристократии, проводя жесткие меры, препятствующие обогащению крупных землевладельцев. Дело доходило до конфискации земель. Но уже к концу правления Василия II ряд влиятельных византийских кланов заметно усиливается. На смену Македонской династии приходят Комнины. При Комнинах высшая элита представляет собой группу аристократических фамилий, связанных между собою родственными узами. С них-то и начинается загнивание византийского общества.
Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит. Наоборот, даже Комниновское возрождение имеет место. В действительности подспудно идут процессы, в свете которых трагический конец Византийской империи представляется предопределенным и вполне логичным. Наглядную и яркую их характеристику можно обнаружить в статье доцента кафедры культурологии и искусствознания Кемеровского государственного университета культуры и искусств Дмитрия Анатольевича Филина «Византийское монашество и кризис империи рубежа XII – XIII вв.»
Ссылаясь на Никиту Хониата[18], Д. А. Филин пишет: «…тенденции, чутко уловленные Хониатом, были уже весьма заметны во 2-й половине XI столетия. Определены они «индивидуализацией» сознания… <…> …развитием таких черт характера, как исключительное себялюбие, эгоцентризм, замкнутость на своих собственных проблемах, руководство в деятельности почти исключительно гедонистическими мотивами, и как долговременное историческое следствие в конечном итоге – предпочтение частных, своекорыстных интересов общим. В начале же „индивидуализация“ сознания весьма способствует развитию творчества, появлению новых одаренных индивидов.
<…> Авторы XII столетия гордятся своим талантом, образованностью, проявляют повышенный интерес к собственной индивидуальности [19] : обобщенности предпочитая наблюдательность, интерес к деталям, мелочам быта. В дальнейшем, в XII в., индивидуализация ведет к профанации творчества…
<…> Советы Кекавмена (2-я половина XI в.) больше всего касаются взаимоотношений с начальством и подчиненными, безопасности собственного положения, репутации в глазах властей. Такие понятия, как дело, долг, честь, не присутствуют на страницах его книги (чем не наставления Д. Карнеги? – Н. К.).
<…> Процесс индивидуализации сознания ведет к расшатыванию традиционных церковных устоев в сфере семьи и положения женщины. <…> Константинополь превратился в новый изнеженный Сибарис. Язвами ромейского общества стали всеохватывающий эгоизм, себялюбие, забота исключительно о самом себе. Люди пренебрегают близкими, родными, Родиной: ими движет лишь жажда самосохранения и корыстная трусость» [122].
После такого описания византийских реалий XII – XIII веков возникает стойкое чувство, что на современную Европу можно времени и не тратить: достаточно в приведенном отрывке поменять даты, имена, названия. То, что так замечательно начиналось в эпоху Просвещения с призывов к гуманизму[20], на наших глазах завершается эгоизмом, ханжеством и лицемерием, повсеместной подменой понятий, насаждением противоестественных форм поведения под видом заботы об индивидуальности и т. п., а главное, полным параличом воли и безответственностью. В дополнение картины и восточные «варвары» уже подоспели.
Таким образом, «отличительной чертой инерции является сокращение активного пассионарного элемента и полное довольство эмоционально пассивного и трудолюбивого обывателя… здесь его лелеют, ибо он никуда не лезет, ничего не добивается и готов чтить господ, лишь бы они его оставили в покое» [21]. Поскольку такая пассивность не способствует организации отпора кому бы то ни было (как чужим, так и своим), гармоничные люди постепенно замещаются субпассионариями. Пассионарность воспринимается как вызов самодовольному большинству и всячески подавляется.
К концу инерционной фазы разрыв между провозглашаемыми «вегетарианскими» идеологемами и абсолютно «людоедской» психологией элит, а также падение нравов, затрагивающее широкие слои населения, достигает критического уровня. Этническая система ввергается в фазу обскурации. В момент фазового перехода или чуть позже, когда начинается повсеместное «броуновское движение», и каждый тянет одеяло на себя, могущественная и процветающая цивилизация, «совершенно неожиданно»[21] обрушивается под напором очередных «варваров».
Впрочем, часто это происходит значительно раньше. Лев Николаевич Гумилев считал, что до обскурации этносы доживают редко. Но не всегда это связано с очевидной гибелью этнической системы. Иногда происходит то, что внешне выглядит как ее обновление, а на самом деле является подъемом нового этноса в результате очередного пассионарного толчка.
V
– Ну, отгадайте мне одну загадку, – возразил Клипсби. – На чьей стороне сэр Даниэль?
– Не знаю, – проговорил Дик, слегка краснея, потому что его опекун постоянно в это смутное время переходил с одной стороны на другую, и каждая перемена сопровождалась увеличением его состояния.
– Ага! – возразил Клипсби. – Этого не знаете ни вы, ни один человек на свете. Потому что он из тех, что ложится спать приверженцем Ланкастерского дома, а встает защитником Йорка.
Роберт Льюис Стивенсон. «Черная стрела»
Расцвет признаков обскурации в Византийской империи отмечается в конце XIII столетия, но тревожные звоночки прозвучали еще в XI в., когда византийская знать начала активную борьбу за престол. Самозваные императоры сменяли друг друга с феноменальной скоростью. В условиях подъема ближайших соседей – турок-сельджуков – это было смертельно опасно. К счастью, не всем самозванцам можно отказать в решительности и личном мужестве. Алексей Комнин, судя по всему, этими качествами обладал. Империя выжила, но в XII веке история повторилась.
Ситуация усугублялась тем, что претенденты на византийский престол стали торговать отечеством, обратившись за помощью к европейской родне по вере, а иногда и по крови. Крестоносцы, мужественные борцы за веру, быстро превратились из помощников в захватчиков. В середине XIII века их все-таки удалось «выкурить» из Константинополя. В этот раз империю восстановили Палеологи, но былое величие ее было утрачено. Византия сильно уменьшилась в размерах, перестала быть великой средиземноморской державой, а в довершение этого предоставила такие преференции европейским купцам, что потеряла и экономическую самостоятельность. Мероприятия по ограничению на внутреннем рынке венецианцев, осуществленные при Михаиле Палеологе, и одновременная передача их привилегий генуэзцам выглядят как очередной акт продажи византийской элитой собственного государства.
Какое-то время Византия еще существовала, постепенно теряя территории и угасая. 29 мая 1453 года Константинополь пал под ударами турок. К середине XV века «падать» в бывшей империи, кроме Константинополя, было уже нечему.
Фаза обскурации является заключительной в чреде активных периодов жизни этноса. Ее наступление подготавливается изменением общего уровня пассионарности этноса. Пассионариев остаются единицы. Они очень быстро навлекают на себя недовольство окружающих и, пытаясь выжить, перемещаются на окраины этнического ареала, где дышится свободнее, или уезжают в чужеземные края в поисках возможностей для применения своих талантов и энергии. Гармоничные люди, как обычно, пытаются жить спокойно, трудиться, воспитывать детей, не всегда это удается. Доля субпассионарного элемента к этому времени увеличивается настолько, что он становится основной движущей силой общества.
Общественный императив меняется: «Будь таким, как я!» трансформируется в «Будь таким, как мы!» «Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, в армии солдаты держат в покорности офицеров и полководцев, угрожая им мятежами. Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться» [21]. Картинка получается неприглядная, но динамика в ней чувствуется.
Поскольку принципиальная разница между пассионариями и субпассионариями заключается не в способности действовать, а в наличии или отсутствии устойчивой цели, обскурация если и напоминает болото, то болото деятельное, временами просто-таки бурлящее. Фаза обскурации – акматическая фаза наоборот. И последствия происходящего при некотором внешнем сходстве у этих фаз разные. Пассионарии, движимые страстью, имеют цель и волю для ее достижения. Даже в период, когда пассионариев много, их цели не совпадают, а зачастую входят друг с другом в прямой конфликт, их устойчивость, как правило, дает некий результирующий вектор движения. Цели субпассионариев сиюминутны, это цели-желания. Поэтому возникает то, что Гумилев называл «броуновским движением» (этот термин он часто употребляет и по отношению к акматической фазе), или, проще говоря, хаос.
Природные богатства бездумно уничтожаются ради сиюминутной выгоды, достигнутое потом и кровью поколений предков проедается и пропивается, новое не создается, хозяйство приходит в упадок, депопуляция прогрессирует. Разрушаются основы для поддержания этнической доминанты, этническая система разваливается на части даже без приложения каких-либо внешних сил – происходит ее упрощение. В итоге осколки этнической системы «консервируются» в состоянии гомеостаза. Поскольку гомеостаз применительно к этногенезу предполагает отсутствие всякого развития, Гумилев назвал его начало мемориальной фазой: физически этнос продолжает существовать, но как динамическая система он уже мертв.
VI
Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы.
Братья Стругацкие. «За миллиард лет до конца света»
Постепенно люди мемориальной фазы забывают многие навыки и умения, поддерживая и передавая будущим поколениям только те, которые необходимы для обеспечения существования в сложившихся условиях. Изменяется восприятие времени: оно теряет поступательный характер и становится цикличным. Прошлое мифологизируется. Мифы и героический эпос бережно передаются потомкам, но ни у кого из них не возникает желания повторить воспеваемые подвиги прошлого. Герои практически становятся равными богам. Пассионариям, как и субпассионариям, в таком обществе места нет – естественный отбор продолжается, но в этой фазе он закрепляет черты гармоничного типа.
Яркие примеры такого «застывания» хорошо известны в лице этносов-изолятов, на примере которых этнологи и антропологи очень любят изучать детство человечества, принимая упрощенность старости за примитивность юности.
Гумилев вспоминает разговор, состоявшийся у него с антропологом индусом Чоудхури. Речь шла о представителях негроидного племени онгхи, живущих на острове Малый Андаман. Жизнь племени размеренна и очень проста. Прекрасный климат, полная изоляция от посторонних: онгхи живут в специально созданном заповеднике.
Чоудхури сказал Льву Николаевичу, что «онгхи живут так, как жило человечество 20 тысяч лет назад. Для них ничего не изменилось. Питаются они тем, что дает природа, а тепло им дают солнце и костер» [26]. Это весьма распространенное суждение из уст человека, с которым Лев Николаевич, надо полагать, поделился своими теоретическими соображениями, привело Гумилева к мысли о некритичном восприятии эволюционной теории этногенеза. И логику его возражений оспорить трудно: «А как, по мнению индийского ученого, попали на Андаманские острова предки онгхи? Ведь они должны были знать не только каботажное мореплавание; да и вряд ли они плыли по Индийскому, очень бурному океану наобум. Лук и стрелы тоже надо было изобрести или позаимствовать у соседей. Брачные обычаи, запрещающие даже в случае раннего вдовства повторный брак и ограничивающие браки с близкими родственниками, – отнюдь не примитив. Язык онгхи индийские этнографы еще не выучили. Но когда это случится, то наверняка окажется, что у онгхи есть воспоминания о предках, мифы и сказки, еще не совсем забытые» [26].
Не всем этносам удается затеряться где-нибудь подальше от соседей, еще не утративших пассионарность. По большей части этносы мемориальной фазы включаются в другие этнические системы, где часто со временем ассимилируются их более активными представителями. Иногда практически полностью уничтожаются более активными пришельцами. Некоторым удается создать с соседями отношения симбиоза. В качестве такого примера Гумилев приводит взаимовыгодное сосуществование пигмеев Центральной Африки с банту[22]. Тогда «этносы, потерявшие былую пассионарность, могут существовать за счет пассионарности соседнего этноса, передаваемой даже не естественным путем, а через системные связи» [26].
В отсутствии притока хотя бы минимальной пассионарности, даже при самых благоприятных условиях, жизнь этноса конечна. Тихое существование в состоянии гомеостаза может тянуться так долго, что кажется ничем не ограниченным, но постепенно накапливается общее снижение жизненного тонуса, возникают проблемы с зачатием детей у молодых и здоровых женщин. Осколок былого этноса медленно угасает.
К счастью, процесс этногенеза на планете Земля никогда не прекращается. Цивилизации уходят в небытие, сокрушаемые буйными соседями. Их могильщики со временем остепеняются и строят на их месте новые, повторяя в общих чертах ошибки и судьбу своих предшественников, но всякий раз ощущая себя первопроходцами. Так было всегда. И будет длиться до тех пор, пока живо человечество. Одна из книг Льва Николаевича Гумилева так и называется – «Конец и вновь начало».
Часть II
Глава 1. Где заканчивается Древняя Русь
I
Всякая социальная сфера – это, в общем, всегда вопрос интерпретации, а интерпретация – всегда вопрос идеологии интерпретирующего…
Федор Лукьянов, из интервью
Пример исторической судьбы Руси и России позволяет не только еще раз рассмотреть цикл этногенеза во всей его полноте, исключая лишь мемориальную фазу, но и обозначить период наложения начала одного этногенетического цикла на окончание другого, отметить нелинейный характер культурной преемственности старого и нового этносов.
В предыдущей части была сделана попытка в самых общих чертах передать суть теории Льва Николаевича Гумилева, не вдаваясь в подробности его разногласий с представителями академической науки. Приступая к рассмотрению этнической истории российского суперэтноса, мы вступаем на тернистую тропу войны, где сломано немало копий и боевые действия идут с завидной регулярностью. Автор не претендует на полноту освещения, но используемые источники по возможности будут отражать и те точки зрения, которые не совпадают с воззрениями Гумилева на соответствующие исторические события. Например, большим подспорьем при написании этой части стал четырехтомный труд современного историка и общественного деятеля Евгения Юрьевича Спицына, содержащий не только историографический анализ по рассматриваемым вопросам, но и некоторые критические замечания в адрес евразийцев вообще и Л. Н. Гумилева в частности.
Начиная разговор о России, неизбежно придется традиционно зайти издалека, с вопроса «откуда есть пошла земля русская», а точнее – откуда пошли наши предки славяне. Это необходимо для того, чтобы выяснить, как происходило зарождение великоросского этноса. Само его появление Л. Н. Гумилев связывает с пассионарным толчком XIII века н. э., а этническим субстратом для него послужили народы Древней Руси и Орды.
Монголы – молодой по сравнению со славянами этнос, возникший в XI веке н. э. Их взлет был стремительным, на Руси они впервые появились уже во второй половине фазы пассионарного подъема. Становление же древнерусского этноса явилось отдаленным результатом пассионарного толчка I века н. э., прошедшего по территории Европы и давшего начало не только византийским христианам, продолжавшим считать себя ромеями, но и славянам.
По поводу времени возникновения славян единого мнения в исторической науке не существует. Его относят и к I веку н. э., и к несколько более позднему, и даже к более раннему периоду. Распространение славян по просторам Европы началось во время Великого переселения народов во II веке и длилось на протяжении нескольких столетий. К VI веку «они были не только самым большим этносом Европы, но и заселяли огромную территорию от верховьев Волги и Дона до берегов Одера и Дуная» [112].
Русский историк Сергей Федорович Платонов, говоря о быте славянских племен, пришедших в пределы теперешней России, отмечает, что по этому вопросу в исторической науке еще в XVIII веке сложились две противоположные точки зрения. Одна представляет их совершенными дикарями, другая, напротив, «рисует нам быт славян русских в IX–X вв. очень сложным и высоко развитым» [80]. Первую активно продвигали иностранцы, в частности немецкий историк Август Людвиг Шлецер, в течение нескольких лет (с 1761 по 1767) находившийся на русской службе. Оппонировал Шлецеру Михайло Васильевич Ломоносов. А свое окончательное развитие вторая точка зрения получила в работе «История русской жизни с древнейших времен» русского ученого Ивана Егоровича Забелина (1820–1909).
Сам С. Ф. Платонов, считавший главной задачей историка следование достоверности, а не измышлениям в угоду своим убеждениям, полагал обе эти точки зрения пристрастными и утверждал, что в оценке быта славян «летописец впал в неточность, говоря, что в большинстве своем они „живяху звериньским образом“; но, с другой стороны, у нас нет никакой возможности доказать, что этот быт достигал высоких степеней общественной культуры» [80]. Однако наряду с примитивным подсечным земледелием, охотой и бортничеством он отмечал развитую торговлю и существование многих городов: «…с первого же времени исторической жизни славян мы видим у них признаки развития городской жизни. Скандинавские саги, знакомые с Русью, зовут ее „Гардарик“, т. е. страна городов. Летопись уже не помнит времени возникновения на Руси многих городов, они были „изначала“. Главнейшие города древней Руси (Новгород, Полоцк, Ростов, Смоленск, Киев, Чернигов) все расположены на речных торговых путях и имели значение именно торговое, а не были только пунктами племенной обороны» [80].
Упоминание племенной обороны не является случайным. Восточные славяне не были едины; каждое племя жило своим укладом и не всегда мирно с соседями. Если их общественный строй является вопросом дискуссионным, то факт деления на полян, древлян, кривичей, вятичей и прочих общеизвестен и возражений не встречает. Однако нет оснований полагать, что единства славян (включая не только восточных, но и южных с западными) не было и ранее. Платонов пишет, что в свое время из Карпат «славяне разошлись в разные стороны» [80], а Н. М. Карамзин отмечает, что, рассеявшись по Европе и подвергнувшись влиянию других народов, «славянские племена утратили единство языка» [40].
Весьма примечательны размышления В. О. Ключевского по поводу карпатского периода славян: «…мы застаем у восточных славян на Карпатах в VI веке большой военный союз под предводительством князя дулебов. Продолжительная борьба с Византией завязала этот союз, сомкнула восточное славянство в нечто целое» [43]. Из приведенной цитаты видно, что данный союз трактуется автором не как отголоски былого единства, а как попытка «восточных славян сплотиться, соединить свои силы для общего дела» [43].
Возникающие при этом сомнения Ключевский сам же и разрешает: «Смутное предание донесло из того времени имя лишь одного восточного славянского племени – дулебов, стоявшего во главе целого военного союза. Трудно представить себе, как среди господствовавшей родовой и племенной розни составлялся и действовал этот союз. Мы привели его в связь с продолжительными набегами карпатских славян на Восточную империю. По своим целям и составу он представлял ассоциацию, столь непохожую на родовые и племенные союзы, что мог действовать рядом с ними, не трогая прямо их основ. Это были ополчения боевых людей, выделявшихся из разных родов и племен на время похода, по окончании которого уцелевшие товарищи расходились, возвращаясь в среду своих родичей, под действие привычных отношений. Подобным образом и впоследствии племена восточных славян участвовали в походах киевских князей на греков. С нашествием аваров, когда прекратились славянские набеги на империю и началось расселение славян, этот союз должен был сам собою распасться» [43].
Трудно сказать, почему Ключевский подобное формирование считает результатом военного союза племен, но весьма вероятно, что таким образом он пытается примирить свою версию о попытке объединения славян с информацией из византийских источников о разногласиях и частых усобицах между ними, которую он приводит в этом же параграфе.
Еще более удивительно следующее высказывание Е. Ю. Спицына: «Со всей очевидностью можно утверждать только одно, что к концу так называемого «Великого переселения народов» (III–VII вв. н. э.) славяне занимали огромную территорию Центральной и Восточной Европы и представляли собой единый суперэтнос. Однако на рубеже VII–VIII вв. н. э. этот суперэтнос под воздействием как внутренних, так и внешних факторов, в частности острой борьбы с воинственными германскими племенами, распался на три большие и относительно локальные группы» [112]. Удивительно оно тем, что Евгений Юрьевич, будучи противником пассионарной теории этногенеза, дал характеристику событий в полном соответствии с этой самой теорией.
Таким образом, мы имеем основания предполагать, что славянский этнос, возникший в I веке н. э., начал свое распространение по Европе приблизительно в середине фазы подъема (II век н. э.). Продолжил это распространение, постепенно структурно усложняясь, перейдя к активной экспансии и тревожа соседей вроде Византийской империи, и распался в фазе надлома (VII–VIII века) под одновременным воздействием внутренних противоречий и натиска соседей. Отдельные части славянского суперэтноса, осваивая новые территории и смешиваясь с другими народами, дали начало новым этническим образованиям с последующим их социальным оформлением в виде государств.
Образование единого древнерусского государства относят к IX веку. Сам этноним – русь, русские – не является славянским. Предполагается, что он связан с русами, которых одни исследователи считают племенем балтов, некоторые – племенем славян, а третьи вообще полагают представителями скандинавов. Последняя версия родилась из прочтения «Повести временных лет», в которой сказано, что несколько славянских племен призвали на княжение варяга Рюрика, так как сами не могли навести в своих землях порядка. Именно эта версия, норманнская, проникла в школьные учебники и прочно там обосновалась. В исторической же науке существует давнее противостояние норманистов и антинорманистов.
Л. Н. Гумилев полагал, что еще «в IX веке русы и славяне имели мало общего», но и «для отождествления скандинавских варягов с аборигенами-русами оснований нет» [20], так как термин «варяг» обозначает не этническую принадлежность, а род занятий («варяг» – «воин»). Русы сами промышляли набегами на соседей и, кроме того, охотно вступали в скандинавские варяжские дружины. С. Ф. Платонов приводит похожую версию со ссылкой на С. М. Соловьева, но сам склонен считать варягов норманнами. При этом он вполне резонно замечает, что «этот вывод еще не решает так называемого „варяго-русского“ вопроса, потому что не говорит нам, кто назывался именем русь» [80].
Однако и Гумилев, и Платонов сходятся в том, что связь между русскими князьями-варягами, кем бы варяги ни были в массе своей, и скандинавами на тот момент существовала. Так, Л. Н. Гумилев пишет по поводу героических деяний князя Олега, которого считал персонажем реальным, но «героем» скорее мифическим: «Особенно характерна „историческая мифология“ для русского летописания – знаменитой „Повести временных лет“ Нестора. Инок Нестор жил и трудился в Киево-Печерской лавре – культурном центре Киева, где в XI–XII вв. были сильны антигреческие настроения. Отражением этих настроений служит, например, факт переноса Нестором даты похода русов под руководством Аскольда на Царьград на 47 лет (с 860 г. на 907 г.) и вообще приписание похода Олегу. Так подвиги древнего руса в войне с Византией оказались совершенными варяжским конунгом» [22].
Как видно из приведенного выше отрывка, Лев Николаевич противопоставляет древнего руса Аскольда[23] варягу Олегу. Хельгу, по мнению Гумилева, – титул скандинавского вождя. Он даже приводит летописный пример, когда «хельгу», судя по контексту, употребляется по отношению к князю Игорю. В этом случае не только Олег, но и Ольга применительно к тому времени являются не именами собственными, а титулом. Имеющаяся информация о существовании у князя Олега сына по имени Олег убедительным доказательством данной версии не является, но делает ее достаточно правдоподобной.
С. Ф. Платонов роль князя Олега оценивает гораздо более позитивно и в полном соответствии с описанием Нестора, но отмечает, что славянские «города служили сборными пунктами для купцов и складочными местами для товаров. В них встречались торговые иноземцы, варяги по преимуществу, с русскими промышленниками и торговцами; происходил торг, составлялись торговые караваны и направлялись по торговым путям на хазарские и греческие рынки. Охрана товаров в складах и на путях требовала вооруженной силы, поэтому в городах образовались военные дружины или товарищества, в состав которых входили свободные и сильные люди (витязи) разных народностей, всего чаще варяги. Во главе таких дружин стояли обыкновенно варяжские предводители – конунги (по-славянски конунг – князь). Они или сами торговали, охраняя оружием свои товары, или нанимались на службу в городах и оберегали города и городские торговые караваны, или же, наконец, конунги захватывали власть в городах и становились городскими владетельными князьями… <…> Иногда княжеская власть возникала у славянских племен и независимо от варяжских конунгов: так, у древлян был свой местный князь по имени Мал» [80].
Картина вполне правдоподобная. В соответствии с ней неплохо сочетаются и варяги-воины, и ненорманнского происхождения русы, нанимавшиеся на службу в варяжские дружины, и скандинавское происхождение некоторых русских князей, и даже добровольное приглашение варягов местным населением: приглашали-то охранять, а не «володеть».
К этой же мысли приходит и В. О. Ключевский в процессе анализа различных редакций «Повести временных лет»: «Предание говорит, что князья-братья, как только уселись на своих местах, начали „города рубить и воевать всюду“. Если призванные принялись прежде всего за стройку пограничных укреплений и всестороннюю войну, значит, они призваны были оборонять туземцев от каких-то внешних врагов, как защитники населения и охранители границ» [43]. Но остается главный вопрос: как это событие повлияло на славян, что в их жизнь привнесли русы и варяги?
Гумилев полагал, что в Киеве «сложилась славяно-русская этническая общность. Сближение русов и славян было настолько тесным, что русы передали славянам и свое имя, и своих князей» [22]. С конца IX века идет интенсивная метисация между русами «и славянами, киевскими и новгородскими, причем торжествуют славянские обычаи и язык» [20].
В этом же ключе делает вывод и Платонов: «Вопрос этот не раз поднимался и в настоящее время может считаться решенным в том смысле, что варяги не повлияли на основные формы общественного быта наших предков-славян. Водворение варяжских князей в Новгороде, затем в Киеве не принесло с собой ощутительного чуждого влияния на жизнь славян, и сами пришельцы, князья и их дружины, подверглись на Руси быстрой славянизации» [80].
Чтобы увидеть, что история Древней Руси укладывается в канву циклической модели этногенеза, предложенной Гумилевым, вовсе необязательно разделять все его представления о причинах и течении тех или иных конкретных событий русской истории. Поэтому не имеет смысла настаивать на гумилевской трактовке этого периода. В конце концов, Лев Николаевич мог и ошибаться. Сосредоточимся на наиболее распространенной («школьной») версии событий, лишь иногда приводя точку зрения Гумилева.
После смерти Олега власть перешла к Игорю, князю не слишком удачливому. С. Ф. Платонов прямо пишет, что он не имел «таланта ни воина, ни правителя» [80]. Его трагическая гибель отчасти подтверждает этот вывод. Личностью иного масштаба была жена Игоря Ольга, принявшая на себя правление княжеством после смерти мужа, так как сын их Святослав был еще слишком юн. Летописи несколько приукрашивают ее образ, но нет никаких сомнений в том, что это была выдающаяся женщина. «Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь Святою, история Мудрою. Отомстив древлянам, она сумела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждыми до совершенного возраста Святославова; с деятельностью великого мужа учреждала порядок в государстве обширном и новом» [40].
C Ольгой связывают и становление на Руси православия, хотя, конечно, она не была ни первой, ни единственной христианкой на Руси того времени. «В Константинополе на императорской службе состояло немало руси, и крещеной и поганой» [43]. Это замечание Ключевского относится еще ко временам князя Олега.
Святослав не разделял религиозных взглядов матери. Он был язычником, Ольге так и не удалось склонить его на свою сторону. Молодой князь тоже был весьма примечательным историческим персонажем. «Когда он вырос и возмужал, то начал собирать около себя много храбрых воинов; ходил легко, как барс, и только и делал, что воевал» [111]. Своими удачными походами он вернул Киеву авторитет среди соседей, утраченный во время правления Игоря и лишь отчасти восстановленный мудрой дипломатией Ольги.
В результате побед над хазарами, черкесами, булгарами и другими народами Святослав не только освободил свое княжество от дани хазарам, но и значительно укрепил влияние Киева в Причерноморском бассейне. Наиболее серьезной проблемой для Руси на тот момент оставались печенеги. Победа же над дунайскими болгарами[24] послужила косвенной причиной его гибели.
Когда Византия обратилась к Святославу за помощью в борьбе с болгарами, никто не подозревал, что он, одержав над ними победу, решит приобщить покоренные земли к своим и поселиться в Переяславце на Дунае. В планы греков такой поворот событий совершенно не входил. В Константинополе закипели нешуточные страсти. Русское войско было осаждено ими в годе Доростол на Дунае, а Святослав подписал мирный договор, по которому отказывался от своих притязаний на дунайские земли. Он был убит печенегами, когда возвращался домой через днепровские пороги.
Предполагается, что информацию о передвижении Святослава печенегам дали византийцы. Но к тому времени князь нажил множество врагов, в том числе и в Киеве, где имело место противостояние между партией христиан и партией язычников, которую возглавлял Святослав. Ольга уже скончалась, и конфликт обострился. Поэтому существует версия (ее поддерживал Л. Н. Гумилев), согласно которой печенегов на княжескую дружину навели вовсе не византийцы, а старший сын Святослава Ярополк, возглавлявший христианскую киевскую общину.
После смерти Святослава между его сыновьями Ярополком, Олегом и Владимиром началась борьба за власть. В российской историографии эта княжеская усобица, как правило, трактуется как непосредственное соперничество между братьями. Л. Н. Гумилев полагал, что речь шла не о персональных притязаниях, а о борьбе различных политических группировок, сложившихся к тому времени, а князья были лишь их выразителями.
«Летописец описывает все последующие события как деяния князей. Но мы знаем, что в действительности князья были очень молоды. Владимиру и третьему сыну Святослава – Олегу было около 15 лет, Ярополк был чуть старше. Эти юноши вряд ли могли проводить самостоятельную политику. За ними стояли опытные и влиятельные мужи, опиравшиеся на население определенных земель» [22]. Победителем вышел Владимир, представлявший языческую партию.
Мнения историков по поводу личности князя Владимира, известного под именем Владимира Святого, разделились. Одни считают его человеком множества пороков, чему имеются веские основания, другие рисуют светлый образ Крестителя Руси. Распространен также взгляд, согласно которому до своего крещения Владимир был типичным язычником, не обремененным нравственными понятиями, но после крещения коренным образом преобразился. В любом из существующих представлений основной заслугой князя считается Крещение Руси – важный переломный момент в ее истории. Датируется это знаменательное событие также различным образом, но разброс дат относительно невелик и, как правило, относится к последним годам X века. Чаще всего называется 988 год.
Впоследствии Владимир был канонизирован Русской православной церковью. Однако не вызывает сомнения, что принятие Русью православия не свидетельствует о его религиозных предпочтениях; причины этому были вполне земные и сугубо политические. Указанием на это является первоначальная попытка проведения им языческой реформы. Провел князь и административную реформу, оценки которой историками также разнятся; вел войны в различных направлениях.
Происходило расширение государственных границ, но процесс этот шел медленно. У Ключевского по этому поводу имеется следующее замечание: «в половине X в. линия укреплений по южной границе шла на расстоянии одного дня пути от Киева. Значит, в продолжение полувековой упорной борьбы при Владимире Русь успела пробиться в степь на один день пути, т. е. передвинуть укрепленную границу на линию реки Роси, где преемник Владимира Ярослав „поча ставити городы“, населяя их пленными ляхами» [43].
На конец княжения Владимира пришелся бунт его сына Ярослава (1014 год), сидевшего наместником Великого князя в Новгороде и отказавшегося платить отцу положенную дань в две тысячи гривен. Владимир был взбешен и начал подготовку похода на сына войною, но «сильно разболелся; в этой болезни и умер» [111]. После смерти князя началась усобица между его сыновьями, продолжавшаяся четыре года. Победителем из нее вышел Ярослав, правление которого было долгим (более тридцати лет) и успешным, за что князь и прозван был Ярославом Мудрым.
Этот период – большая часть первой половины XI века – считается расцветом Древнерусского государства. Он ознаменован внешней политикой, направленной на укрепление авторитета Руси, включая важные династические браки; победой над печенегами; расширением старых городов и строительством новых, укреплением границ; проведением административной, правовой и судебной реформ; развитием культуры и образования. Русь становится одним из сильнейших государств в Европе, многие европейские государства заинтересованы в союзе с ней.
Выше уже приводилось высказывание С. Ф. Платонова о существовании значительного числа городов в Древней Руси. Эта тема в сочетании с общекультурной получает у него и дальнейшее развитие. «Любопытен тот факт, что в скандинавских сагах Киев называли „страной городов“, следовательно, городская жизнь была в глазах иноземцев отличительной чертой Руси. По летописи насчитываются сотни городов, тянувших к „старейшим“ городским центрам на Руси. Конечно, такая многочисленность городов обусловливалась не одними административными и военными потребностями, но и развитием торговли, которая придавала городу значение рынка. <…> Киев был торговой станцией не только между севером и югом, т. е. между варягами и Грецией, но и между Западом и Востоком; т. е. между Европой и Азией; отсюда понятно торговое значение Киева и всей южной Руси. Тихий земледельческий труд мешался здесь с бойким и шумным торговым движением; жизнь отличалась многообразием функций; торговля, вызывая знакомство со многими народами, способствовала накоплению богатств и знаний. Много условий создавалось здесь для культурного развития, и это развитие начиналось и зацветало ярким цветом. Просвещение, принесенное христианством, нашло приют в русских монастырях и приобрело себе много поборников. Мы знаем, что христианская мораль успешно боролась с грубыми воззрениями языческой старины; мы видим князей, читающих и собирающих книги, князей, заказывающих переводы благочестивых произведений церковной литературы на русский язык; мы видим распространение грамотности, видим школы при церквах и епископских дворах; мы любуемся фресками, которые писаны по греческим образцам русскими художниками; мы читаем произведения богословски образованных русских людей. Словом, в отношении просвещения Киевская Русь стояла не ниже прочих молодых государств и своих ближайших соседей, славян. Исследователи первоначальных сношений Руси и Польши прямо признают культурное превосходство первой. И материальная культура киевского общества стояла, сравнительно с прочей Европой, не низко. Внешность Киева вызывала панегирики писателей XI в. Западным иностранцам Киев казался соперником Константинополя» [80].
Подтверждения позиции Платонова в этом вопросе можно найти, обратившись к современным исследованиям грамотности среди населения или положения женщин Древней Руси. Так, доктор исторических наук Альбина Александровна Медынцева в своей монографии «Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики X – первой половины XIII в.» приводит многочисленные данные, свидетельствующие о широком распространении на Руси грамотности среди населения и проникновения «ее в среду привилегированного ремесленничества, княжеской дружины, женщин княжеской фамилии», а также «использования в традиционных сферах: торговли, государственного управления и религии» [72].
Примечательны ее исследования в области граффити: «Обычай писать на церковных стенах настолько широко распространен в древней Руси, что нашел отражение в юридических документах: церковным судом такое занятие приравнивалось к „посечению креста“. Тем не менее многие памятники древнерусской архитектуры исчерчены многочисленными надписями. К настоящему времени граффити обнаружены на стенах архитектурных памятников многих городов древней Руси: Киева, Новгорода, Старой Ладоги, Владимира, Смоленска, Пскова, Полоцка, Старой Рязани и т. д.» [72].
Медынцева также отмечает, что «привлечение памятников эпиграфики позволяет и хронологически расширить границы исследуемого периода: в то время, как известные древнерусские рукописи датируются серединой – второй половиной XI в., достоверные памятники эпиграфики появляются уже в X в.» [72].
Распространение получили не только грамотность, но и вообще разностороннее образование среди знатных женщин. Среди дошедших до нас имен наиболее известно имя Ефросиньи Полоцкой, которая сама писала книги и переводила религиозно-философскую литературу на славянский язык, занималась просветительской деятельностью. Прекрасно образованы были и дочери Ярослава Мудрого.
Одним из династических браков времен Ярослава было замужество Анны Ярославны, вышедшей за французского короля Генриха I. Наталья Львовна Пушкарева, доктор исторических наук и основоположница исторической феминологии и гендерной истории в отечественной науке, так описывает ее жизнь после замужества: «Первые годы жизни в Париже не были радостными для Анны. „В какую варварскую страну ты меня послал; здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны“ – эти строки из письма Анны к отцу в Киев цитируют французские исследователи. Но достоверных данных о ее жизни в Париже в 1051–1060 гг. нет. К этому времени относится лишь письмо к ней римского папы Николая II (1059 г.), в котором, в частности, говорится: „Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошел до наших ушей, и с великой радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом“. О растущем авторитете Анны во французском обществе говорит и тот факт, что ей было предоставлено право ставить свою подпись на документах государственной важности. Ее четкие, ясные, написанные знакомым „уставом“ буквы стоят рядом с крестами неграмотных королевских чиновников, придворных и самого короля – Генриха I. Эта привилегия Анны была уникальным явлением для французского королевского двора XI в. Анна знала латынь – официальный язык того времени, на котором писало и говорило образованное общество в Западной Европе. Кстати, письмо папы к Анне было написано по-латыни. Но коронованная киевлянка, живя вдали от родины, помнила кириллическое правописание, подписывалась и на родном языке» [86].
Итак, на правление Ярослава Мудрого приходится расцвет Древнерусского государства. Ярослав был озабочен и тем, что станет с Русью после его смерти. Он наставлял своих сыновей: «Вот я отхожу из этого света, дети мои; любите друг друга, потому что вы дети одного отца и матери. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди вас, покорит вам всех врагов, и будете жить мирно; если же станете ненавидеть друг друга, жить в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую они достали себе трудом великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата» [82]. Однако после смерти Ярослава в 1054 году усобица повторилась.
Справедливости ради надо сказать, что произошло это далеко не сразу, и не властолюбие сыновей Ярослава было тому причиной. Первые годы их общего правления протекали достаточно мирно, но постепенно обстановка стала накаляться: пришли в движение многочисленные родственники (дядья, племянники), активизировались простые киевляне, решая, кому быть князем в Киеве. По мнению Гумилева, и в этом случае за княжеской усобицей прослеживаются интересы различных групп и идеологий, а не только властные амбиции отдельных князей.
Нельзя при этом сказать, что князья не хотели между собой договориться, но на постоянной основе достичь этого никак не получалось. На какой-то период механизмом урегулирования конфликтов и выработки общих решений стали княжеские съезды. Однако их соглашения не были долговечны. Так, Любеческий съезд 1097 года «поделил все русские волости между князьями на началах справедливости, утвердив правило: „каждо да держит отчину свою“. Но справедливость была вскоре попрана главным ее блюстителем Святополком, который, действуя заодно с Давидом Игоревичем, ослепил одного из князей изгоев[25] Василька» [80].
Далее предоставим слово Евгению Юрьевичу Спицыну: «Весной 1098 года, когда весть об этом жутком злодеянии разошлась по всей Руси, Владимир Мономах и черниговские князья, сговорившись на Городецком съезде, пошли походом на Киев, силой заставили великого князя Святополка примкнуть к их коалиции и вместе двинулись походом на Волынь. До нового кровопролития дело не дошло, поскольку князь Давыд покаялся в своем злодеянии и, отпустив ослепленного им Василька, „створяше с нимъ миръ“. Но вскоре на Волыни и в Галиции началась новая междоусобная вражда, в ходе которой Володарь и Василько Ростиславичи захватили все волынские города и изгнали Давыда с отцовского стола, а сам он бежал „в ляхи“» [112]. Для наведения порядка потребовался очередной съезд.
Ключевский писал: «По смерти Ярослава власть над Русской землей не сосредоточивается более в одном лице: единовластие, случавшееся иногда до Ярослава, не повторяется; никто из потомков Ярослава не принимает, по выражению летописи, „власть русскую всю“, не становится „самовластцем Русской земли“. Это происходит оттого, что род Ярослава с каждым поколением размножается все более и земля Русская делится и переделяется между подраставшими князьями» [43].
Тем не менее, относительно спокойный период на Руси наступает еще один раз. После смерти нелюбимого киевлянами Великого князя Святополка и народных беспорядков в Киеве киевское городское вече призывает на великокняжеский стол Владимира Мономаха, прозванного так по имени своего византийского деда со стороны матери. «Услыхав это, Владимир пошел в Киев; митрополит Никифор, епископы и киевляне встретили его с великою честию; Мономах сел на стол отца своего и дедов своих; и все люди были рады, и мятеж утих» [111]. А вот как характеризует С. М. Соловьев самого Владимира: «…братолюбец и нищелюбец и добрый страдалец за Русскую землю; он просветил ее, подобно солнцу, испускающими лучи свои; слава его пронеслась по всем странам, особенно был он страшен половцам» [111].
По всей видимости, Владимир помимо перечисленных достоинств обладал здравомыслием и политической волей, так как сумел в период своего княжения усмирить кипящий котел, в который стала превращаться к тому времени Русь. Как отмечает Е. Ю. Спицын, ссылаясь на мнение ряда современных историков, «авторитет и влияние Владимира Мономаха во всех русских землях были настолько велики, что можно вполне определенно говорить о ренессансе Древней Руси, которая именно в те годы была сильна как никогда» [112].
Правление Владимира было не очень долгим (1113–1125 годы). В 1125 году Владимир умирает, оставив великокняжеский стол своему старшему сыну Мстиславу. Уже тот факт, что никто не воспротивился нарушению старшинства наследования, допущенному в этом случае, включая законного претендента на великокняжеский стол дядю Мстислава, говорит о многом. Действительно, в «годы своего правления Мстислав Великий жестко охранял целостность Русской земли и пресекал любые попытки сепаратизма» [112]. Но с момента кончины Мстислава в 1132 году начинается очередная княжеская междоусобица и распад государства.
Чтобы читатель мог в полной мере прочувствовать атмосферу большей части XII века на Руси, приводим отрывок из «Курса русской истории» С. Ф. Платонова. Начнем с 1154 года, так как со смерти Мстислава до этого момента события развивались в том же ключе. «В 1154 году Изяслав умер; престарелый Вячеслав вызвал другого своего племянника – Ростислава Смоленского, и киевляне присягнули ему, заключив, однако, договор, что он будет чтить своего дядю Вячеслава, как делал это его покойный брат. После же смерти Вячеслава киевляне приняли Изяслава Давидовича, представителя Святославичей; но тут снова явился Юрий, и престол, в третий раз перейдя к нему, остается за ним до его смерти. В 1157 г. Юрий умирает, и киевляне, не любившие этого князя, хотя он и был Мономахович, снова зовут на киевский стол Изяслава Давидовича. Тогда один из младших Мономаховичей, Мстислав Изяславич Владимиро-Волынский, опасаясь, что киевский стол уйдет из рук Мономаховичей, изгнал Изяслава из Киева и водворил там своего дядю Ростислава, а после смерти его в 1168 году сам занял великокняжеский престол. В то же время претендентом на Киев является сын Юрия – Андрей, которого Мстислав обошел, как раньше отец его Изяслав обошел дядю своего Юрия. Победа в этой борьбе осталась на стороне Андрея; в 1169 г. Киев был взят, а Мстислав удалился в свою Волынскую область. Киев был ограблен и сожжен, а сам победитель не остался в нем и ушел на север» [80].
Таким образом, к середине XII века от величия Древней Руси остались преимущественно воспоминания; да и сама она прекратила существование как единое государство, распавшись на десятки отдельных княжеств. С юга постоянно грозили набегами кочевники, торговые обороты падали, население беднело, князья пребывали в постоянных выяснениях отношений. Народ стал сниматься с мест и мигрировать на северо-восток.
С этого времени начинается новый этап истории Древней Руси. Вслед за населением основные события перемещаются на ее северные территории. С. Ф. Платонов так характеризует этот период: «…усобицы князей, отсутствие внешней безопасности, падение торговли и бегство населения – были главными причинами упадка южнорусской общественной жизни. Появление же татар нанесло ей лишь окончательный удар. После нашествия татар Киев превратился в маленький городок в 200 домов; торговля вовсе заглохла и мало-помалу Киевскую Русь по частям захватили ее враги. А в то же время на окраинах Русской земли зарождалась новая жизнь, возникали новые общественные центры, слагались новые общественные отношения. Возникновение и развитие Суздальской Руси, Новгорода и Галича начинают уже собою иной период русской истории» [80].
Произошло усиление ряда северных княжеств, изменились даже приоритеты самих князей. Как верно подметил Платонов, киевский стол стал им неинтересен. Мы уже видели это на примере Андрея Боголюбского, разорившего Киев в 1169 году. Северные князья активно вмешивались в дела южных княжеств, но свою жизнь с ними связывать не хотели. Простой подсчет показывает, что при начале этногенеза славян в I веке н. э., на XII–XIII века должна прийтись фаза обскурации, и мы видим подтверждения этому не только в бесконечных внутренних конфликтах, но и в признаках отсутствия общей идентичности единого в недавнем прошлом народа.
Несмотря на различия во внутреннем устройстве Северной и Южной Руси, процесс распада продолжился и северных землях. Северную Русь называют удельной. Здесь не было борьбы за великое княжение: каждая княжеская семья владела определенной территорией – уделом. «Но в XII в. начинается разложение родового порядка благодаря младшим городам северной Руси, которые, получая особого князя, более ему подчиняются, чем старые, старшие города, что и позволяет князьям усилить свою власть. Князья, возвышая эти города в ущерб старым, смотрят на них как на собственность, устроенную их личным трудом, и стараются как личное владение передать их в семью, а не в род. Благодаря этому родовое владение падает, родовое старшинство теряет значение, и сила князя зависит не от родового значения, а от материальных средств. Каждый стремится умножить свою силу и средства увеличением своей земли, своего удела. Усобицы идут уже за землю, и князья основывают свои притязания не на чувстве родового старшинства, а на своей фактической силе. Прежде единство земли поддерживалось личностью старшего в роде князя. Теперь единства нет, потому что кровная связь рушилась, а государство еще не создалось»











