Читать онлайн Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов
- Автор: Флавиус Арделян
- Жанр: Городское фэнтези, Героическое фэнтези, Зарубежное фэнтези
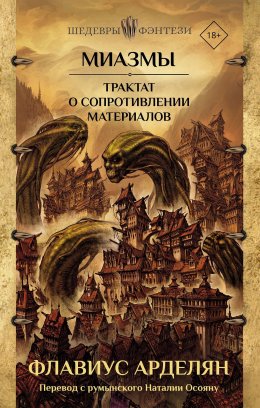
Flavius Ardelean
Miasma. Tratat de rezistența materialelor
Публикуется с разрешения автора.
Copyright © Flavius Ardelean-Bachmann
© Наталия Осояну, перевод, 2024
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Посвящается Кати
Это как шум, который слышишь во сне. А сон – как всякий сон в закрытом пространстве, – он заразен. Приснилось одному – а потом глядь, а он уже половине заключенных снится. Но шумок, который кто-то слышал, это не сон, это самая что ни на есть реальность. Шум – он из другого порядка вещей. Вы меня понимаете? Кто-то, а потом все слышали шум во сне, но шум-то – он не из сна, он из реальности, он реален. Вы меня понимаете?
Роберто Боланьо, 2666[1]
Пролог
Утром, когда вся Альрауна – когда-то Мандрагора, а еще раньше Рэдэчини – еще спала под плотным снежным одеялом, отец Сарбан вынул из-под сутаны ключи от церкви Прими и, поднявшись по трем каменным ступеням, увидел обгоревшего человека: аморфную груду красной плоти и черных корок, чье телесное тепло поднималось к небесам, а стоны устремлялись к земле. Сарбан приблизился и попытался разглядеть лицо несчастного (мужчина? женщина? ребенок?), однако тот пострадал слишком сильно, его черты оплавились, голова превратилась в огромный кулак – сизый, местами обугленный, – и бескрайняя опаленная равнина лба тянулась к самому затылку. Кусочки ткани расплавились и прикипели к коже, словно живые, причиняющие боль одежды, и сквозь мазки, коими была написана гротескная картина, просачивались (как потаенный слой краски на всеми позабытом холсте) далекие, едва слышные стоны на выдохе.
Сарбан помчался к дому Крума, который был на другой стороне улицы, и заколотил в дверь. Время от времени он оборачивался и высматривал на ступенях церкви опаленную плоть, едва заметную среди вздымавшихся повсюду серовато-белых сугробов. Наверху зажегся свет, и миг спустя из-за двери высунул нос мальчишка.
– Лекаря сюда! – крикнул священник, но тут же решил не ждать ответа и, оттолкнув ребенка, устремился вверх по лестнице.
Поднявшись, стал стучать в дверь Хальбера Крума, а маленький ученик – видимо, сам еще толком не проснувшийся – впустую бормотал, дескать, хозяин спит вполглаза, надо бы потише, не то он проснется и…
– Это мне и нужно, малец! – рявкнул Сарбан и пнул дверь спальни, зовя лекаря по имени.
Вскоре ему открыли; Крум, все еще одурманенный сном, шагнул через порог, поправил колпак на лысине и спросил:
– Что стряслось, отче? Кто умер?
– Пока никто, мастер Крум, – сказал Сарбан, – но, если не поспешим, умрет.
Он схватил лекаря за руку и потащил сперва вниз по лестнице, потом через двор – тот и опомниться не успел, как очутился посреди улицы в ночной сорочке, спальном колпаке и домашних тапочках.
– Погоди, отче, дай хоть что-нибудь на себя накинуть, – вяло протестовал Хальбер Крум, но Сарбан не желал ничего слышать.
– Брось, нет нужды. Это прямо через дорогу.
– Через дорогу, ну да, конечно, – а как же снег?..
– А что снег? Он ведь просто вода.
– Вода-то вода, но…
Прежде чем Крум успел сказать что-нибудь еще, его втолкнули на церковный двор, где взгляд лекаря упал на обгорелого, и увиденное вынудило его застыть столбом от ужаса, который запечатлелся в памяти до конца отпущенных Круму дней, а то и дольше: целый мир, живой опаленный континент медленно повернулся к вновь прибывшему, мучительно сдвинулись с места обугленные тектонические плиты (в тишине утра Крум услышал потрескивание – это терлись друг о друга их неровные края), и где-то посреди этого массива плоти, побывавшей в огне, открылись два больших покрасневших глаза с радужками цвета полуночи, цвета страха, овладевшего мужчинами. Лекарь услышал стон, и у него задрожали поджилки.
– Ну что ты стоишь? – сказал священник. – Поднимем его!
– Давай позовем… давай отнесем его…
– Нет!
Крум уставился на Сарбана, спросил:
– Но как? Куда?
– Сперва к тебе, потом ко мне.
– Но…
– На прочее у нас нет времени, совсем нет…
Лекарь больше ничего не сказал, а повернулся к замершему в дверях его дома ученику и жестом велел принести носилки. Мальчишка сгинул во тьме передней. Двое застыли в молчании возле обгорелого. Альрауна еще дремала, уютно расположившись на склоне горы, которая будто охраняла город целую вечность. Мужчины хотели о чем-то друг друга спросить, но сами не знали, о чем. Они слушали, как горемыка издает хриплые звуки через оплавившиеся, истекающие телесными жидкостями отверстия, и молчали. Когда раздались поспешные шаги ученика, оба посмотрели на него. Мальчишка в ужасе замер возле обгорелого, как будто увидел не'Человека из сказки, которого не'Мир исторг в мир обычных людей.
Они завернули несчастного в простыню и положили на носилки, а потом направились к дому лекаря, где в темной передней мельтешили парами глазки да пованивало мокрой шерстью. Протащили мумию вверх по ступенькам и распахнули дверь так, что она ударилась о стенку. В коридор из спальни выскочила госпожа Крум и от смеси изумления и ужаса одной рукой схватилась за голову, другую прижала ко рту.
– Но, Хальбер, что это, дорогой Хальбер? Скажи мне, не молчи! – затараторила женщина.
Однако муж ее отпихнул и рявкнул:
– Прочь с дороги, жена, тут человек умирает!
Ученик, шедший следом, трепетал от мысли, что завернутый в белую ткань обожженный горемыка вот-вот скончается. Мальчик наблюдал, как простыня поднимается и опускается, слушал, как грудная клетка несчастного выпевает мелодию смерти. Из-под складок ткани пробивался смрад и витиеватыми струйками улетал ввысь.
– Где он обгорел? – спросил Хальбер Крум.
– Не знаю, мастер, – ответил Сарбан. – Вот ты смотришь на него, – и смотришь на меня, а я на тебя, – и видишь таким, каким я его только что обнаружил на ступенях церкви.
– Что-то случилось этой но…
– Я не слышал, чтобы ночью что-то загорелось. По крайней мере, не в Прими. Мы бы узнали, если бы он обгорел в Медии? И даже если бы это случилось в Инфими, мы бы все равно узнали.
– Мы бы узнали, – подтвердил лекарь.
Они пронесли несчастного по тесному коридорчику до неосвещенной комнатушки. Там несло дохлятиной и всякими телесными соками. Мальчишка-ученик потрогал колбы, пощупал деревянный стол, пропитавшийся жидкостями, а потом повернулся к незнакомцу на носилках, и в глазах у него потемнело. Подогнулись колени при виде тела, больше не укрытого простыней, – потрескавшейся кожи, лица в ранах и волдырях, скрещенных рук, похожих на тараканьи лапки. Ученик согнулся пополам и его вырвало.
– Марш отсюда, негодяй! – рявкнул Хальбер Крум, и мальчишка пулей вылетел из комнаты, оставив после себя лужу, источающую кислую вонь.
– Садись-ка, отче, мне понадобится время, чтобы очистить раны этого бедного создания, – проговорил Крум со вздохом. – Ты же никому не расскажешь о том, что здесь увидел?
И он покосился на колбы с зародышами животных.
Сарбан молча покачал головой: дескать, не расскажу. Сел на табурет в уголке и стал наблюдать за лекарем, который наклонялся и выпрямлялся, метался туда-сюда и замирал, резал, чистил и отбрасывал, то касался осторожно, то давил решительно, бинтовал и вздыхал. Крум позвал жену и велел найти ему щенков, да побольше.
– А что потом? – спросила женщина.
– Потом ты их сваришь, – ответил лекарь.
Трепетали огоньки свечей, и при взгляде на окошко размером с ладонь, затерявшееся между ящиками и колбами, казалось, будто утро позабыло про мэтрэгунцев.
– Который час, мастер? – спросил Сарбан. – Куда делось солнце?
Крум повернулся к окошку, выглянул наружу и ничего не сказал. Посмотрел на обгорелого, на священника, на небо. Опять промолчал. И в самом деле, та поздняя зимняя ночь, когда на ступенях церкви Прими обнаружили обгорелого, оказалась длиннее обычного, и все последующие ночи были чернее и тяжелее, они укрывали Альрауну свинцовым одеялом, и жители – особенно те, что из Прими, потомки мэтрэгуны – постоянно говорили о шепотках, струившихся из темных закоулков и из-под подушек с приходом темного времени суток. Тогда-то городские юницы и начали ворочаться в своих постелях.
А обгорелый?
Обгорелый не умер.
Нигредо[2]
– Что вам сегодня понадобилось, молодежь?
Юнцы и юницы отозвались хором:
– Бабочки! Бабочки, дядюшка Аламбик[3]!
Аптекарь провел их, как стайку гусей, в комнату рядом с мастерской, где готовил тинктуры и притирания, – в комнату, где в шкафах с выдвижными энтомологическими коробками хранилась коллекция из нескольких сотен бабочек, наколотых на булавки. Глядя на них, он вспоминал прикосновения отца: на каждом крылышке – невидимые следы пальцев; сотни крылышек, тысячи прикосновений. Человеческая жизнь. С тех пор, как Аламбик получил коллекцию своего славного батюшки, он не прибавил к ней ни единой бабочки, ни даже просто букашки.
Аламбик позволил гостям любоваться иссохшими тельцами, а сам устроился за прилавком аптеки, где достал трубку длиной с детскую руку и запыхтел густым, ароматным дымом. Краем глаза наблюдал за тем, как гости теснились и толкались, мальчики пихали девочек, девочки насмехались над мальчиками (но впустую, как обычно), придумывали ради забавы странные названия для какой-нибудь Prodryas persephone, Ornithoptera paradisea paradisea или Lycaena dispar dispar,[4] однако была в этой компании одна рассеянная юница, которая скользила по чешуекрылым отрешенным взглядом, ничуть ими не заинтересованная. Изредка она молча смотрела на аптекаря, как будто решая в уме арифметическую задачу, сбивалась и с тяжелым вздохом начинала заново. Аламбик знал, что это Лилиан Бунте, дочь главного ментора школы Прими. Трубка почти погасла, и Аламбик встал из-за прилавка.
– Ну все, вам пора в школу.
– Но сегодня нет занятий, дядя Аламбик, – сказал худой как щепка рыжий парнишка.
– Врешь ты все, – ответил аптекарь, но остальные покачали головами, дескать, нет, не врет щепка – занятий и впрямь нет.
– Тогда вам пора домой! – подытожил Аламбик и, затянувшись в последний раз, выпустил в них дым.
Подростки заверещали и умчались во двор, исчезли под растущими у стен церкви деревьями с пышными кронами. Только Лили, как заметил Аламбик, не двинулась с места, и вид у нее был пристыженный.
– А ты, Лили, почему не убежала с ними? Скоро обед. Ну же, вперед!
Но юница покраснела сильнее и села на стул в углу. Аптекарь понял, что она желает с ним поговорить, однако ему-то как раз этого не хотелось. Многие мэтрэгунцы относились к нему с предубеждением: кто-то считал его безумным, как отец, кто-то – отставшим от жизни, только и годным на то, чтобы смиренно возиться со своими пилюлями, кто-то – колдуном; говорили, что даже от Хальбера Крума, лекаря, в Прими больше пользы, чем от него. Не говоря уже о том, что после ссоры с Альгором Кунратом все как будто стыдились к нему приходить, пусть даже все равно приходили – тайно, изобретая всевозможные предлоги. Если кто-то узнает, что он остался наедине с этой девочкой, да спасут его святые мужи (ведомые) и жены (неведомые) из Мира и не'Мира!
– Говори быстрее, милая, – поторопил ее Аламбик, – у меня дел невпроворот.
Лили, однако, молчала и все сильнее заливалась краской, пока философ не сообразил, что надо сбавить темп.
– Тебя никто не слышит, Лили, только я один, и я никому ничего не скажу. А знаешь почему?
Она покачала головой, дескать, нет.
– Потому что некому рассказывать, – улыбнулся Аламбик.
Он снова закурил трубку и глубоко затянулся. Лили заплакала, и Аламбик придвинул стул, чтобы сесть рядом с нею в углу.
– Кто тебя так расстроил?
Лили всхлипывала и дрожала, как желе; иногда судорожно втягивала воздух и как будто успокаивалась, но, увы, лишь на мгновение… Рыдания накатывали волна за волной, а аптекарь, не зная, как поступить, ждал, курил и наблюдал, курил и молчал, курил.
– Мне стыдно, – выдавила юница между всхлипываниями.
Аламбик достал из нагрудного кармана мятный леденец и протянул ей, пытаясь подбодрить.
– Спасибо, – сказала Лили, но не взяла конфету.
– Что случилось?
Поток слез прервался. Ненадолго.
– Мне стыдно, дядя Аламбик… мне стыдно, что я… я одна… вообще-то я последняя… у кого… ох, дядя Аламбик… как же трудно все это… то есть у всех моих подружек уже да… а у меня еще нет…
Аламбик нахмурился, сунул леденец в рот, потом снова закурил трубку; холодный дым наполнил рот и легкие. Он с мрачным видом рассматривал Лили, сосал конфету, смотрел на Лили, попыхивал трубкой. Напряженно прищурился, погрузившись в глубокую задумчивость. Лили, видя, что время идет, а аптекарь все еще ничего не понимает, коснулась груди обеими руками.
– А-а… э-э… – проговорил Аламбик, сообразив, что к чему. – Но… – Тут он покраснел, как школьник. – Ох… м-да…
Лили опять устыдилась, вскочила и едва не выбежала из аптеки, но остановилась, сделав всего пару шагов, – подумала, что если уйдет, то ей будет еще труднее вернуться. И потому, не глядя на Аламбика, повернувшись к нему спиной, прошептала:
– У меня нету, а у остальных есть, и все мальчики на них таращатся, ходят за ними, а за мной – никто, лишь сопляк Берти, а он просто уродливый лодырь, который хочет надо мной посмеяться, я знаю, а может, я ему нравлюсь, или нет, поди разбери. Может быть – и если так, он не знает, как это продемонстрировать, а если бы и знал, все равно бы мне не приглянулся, потому что он хулиган, и вот я жду, жду, жду, а они не растут, у всех выросли, прям как у коров, они на каникулах что-то такое сотворили, я не знаю, что именно, и я знаю, что ты, дядя, дядюшка Аламбик, можешь сделать так, чтобы любая бородавка исчезла, и можешь любую болезнь вылечить, так вот, я подумала, что, если ты можешь что-то уменьшить, сумеешь и увеличить, да? Пожалуйста, дядя Аламбик, я тебя прошу… п-прошу…
(Лили все это протараторила на одном дыхании, захлебываясь слезами, почти задыхаясь, слова вылетали из ее рта без остановки, она едва успевала сглатывать комок в горле.)
– Все, Лили, хватит плакать, – сказал Аламбик, и гостья действительно прекратила, как по волшебству.
Но Аламбик все еще слышал, как она всхлипывает – тихонько, чтобы его не рассердить, – и в нем проснулись такие теплые чувства к ней, что он отложил трубку, забыл про все, подошел и обнял юницу, думая, что, будь у него дочь, пусть бы она так и выглядела: худенькая, высокая, с рыжими кудрями, с плоской грудью и длинными пальцами, растрепанная, вечно со слезами на глазах, чтобы было, что вытирать, ой-ой-ой. Не успел аптекарь опомниться, как Лили успокоилась и сказала, набравшись смелости:
– Дядя Аламбик, дай мне что-нибудь, чтобы они выросли! Смотри, у меня есть деньги, я заработала.
С этими словами она протянула ему кожаный кошель, в котором было несколько «клыков». Аламбик покачал головой, и Лили спрятала сокровище за пазухой.
– Верни туда, где взяла, пока пропажу не обнаружил твой отец или тетушка Валерия.
Само собой разумеется, она украла кошель из какого-то домашнего тайника – а еще было ясно как день, что, даже возьми апофикар[5] деньги, он не сумеет ей помочь, поскольку юная Лили Бунте просила о несуществующем, невозможном. Впрочем, не менее ясным казалось другое: Аламбик не хотел разбить ей сердце. Аптекарь подумал, что в какой-то момент у девушки так или иначе вырастет грудь, а если нет, то Лили повзрослеет умом и поймет, что та не обязана быть большой – и к тому времени Аламбик как-нибудь утешит ее, что-нибудь соврет.
– Слушай, – вздохнул аптекарь, – кое-что для тебя найдется, но это снадобье сперва надо изготовить. Возьми свои деньги, положи их скорее на прежнее место, а вместо них дай мне время – сутки, – ибо я один знаю, как надо перетирать ингредиенты, и я один знаю, в какую баночку их следует поместить. И еще кое-что…
– Что?
– Ты пришла именно тогда, когда нужно! Чтобы крем загустел, необходимо полнолуние – а оно как раз сегодня ночью. Итак, на закате я отправлюсь в лес и соберу все необходимое, а когда придет время – через день-два, – загляни в дупло старого дерева, что растет перед вашим домом. Я там оставляю тетушке Валерии мази от бородавок и питье от подагры. Знаешь это место?
– Знаю.
– Будешь мазать снадобьем грудь целый месяц. Потом приходи ко мне. Но если вырастет такое, что ты в дверном проеме не поместишься, сама знаешь, кого винить!
Лили от души рассмеялась, и Аламбик тоже улыбнулся, думая, что за месяц успеет измыслить что-нибудь еще, а потом еще и еще, пока не отпадет нужда в выдумках. Юница подошла к аптекарю и поцеловала его в щеку. Аламбик как раз возился с трубкой и спичками, и не успел он сказать хоть слово, как Лили очутилась возле прилавка, а потом в два-три прыжка выскочила наружу и была такова.
Аламбик встал и порылся в выдвижных ящиках; раздробил два-три камешка, добавил смолы, раскрошил; залил молоком и медом. Перемешал, чуть-чуть нагрел и вылил все в склянку, которую закупорил мягкой восковой пробкой. Отложил в сторону и закинул ноги в башмаках на прилавок. Удовлетворенно хмыкнул. Да уж, не впервой было врать клиенту, изобретать зелье или порошок без всякого смысла и эффекта, но теперь почему-то казалось, что это принесет пользу. Аламбик еще некоторое время улыбался, потом задремал, и приснилась ему пекарня Гундиша: будто бы он пришел за буханкой хлеба и увидел через приоткрытую дверь, как крысы ростом с человека, одетые в белые фартуки, проворно месят тесто.
Лили вышла из аптеки с улыбкой и красными от слез глазами, обрадованная, что у нее наконец-то хватило смелости и что ей наконец-то помогут… да, свершилось. Она улыбалась и гладила спрятанный за пазухой кошель с «клыками», который придется спешно опорожнить обратно в сундучок тетушки Валерии. Лили побежала, стремясь вырваться из тени платформ, теснившихся над церковным двором, и очутилась на Пьяца-Маре – рыночной площади, где было не протолкнуться от торговцев и животных, неутомимых хозяек, отправившихся за покупками, и изворотливых голодранцев из Бурта-Вачий. Миновала зал Анелиды, а потом обошла вокруг него в поисках чего-то. Увидала свою цель: ларек торговки шелками! Но сперва вернулась тем же путем, каким пришла, и, не дойдя до школьного двора, свернула налево возле дома священника Сарбана. Забралась в кустарник в тени березы, отодвинула доску на заборе. Заглянула в отверстие и увидела детей. Услышала голоса, но не такие громкие, как обычно, а почти шепоты. Увидела их лица, склонившиеся над листами дорогой, плотной бумаги, испачканные в красках пальцы и взгляды то вверх, то вниз. Внизу рисунки, вверху – обгорелый, чья голова была вся в белых бинтах, скрывающих черты. Дети его не боялись, просили совета, а обгорелый хлопотал над ними и их рисунками, как наседка над цыплятами. Брал кисточки из маленьких рук, что-то поправлял, стирал, гладил по головке. Учеников на этот раз было всего трое, но Лили в тот момент интересовали вовсе не они, а Игнац, обгорелый из дома отца Сарбана.
Лили сидела и смотрела на него, как всегда, пытаясь разглядеть хорошо спрятанные под тканевой маской очертания лица. Она не знала, как он выглядит и сколько ему лет, знала лишь его глаза и имя «Игнац», полученное от Сарбана через несколько дней после того, как священник нашел его зимой на ступенях церкви Прими. Если бы кто-то спросил Лили – и надо было ответить бесстрашно, честно, как будто в преддверии конца света, – чего она хочет больше всего, даже больше, чем эту проклятую грудь, которая перестала расти, юница сказала бы: узнать, как звали Игнаца раньше, какой была его жизнь до Прими и Альрауны, до Сарбана и его прихожан-мэтрэгунцев, та самая жизнь, что сгорела в огне и осыпалась золой (интересно, где?); спросить, кто он такой, откуда пришел, кто его привел – и, главное, собирается ли он уйти.
Зимой, когда все шептались по углам, что в городе появился чужак, никто и представить себе не мог, что этого чужака – обгорелого бедолагу, брошенного неведомо кем на ступенях церкви, Сарбан возьмет под опеку и в конце концов усыновит. Впрочем, Лили уже тогда все знала, потому что видела обгорелого во сне в одну из первых ночей, но был он не обгорелым, а молодым и красивым, с гладкой кожей, длинными волосами и глубокими, как ночное небо, глазами. Хотя во сне он казался цел и невредим, Лили знала, кого видит, однако, проснувшись на рассвете, напрочь забыла его облик. Когда она впервые увидела Игнаца – с лицом, сокрытым под маской из бинтов, – помогающим Сарбану у алтаря во время службы, она узнала его по глазам, которые вспомнила из сна, и преисполнилась тревоги, беспокойства, как будто ощутила, что помнит то, чего не было; как будто у нее появилась собственная тайна. Позже, когда весна была в разгаре, Лили обнаружила кустарник и скрытую за ним неплотно прилегающую доску и решила почаще навещать своего обгорелого, наблюдать за его занятиями из спокойного прибежища посреди теней.
Но теперь Лили понимала: что-то пошло не так, ведь детей было слишком мало, а сутулая спина обгорелого наводила на мысли о неразделенных печалях. Игнац потерял голос, поэтому Лили никогда бы не смогла узнать, что случилось, даже если бы волею судеб оказалась с ним лицом к лицу. Поэтому она тихонько наблюдала за его непривычно скупыми и медленными движениями, притворяясь – сама для себя, наедине с собой, – что все знает, понимает его, и он об этом осведомлен.
Черный жук заполз ей на руку. Лили потрясла пальцами, и козявка упала на землю вверх тормашками. Юница понаблюдала, как она бьется, дергает в воздухе лапками, похожими на черные иголочки. Лили оторвала от куста веточку и перевернула насекомое. Жук поспешно исчез в зарослях. Подняв глаза, она увидела, что Игнац исчез, остались только дети – молчаливые, с прямыми спинами. Поискав взглядом, обнаружила его темный силуэт в окошках лачуги во дворе, которую он возвел сам; он там ел, он там спал, то был его дом. Силуэт не двигался. Похоже, он уронил голову на руки, и Лили задалась вопросом, уж не плачет ли бедолага. Все еще в своем приюте соглядатая, она встала – ноги онемели, по телу ползали муравьи. Отряхнув платье и рубашку, посмотрела на окно Сарбана, как будто чей-то тихий голос позвал ее по имени. Из окна за ней наблюдал отче. Лили испугалась и бросилась бежать – через кусты, по узкому проходу между школой и домом священника. Ритм сердца опережал ритм ног, и Лили неустанно спрашивала себя, что Сарбан расскажет ее отцу – все расскажет, да? а может, ничегошеньки не расскажет? Она уже видела, как деревянная ложка рассекает воздух, как краснеет – или даже лопается – кожа; это будет не в первый раз. Она уже слышала срывающийся от гнева голос, покрасневшие от натуги глаза. Если он узнает, у Лили не будет никаких оправданий, и пощады тоже не будет.
Она бежала все быстрее. На бегу перестала думать, слишком многое уже не имело значения, Лили осознавала только свое тело и разум, больше ничего; мчалась сквозь толпы альраунцев, и подошвы горели, а мышцы сделались тверды, словно камень. Она бежала, как в тот раз, когда слезла с балки, но об этом потом, об этом не сейчас, не в тот момент, когда Лили бежала в толпе на Пьяца-Маре, где изобилие запахов соревновалось с буйством красок, разноцветье затмевало ароматы, и так далее. Ее ничто не заботило, ни живые куры, ни мертвые коровы, ни шафран, ни фенхель, ни даже кедровые орешки, она просто бежала, ни паштет из куропатки, ни картофель, не говоря уже про чернослив и привезенные издалека финики, она просто бежала, за нею взрывались облака ароматов, падали мешки, «клыки» смешивались с «когтями», а «когти» – с «клыками»; ее не заботили ни грязные детишки, копошившиеся под навесами ларьков, ни состоятельные жители Медии, что устало несли впереди себя огромные животы, а позади лебезила свита угодливых прислужников; она просто бежала, ничего не трогала, просто бежала, ей на них было плевать, она бежала. Ее интересовал только последний ларек в ряду – тот, что у канавки, по которой утекала кровь из мясницких лавок, – ларек с полотном и шелками, узорчатыми платками, хорошо скроенными и разложенными на просушку, сверкающими на солнце, как разноцветные волны, словно на море шторм начался, не иначе. Лили остановилась, перевела дух и с тоской посмотрела на шарф – алый, как гребень разъяренного петуха, подвешенного вниз головой; посмотрела на шелк, о котором так мечтала, но для которого в кошеле вечно не хватало денег. Торговка ее узнала, улыбнулась и сняла шарф с крючка. Протянула юнице, и Лили, обернув драгоценную ткань вокруг шеи, сделала пируэт, даже два, чтобы все увидели, и с горькой улыбкой бросила шарф на прилавок. А потом опять побежала.
Покинула Пьяца-Маре, оставив позади рыночную суету, миновала кабаки в Ширул-Земий, разгоняя едкие алкогольные пары, взбежала по одним ступенькам, спустилась по другим, пересекла улицу, юркнула в узкий проход, вышла на свет и, приблизившись к стене, отделявшей Прими от Медии, остановилась у дома. Вошла во двор, постучалась, и тетушка Валерия ей открыла.
– Ай, маленькая негодница, где опять шлялась? Повезло, что твой батюшка еще не вернулся.
Лили только улыбнулась, прошмыгнула мимо тетушкиной юбки и исчезла в полутемном коридоре.
– Поешь, а потом ступай купаться, барышня! – крикнула старуха ей вслед, но девушка уже была далеко – затерялась в недрах дома, заблудилась в чертогах своего разума.
С момента возвращения в Альрауну почти два года назад Сарбан ни разу не развел огня в своей комнате в приходском доме. Холод двух зим, прошедших с тех пор, как он вошел в новое жилище в одеянии священника, так въелся в стены, в потертую мебель, в затвердевшие от грязи занавески, что ни зной первого лета, ни духота второго не сумели даже самую малость укротить суровый климат, царящий в этих комнатах. В отсутствие Сарбана певчий Дармар, проведший среди здешних стен и коридоров всю жизнь, называл приходской дом Ледяным дворцом и каждый раз, по необходимости приходя в большую комнату священника, скрючивался на подоконнике – у самого оконного стекла, где хоть лучик солнечного света мог согреть его тело, преодолев время и пространство.
Конечно, огонь в доме был – воздуходувные мехи перекачивали горячий воздух из одного очага в другой, расположенный внизу, в приходской кухне, где крупная и шумная повариха Кинга грациозно двигалась среди кастрюль и языков пламени, одной рукой вслепую куда-то бросая специи, другой крутя вертел с насаженным зайцем, и Дармар частенько спускался к ней под предлогом (надо заметить, не выдуманным) пробирающего до костей холода, чтобы поглядеть, как она готовит. Кинга всегда действовала так, будто занималась любовью, и Дармару это нравилось – век бы на нее смотрел. Сарбан знал, но не вмешивался в чужие дела, каждый имеет право любить и быть любимым, однако, самое главное, после возвращения в Альрауну священник сделался весьма неразговорчив. Старики-мэтрэгунцы из Прими списывали его немногословность на спокойствие и набожность, подобающие тому, кто все время думает о святом, чем и заняты служители церкви на Ступне Тапала. Только Сарбан знал правду, и заключалась она в том, что молчал он из-за огня – как того, который не горел в его покоях, так и иного. Ведь огонь – ну это же очевидно! – в отличие от человека, одинаков везде и всегда, и даже в один и тот же момент. Человек, уж какой он есть, в разных местах предстает разным, а каждый момент для него неповторим. Дармар, щупая повариху за ляжки, размышлял об этих словах, сказанных Сарбаном ни с того ни с сего утром, и священник тоже думал о них, прижимаясь лбом к окну, выходившему во двор Игнаца, молчаливо наблюдая за Лилиан Бунте возле дыры в заборе.
Уехал Барсан, вернулся Сарбан. Отправился в путь юношей неполных двадцати лет от роду, с узелком за спиной, в простой одежде и стриженный кое-как, с глазами, блестящими от грез обо всем, что успел повидать и надеялся узреть на Ступне Тапала. Воротился в Альрауну полтора десятилетия спустя, сменив имя и нрав. Вошел как святой в город, который покинул обычным пареньком, а церковь Прими, давно ожидавшая пастыря, приняла путника с распростертыми объятиями. В Совете старейшин тотчас его узнали и, услышав рассказ обо всем, что приключилось от ухода до возвращения, опечалились, склонили свои старые головы; ему вверили приходской дом и прислали дрова, чтобы согреть и оживить жилище, но Барсан – ныне Сарбан – вернул их нетронутыми.
– Свечи, да и только, – сказал он. – Чтобы работать ночью.
Совет внял и прислал свечи. Он получил служанку и повариху, ибо те, которые служили прежнему священнику, ушли, не в силах больше терпеть бессонные ночи и страхи, угнездившиеся в вечерних сумерках. Комната, где повесился старый, безумный отче, осталась заперта на ключ по требованию Совета старейшин, и Городской совет с ним согласился. Сарбан тоже согласился и попросил проветрить весь дом, что и было сделано. Еще попросил, чтобы все его вещи принесли в одну-единственную комнату, поставили там простой топчан, да к нему письменный стол – и больше ничего. Одеяние он вешал на балку под потолком, и служанка всегда отворачивалась, когда приходила прибраться – ей казалось, на балке висит не мантия, а старый священник. Сарбан, однако, привычке не изменял.
Еще новый отче заявил, что работать и спать будет в одной и той же комнате, а остальные предоставит в пользование городским беднякам.
– Из Прими? – спросили старейшины и нахмурились, будто хотели уместить все прожитые годы в пыльных бороздах на лбу.
– Из Прими, Медии и Инфими. Тем, кому нужнее, – сказал Сарбан, а потом замолчал.
Совет старейшин, испытывая большую потребность в новом священнике, согласился и на это. Тогда Сарбан попросил, чтобы в той комнате, где он будет спать и писать, не разжигали огня.
– Никогда?
– Никогда.
Затем он попросил о встрече с певчим, и Дармар явился, спел все, что знал и помнил. Извинился, дескать, память подводит старика, особенно в последние годы. Старейшины поведали Сарбану, как могли, о чем вспоминал безумный старый священник, и все опечалились, опустили головы, ибо проводимые им литургии Вспоминания были тоскливыми и путаными, и все меньше прихожан осмеливались прийти в церковь, чтобы послушать его, пока он был еще жив.
– Достаточно, – сказал Сарбан и попросил принести ему бумаги безумного старого отче.
– Нету их, дорогой Сарбан, – ответствовал один из старейшин. – Когда старика нашли повесившимся на балке, живот у него оказался ужасно раздут, хотя он не был толстяком, а рядом стоял большой пустой графин, от которого еще несло вином. Мы считаем, весь его труд был съеден им самим, и бумагу он запивал спиртным.
Сарбан попросил еще кое о чем: почистить давно пришедший в запустение сад и согреть церковь, когда его там не будет, затем оставить его одного. Так и поступили, и неделю новый священник церкви Прими – некогда Барсан из города Альрауны, веселое мэтрэгунское дитя, ныне печальный и молчаливый пастор – не покидал своей темной и холодной комнаты, никого к себе не впускал. Время от времени служанка, Кинга или даже Дармар, иной раз все трое сразу, на цыпочках пробирались по коридорам и замирали перед дверью, из-за которой доносились рыдания Сарбана, однако к тому времени они уже привязались к своему новому хозяину и никому не рассказали об услышанном.
На протяжении той недели лик Сарбана видели один раз, во время унылого холодного дождя, когда Кинга подняла голову и заметила через окно кухни, как священник распахнул ставни, высунул наружу большую глиняную кружку, дождался, пока она наполнится дождевой водой, а затем сгинул во тьме комнаты. Это лицо, это выражение Кинга никогда не забудет: как будто вся скорбь Мира и не'Мира (о котором она в детстве слышала, но понятия не имела, где он находится) собралась на этих щеках, как будто один-единственный бедолага нес в себе чудовищную боль.
Но затем Сарбан снова вышел в мир, каким бы маленьким тот ему ни казался, – сперва в Прими, потом в Медии, и даже к внешним стенам Инфими; он в задумчивости прогуливался по Альрауне и знакомился с ней, как будто посетил впервые. Казалось, после первой встречи, которая напугала старейшин, священник пришел в себя, и все же время от времени Сарбан без всякого повода грустил и умолкал, иной раз даже вставал и уходил, но потом быстро возвращался и продолжал слушать окружающих – стоит признать, он был отрешенным, он изменился и стал другим человеком. Но чем с безумным священником или, еще хуже, совсем без священника, лучше пусть будет грустный отче. И к тому же, как рассудили старейшины и члены Городского совета, разве священник в городе без святого может не печалиться? Потому-то его и оставили в покое.
Сарбан выбрал день для проведения литургии и обрадовался, когда люди потянулись в церковь Прими, чтобы послушать нового пастора. Некоторые – и даже многие – его знали раньше и говорили:
– Поглядите-ка на Барсана, как он собирает мэтрэгунцев в храме. Если бы его родители были еще живы, они бы им очень гордились.
Или:
– Поглядите-ка на Барсана, с которым мы гоняли мяч из пузыря на пустошах. Скоро благодаря ему у нас появится собственный святой.
И так далее. Сарбан гордился тем, что столько народу пришло его послушать; но что касается святого, печалился, поскольку знал, что это весьма непростое дело.
Шли дни, на лице Сарбана сменяли друг друга радости и печали, каждая приходила в свой черед, однако была – о чем священник знал – незаслуженной. Но вот однажды в его жизнь вошел Игнац, и, хоть она осталась грустной, теперь печаль они делили пополам: Сарбан чувствовал страдания Игнаца, сперва телесные, а после, когда плоть исцелилась, духовные – те, которые не проходят до самой смерти (а кое-кто твердит, вопреки здравому смыслу, что и после нее).
Он взял бедолагу в свой дом, и после того, как лекари и доктора Альрауны его исцелили, – после того, как было получено согласие старейшин и дозволение Совета, – Игнац остался под опекой церкви. Пусть он и был немым, Сарбан умел его слушать. И так сложилось, что однажды ночью – а то была одна из тяжелых ночей, когда дух словно умирает, а тело нет, и человек чувствует, что его незримая душа приказала долго жить, и ее скукожившийся где-то в лабиринте потрохов труп гниет быстрее заурядной плоти, наполняя эту самую плоть смрадом изнутри, – в одну из таких ночей, когда стрелки показывают начало четвертого (самое начало!), а часовая башня будто клонится к самому окну, о да, в одну из таких ночей Сарбан вышел из приходского дома, распахнул дверь в лачугу обгорелого, вылитую оранжерею, и рассказал ему про свою жизнь все без утайки. Как же мучительно, думал Сарбан, было бедолаге Игнацу слушать обо всех этих ужасах, не имея возможности передать их дальше; Сарбан знал, что это жестоко, очень жестоко – излить всю свою жизнь, облечь ее в слова, в немого и оставить там. Закончив свой рассказ на рассвете, Сарбан осознал, что боль его не покинула и что история по-прежнему при нем, и так он впервые понял, что от историй нельзя избавиться, их можно только дать или взять взаймы; что боль будет вечной, однако, если поделиться историей, станет легче.
Таким образом, Игнац, обгорелый из Альрауны, оказался единственным, кто узнал о горестях и кошмарах Сарбана. Но была еще одна вещь, которую Сарбан знал про Игнаца, и об этом никто другой не знал, кроме Хальбера Крума, – и заключалась эта вещь в том, что Игнац был не «он», а «она». Той ночью, когда Хальбер Крум и Сарбан перевязывали раны, по уродливой наготе безобразного тела перед ними стало ясно, что незнакомец на самом деле незнакомка, но они никому об этом не рассказали, поскольку боялись, не зная, как мэтрэгунцы воспримут новость о чужачке, им ведь всегда было трудно принимать явившихся извне. А святые женщины, думал Сарбан, приходят лишь из не'Мира, потому-то он решил называть обгорелого Игнацем и на людях, и мысленно, чтобы не запутаться.
Так заговорил Сарбан той ночью, в начале четвертого часа:
– Слушай, Игнац, ты спишь?
Спал он (она) или нет, Сарбан придвинул стул к его (ее) кровати, да-да, его, и, положив ладонь на укрытое одеялом предплечье обгорелого, начал рассказывать о своем детстве, ибо должен был кому-то все излить, и вот так Игнац, хотелось ему того или нет, узнал многое про улочку, на которой родился Барсан более трех с половиной десятилетий назад, о бабуле-толстушке, неизменно веселой, способной в шутку поддеть всех и вся, рассказывавшей по вечерам у очага истории для всех, кто жил в доме; о соседях, таких же добряках, о кулинарных рецептах, которые напоминали древние героические легенды, поскольку яйцо в них выходило на бой против муки, кукурузной крупы или курицы; о том, как бабуля, как всегда неугомонная, умерла, озабоченная лишь тем, как бы не подгорела плацында с тыквой – испустила дух лишь после того, как ее разрезала и разложила по тарелкам, умерла за столом, не договорив какую-то шутку. О дедуле Геоакэ, который носил шляпу, а на спине таскал корзину из рафии; был он коротышкой в больших сапогах, каждый день уходил за грибами и возвращался с полной корзиной и полным передником, по поводу и без повода напоминая всем, как в молодости наткнулся в лесу на огромный, ростом с человека гриб, и тот ему поведал со страстью и пафосом всю историю грибного племени: откуда оно явилось и куда желало попасть; и кто-то в эту историю верил, кто-то нет, ведь с каждым хоть разок приключалась какая-нибудь глупость, недостойная рассказа, а вот Геоакэ, надо же, ничего не утаивал (например, Сарбан в детстве как-то раз увидел за печкой белку, которая будто считала, загибая пальчики на лапках, и когда она его заметила, то прошептала: «Одиннадцать», после чего удрала сквозь стену).
Если бы Игнац умел говорить, мы бы узнали, заметил ли он, что Сарбан выкинул из своего рассказа родителей. А может, обгорелый спал. С приближением зари Сарбан решил поведать о том, как покинул дом с несколькими «когтями» в кармане и огрызком лепешки в узелке. Альрауна стала ему мала, жала, как новые башмаки; теперь он вернулся, и Альрауна уже казалась то чересчур большой, то крохотной; Сарбан все рассказывал Игнацу, а Игнац слушал (или нет). Тогда же, под покровом тьмы, Сарбан поведал и о той ночи, когда ему явилась святая не'Мира с девятью утробами, в которых росли еще девять святых с девятью утробами и так далее, и он ощутил, как пахли их лона, разомкнутые, влажные, алчущие, они толкнули его в пустынь и ученичество среди скал, где он стал монахом и куда вошел под именем Барсан, а вышел – Сарбан. Он не так уж много рассказал о трех годах отшельничества и послушания, ибо это не было дозволено, но красноречие его вновь обрело силу и слова хлынули бурной рекой, когда дошло до миссии, которую ему там поручили: отправиться в Мир и создать семью, а также сделаться священнослужителем, ибо в пустыни выяснилось, что у него хорошо получается обнаруживать святых, и когда его спокойный голос звучит в храме, это всегда дает плоды. Он поступил, как велели, и вскоре подыскал место, чтобы построить дом, найти жену и начать служение, не забывая про Вспоминание и Поиск. Он попал в новый город под названием Бивара, расположенный под наклонившейся скалой, и биварцы приняли его должным образом, отнеслись уважительно. Через некоторое время у Сарбана и Вары – так звали его жену – родился Бог, этакий бутуз; рос он быстро и поспешно, был веселым и разговорчивым.
Жилось в Биваре хорошо: Сарбан трудился, выполняя свой церковный долг, собирал все больше прихожан, желавших Вспомнить Начала, и верил, что находится на верном пути, дабы отыскать для Бивары собственного святого, который поможет выяснить, во что он верил, если верил во что-нибудь. Но однажды ночью, которая не предвещала ничего, кроме мирного сна, ни с того ни с сего вспыхнул страшный пожар, поглотивший половину города, включая приходской дом. Среди криков и воцарившегося отчаяния ему удалось вытащить жену и ребенка из пламени целыми и невредимыми и отвести в укрытие. Вара, как рассказал Сарбан Игнацу, потеряла сознание, он пощечинами привел ее в чувство, а она опять упала в обморок, и так далее, но Сарбан не мог с нею остаться, увы, потому что Бивара молила его о помощи голосом пепла и языком огня, и священник, услышав свой город, отправился помогать биварцам, а Вару оставил на попечение Бога, которому было тогда тринадцать. К рассвету с огнем удалось совладать, и большинство горожан выжили, однако, когда Сарбан вернулся в убежище, он обнаружил Вару на соломенном тюфяке, а Бог исчез, как сквозь землю провалился.
– Когда я открыла глаза, он был тут, – пересказал Сарбан слова Вары, – когда открыла их снова, его уже не было – во тьме обморока я увидела, как он отдаляется от нас, повернувшись спиной, Сарбан, он уходил от нас, – так говорила Вара, и то же говорил Сарбан, а Игнац слушал (а может, и нет).
Они оба закрыли глаза, крепко зажмурились, чтобы увидеть его, хоть так, пусть даже глядя ему в затылок, но его уже не было, он ушел слишком далеко; Бог исчез. Сарбан принялся разыскивать мальчика среди обгорелых руин, звал его, боролся с эхом, которое трепетало под наклоненной скалой: богбогбогбог!
(а эхо:) гобгобгобгоб! Но все впустую.
– Игнац, – сказал Сарбан, – представь себе, я вернулся к Варе и принес ей весть о том, что отныне мы одиноки, ведь, хоть мы и есть друг у друга, больше с нами не было никого.
И Сарбан вытер слезу, которая там, в оранжерее Игнаца, показалась ему такой знакомой, как будто он ее уже где-то видел; как будто эта слеза однажды блеснула на чьем-то лице, но он не знал, когда и на ком, поэтому продолжил рассказ о том, как провел ночь рядом с Варой, но Вара казалась такой далекой, и глаза ее были закрыты, она смотрела вслед Богу. Не умирай, шептал Сарбан ей на ухо, а Вара шептала в ответ: как я могу умереть дважды? Помоги мне так и поступить. И Сарбана охватила предсмертная дрожь, как в те ночные моменты, когда не знаешь, придет ли утро, или оно лежит где-то мертвое, выпотрошенное беспокойной ночью. Но утро все же пришло, а с ним и толпа биварцев, которые мяли шапки в руках, не поднимали глаз и стояли стеной вокруг мешка на мостовой. Сарбан вскочил, растолкал их, развязал мешок и вытащил Бога (богбогбогбог!), спросил: Бог? (гобгобгобгоб!). Ибо его было трудно узнать, так он был перемазан в дерьме, а рот его был набит бумагой. Вы бы хоть его обмыли, негодяи! – крикнул – по его словам – Сарбан, и откуда-то донесся вздох Вары, которая все поняла. Сарбан вытащил бумаги изо рта мальчика и прочел вслух историю, что была на них накарябана, стоя над маленьким Богом, как будто на поминальной службе. Пока Сарбан так стоял, он не видел большую дыру от ножа в спине мальчика, но биварцы ее отлично видели с того места, где сами стояли, а дыра видела их и как будто насмехалась, кривясь иссохшим ртом.
В конце концов мальчика обмыли, дыру в спине зашили и похоронили, дома очистили от сажи и вновь возвели рухнувшие стены, но ничего больше нельзя было сделать для Вары и Сарбана, которые лишь молчали и глядели в пустоту, ибо дом был таким пустым без Бога. И Вара возненавидела священника. Сарбан это знал, чувствовал, хотя жена ничего ему не говорила; она его ненавидела, так как он ее оставил, чтобы помогать другим, и теперь у всех были дети, кроме нее. Они не наши дети! – внезапно кричала Вара посреди ночи, уткнувшись в подушки, и Сарбан мог лишь сказать: знаю. Знаю, Вара. Он поворачивался к ней и целовал в висок, пока она не засыпала, ибо любил ее больше, чем мог выразить словами, и в полусне ему казалось, что он целует в висок Бога, но без эха.
Шли дни, и Сарбан пытался что-нибудь узнать, вытянуть из кого-нибудь как можно больше о смерти Бога, но никто ничего не слышал, не видел, лишь Ничто видело все, но как его спросить? И так вышло, что священник нарек убийцу этим именем – Ничто, – ибо нужно было имя, чтобы его поймать. Ничто убило его сына, одновременно уничтожив все, что еще было в нем самом.
– Потому что можно умереть и прежде смерти, – сказал он Игнацу.
И в этот самый момент своей повести Сарбан убедился, что Игнац все понимает, потому что поди знай, сколько раз (она) он умирал, но ведь каким-то образом оказался здесь.
Днем священник искал Ничто, ночью целовал в висок Вару, которая уже не разговаривала ни с ним, ни с кем-то еще, ни, вероятно, сама с собой. Каким образом Вара договорилась с собственной душой о том, когда ей уйти, Сарбан понятия не имел как, но это случилось. Однажды утром Вара ушла раньше, чем священник проснулся, и не оставила после себя ни словечка, ни записки, которая объясняла бы такой поступок. Сарбан вскочил с постели и в ночной рубашке побежал по улицам, расспрашивая о Варе, и биварцы показывали пальцем, дескать, туда она пошла, туда, и при ней была котомка; и Сарбан бежал, и все новые пальцы указывали на стены, а затем, когда последний городской палец указал за ворота, священник все понял, упал на колени и начал бить кулаками по грязи, сотрясаясь от рыданий, словно видел перед собой не землю, а чей-то громадный висок, за которым и созрел этот жуткий замысел. В каком-то смысле такова истина, подумал Сарбан и вытер еще одну слезу, на этот раз чужую.
Когда все слезы высохли, Сарбан подошел к церкви и объявил, что уходит.
– Но куда ты пойдешь, добрый Сарбан? – спросили биварцы.
– В пустыню, умирать, ибо с жизнью у меня не сложилось; кривая-косая вышла моя жизнь. Может, хоть со смертью выйдет как положено.
Собрал пожитки в узелок и ушел, но перед смертью захотел еще раз навестить своих братьев в лесу, где когда-то служил, – хоть разок, один-единственный раз. Представ перед первосвященником, худой и грязный, с мокрым от слез лицом, рухнул на колени перед старцем и, рыдая во весь голос, попросил дать ему другое имя, поскольку своей немощью он осквернил и Барсана, и Сарбана, а между порогами миров нельзя быть немощным. Святой отец поднял его, усадил на лавку и сказал, что другого имени он не получит, да и время отправиться к порогам еще не пришло. Вытер его слезы загрубелыми ладонями и послал спать, ибо гость устал от долгого пути и душевных ран. Лежа в келье из рафии, что висели на высоких деревьях посреди леса, Сарбан обнаружил, что ему стало легче на душе, и сразу заснул. Что-то разбудило его поздно ночью, когда ветер, шелестя листвой, принес звуки шагов в зарослях. Первосвященник поднялся и сел рядом с гостем. Обнял его и шепотом спросил:
– Чего ты хочешь, Сарбан?
– Ничего, – ответил несчастный также шепотом.
– Значит, ты найдешь свое Ничто в Альрауне, а если и умрешь, то не сейчас. Ступай.
Встал Сарбан и отправился туда, где появился на свет – обратно в теплое чрево Альрауны, что когда-то звалась Мандрагорой, а еще раньше – Рэдэчини.
– Вот так и вышло, – сказал Сарбан Игнацу той ночью, – что я вернулся в Альрауну, желая отыскать Ничто, отнявшее у меня Все.
Лили сняла туфли и вытянула ноги; хрусть-хрусть-хрусть, откликнулись суставы. Пот тек с нее ручьями, и она сбросила платье на пол; окутанная прохладой, вздохнула. Открыла глаза и увидела себя в зеркале: на плоской мальчишеской груди собрались капельки пота, скатываясь по грудине, как по ледяной горке, к пупку. Внезапно ей захотелось расплакаться, ударить, швырнуть чем-нибудь в своего двойника, сделать больно той, что в зеркале, заставить ее исчезнуть. Потом она вспомнила слова матери; увидела ее, как наяву, позади себя, сидящую на краю кровати, нежно гладящую волосы, что упали дочери на глаза, водящую пальцами по детскому лбу. В тот раз Лили было всего пять. Она все помнила так, будто оно случилось вчера, хотя прошло уже почти десять лет. Она услышала мамин голос:
– Какие у тебя красивые глаза, Лили.
– Правда?
– Правда. Очень красивые.
– Они от тебя, мамочка?
– От меня, не от твоего папы.
– А что у меня от папы?
Женщина несколько мгновений смотрела на нее, потом опустилась на колени возле кровати и поцеловала закрытые глаза отражения в зеркале.
– Ничего, малышка.
И теперь, увидев свое нагое отражение, свои влажные глаза, потное тело, Лили поняла, что мама была права, как всегда правы матери: у нее были красивые глаза. Она улыбнулась и вытерла слезы со щек. Повернулась к кровати, но та опустела; и в зеркале тоже теперь никого не было. Женщина ушла, растаяла в летнем воздухе, как она исчезла через несколько дней после разговора в зеркале, тоже в начале лета, но не растворилась в пустоте, как сейчас, и не вихрем унеслась в окно, мчась на закат, а просто скрылась в ночной тиши, прихватив лишь самую малость, ничего не сказав и не написав напоследок. Лили ни о чем не подозревала, когда ее укладывала спать тетушка Валерия, но на рассвете все стало ясно, когда она, играя в своей комнате в куклы, услышала вопль старухи. Лили не встала, а просто усадила деревянных куколок на пол, сложила руки и стала ждать. Впрочем, сердце ее мчалось галопом, натягивало поводья, било копытами по ребрам, исходило пеной. Много ли нужно, чтобы унести ребенка? Но унесло, так уж вышло, унесло. Через несколько мгновений Лили высунула голову в коридор и увидела, как тетушка Валерия медленно, очень медленно и тихо спускается по лестнице, как будто считает скрипучие деревянные ступеньки, как будто что-то высчитывает, зная, что от результата зависит ее жизнь. А в руках старухи Лили увидела Анну, свою старшую сестру, чьи руки безвольно болтались. Тетушка Валерия остановилась прямо у двери девочки и посмотрела на нее большими глазами, покрасневшими от плача и помрачневшими от могильной тьмы. Затем дверь закрылась, и поди знай, кто ее закрыл, а девочка осталась стоять, устремив взгляд на выкрашенные в ярко-красный доски; посередине был нарисован желтый цветок, на цветке – пчела, а в брюшке пчелы – чернота (гладкая, лоснящаяся тьма).
Заслышав внизу какую-то суматоху, Лили вынырнула из мрачных воспоминаний. Быстро оделась. Стоило застегнуть последнюю пуговицу, раздался короткий и сильный стук в дверь, и она открылась, не успела Лили произнести хоть слово.
– Ты здесь? – спросил Томас Бунте с порога.
В дверях: мужчина, высокий, седовласый и стройный. Томас Бунте никогда не ждал, чтобы его впустили, если стучался. Где бы ни была дочь, он считал, что так положено. Отец окинул ее оценивающим взглядом и без улыбки сказал:
– Приготовься принять ванну.
– Конечно, папа.
– Поела?
– Нет, папа, еще нет.
– Но чего же Валерия ждала до сих пор? – Он прибавил так, чтобы слышали во всем доме: – Тетушка Валерия, когда мы выйдем из ванной, хочу видеть пар от супа на самой улице!
И снизу раздался звон большого колокольчика тетушки Валерии, зовущей своих помощниц, ибо старуха страдала от астмы и не могла кричать, посему вечно хваталась за колокольчик и сотрясала воздух, даже если надо было просто выгнать из комнаты муху.
Томас Бунте вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Лили осталась одна, и улыбка исчезла с ее лица. Она снова начала расстегивать пуговицы, затем бросила одежду на кровать и голая направилась в ванную. Внутри: Томас в одной расстегнутой рубашке сидел на табурете возле ванны, трогал и ласкал воду кончиками пальцев. Лили потупилась и не знала, куда смотрит отец, и не хотела знать, лучше так, лучше следить за узорами на полу, которые змеями подползали к ванной. Шагнула одной ногой, потом другой и опустилась в воду, тотчас же окутавшую бледное тело, влажно поклевывая кончики рыжих волос, свисавших на грудь и спину юницы. Тепло объяло ее со всех сторон. Лили сидела в ванной, съежившись и не осмеливаясь поднять глаза. Томас обмакивал губку в воду и водил ею по спине дочери, по левому плечу, по правому, вниз вдоль хребта. Поднял губку, тяжелую от воды, и выдавил над головой юницы, как будто крестил ее паром. Бурные ручьи потекли по лбу, с кончика носа и подбородка закапало, вода струилась по шее ниже; Лили зажмурилась и ахнула, застигнутая врасплох этим внезапным потопом. Мужчина опять смочил губку и провел ею по левой ноге, по икре, спустившись к пояснице, поднявшись к колену, скользнув к подошве. Он потянулся и повторил танец с мылом и водой для правой ноги. Хорошенько намылил губку и выдавил пену девушке на грудь, потом, оставив губку плавать на поверхности, начал тереть ей грудь ладонью, с пеной между пальцами, глядя куда-то в пустоту, мимо Лили, сквозь ванну и стены комнаты, потолок расположенной внизу гостиной, сквозь кухню, куда-то в угол, вниз, в погреб и ниже, в землю, где кишели дождевые черви, сквозь тьму внутри червей. Намыливал кругами, спускаясь к животу, кружил, кружил, тер все ниже и ниже, тер, чтобы там, внизу, ничего не осталось, тер, чтобы оно стало таким чистым, как будто вовсе исчезло. Лили смотрела на воду, пузырьки пены плавали вокруг островков ее коленей, безупречная белизна кожи стекала с нее и растворялась в воде. Губка казалась мокрой доской, которая удалялась по волнам от медленно тонущего судна, в то время как один из Исконных, сам того не ведая, мотал корабль туда-сюда так, что доски трещали, рвались паруса и умирали мореплаватели.
Лили мечтала.
Ее мать когда-то была на месте отца, а Томас – на месте Лили, в ванне. Женщина однажды с таким же рассеянным видом сидела на табурете рядом и терла спину Томасу, который так же согнулся, как Лили сейчас, опустив голову между коленями, и так же глядел на что-то в воде. Лили вошла на цыпочках, ибо в ней как раз зародилось подозрение, что иные тела выглядят по-особенному, шла она тихонько, искала печки, в которых выпекают людей, но не обнаружила того, чего хотела, лишь двух рассеянных взрослых посреди пара, что поднимался от воды. Мать увидела ее, но ничего не сказала, не улыбнулась и не прогнала. Посмотрела, да и только. Женщина мыла своего мужчину, подавленного и рассеянного, и Лили сидела теперь так, как когда-то сидел ее отец, скрючившись в ванне, потный, молчаливый, возможно, думая о прошлом, которое не проходило, а в это время кто-то, подавленный и рассеянный, кого-то мыл, а этот кто-то думал о ком-то, кто мыл кого-то, подавленный и рассеянный, а тот думал о ком-то, кто мыл… Да, Лили осознала, что похожа на отца. Улыбнись, подумала про себя Лили, ты как папа. И слеза побежала по ее щеке, смешиваясь с каплями на подбородке, и упала в воду, и только Лили знала, что там, в океане под ней, одинокая слеза опускалась все глубже и глубже.
Стук в дверь вывел Сарбана из задумчивости; священник отошел от окна, повернувшись спиной к Лили и Игнацу, оставив их в своих мирах, таких далеких друг от друга. Дверь отворилась, и в заледенелую комнату вошел старец Арабанис, иссохший с головы до ног, с кривыми коленями, сгорбившийся над своим посохом, которым открывал двери и закрывал рты. И все же он был самым молодым членом Совета старейшин. Арабанис мельком взглянул на холодный камин своими аквамариновыми глазами и сел.
– Если бы я знал, что вы придете, великий Арабанис, я бы попросил, чтобы разожгли огонь, – солгал Сарбан, однако старец небрежно отмахнулся от оправдания.
– С огнем или без, – сказал он, – мне все равно холодно.
Дармар наблюдал за ними из-за двери, но Сарбан подал знак, что все в порядке. Они остались одни.
– У меня есть только вода, – сказал Сарбан. – И я даже трубку не могу вам предложить.
Но Арабанис, похоже, не обратил внимания на его слова, ибо материальные вещи, о которых как будто тревожился в этот момент священник, уже много лет были чужды старцу, который цеплялся за жизнь лишь своим посохом, хорошенько воткнув его в землю, ведь был он тем, кого истрепали ветра со всех сторон света, толкая к порогам Мира и не'Мира; но Арабанис держался.
– Я пришел сюда сегодня, чтобы тебя предупредить.
Они впервые посмотрели друг другу в глаза.
– В Совете старейшин неспокойно, Сарбан. Вот уже несколько недель люди плохо спят, видят во сне всякие ужасы, а некоторые даже слышат голоса. И они боятся, Сарбан. Когда спросишь, чего именно, никто не ответит, но они боятся.
Тишина. Холод был третьим в комнате и глядел на них со всех сторон.
– Ты не боишься? – спросил Арабанис, но Сарбан не ответил. – К тебе приходили мэтрэгунцы, чтобы об этом поговорить?
– Приходили, – признался Сарбан.
Так оно и было – все чаще жители Прими жаловались ему на странные сновидения, сетовали на причудливые состояния, недостойные пекарей, плотников, торговцев и так далее, просили никому не говорить, и Сарбан обещал, что не расскажет (да и кому он мог сказать?).
– И они тебе говорят, что боятся Игнаца?
– Такого не говорят, – сказал Сарбан.
– Им неловко, – выговорил старец.
– А с чего бы им бояться Игнаца, досточтимый Арабанис? Игнац – добрый человек, бедолага, которого нашли при смерти у подножия города и которого, так уж вышло, город спас, позволил набраться сил и начать новую жизнь. Игнац этого не говорит, потому что не может, но я знаю, что, если бы мог, он бы выразил мэтрэгунцам свою благодарность, поблагодарил бы их искренне. Игнац – хороший, он помогает в церкви, с детьми…
– Не разрешай, – перебил старец. – Я же тебе сказал, люди боятся. Они больше не доверят ему своих детей.
– Но… – начал Сарбан.
– Прозвучали голоса, важные голоса, которые заявили, что причина беспокойства мэтрэгунцев – Игнац.
– Какие еще голоса? Разве бывают голоса важнее великого Арабаниса? Уж не хотите ли вы сказать, что…
Но Арабанис вновь его как будто не услышал и продолжил: дескать, мэтрэгунцы видели, как обгорелый ходит по платформам, появляется в их комнатах, роется во дворах и погребах Прими, а к некоторым он во сне обращался на языках, которых в Альрауне никто не знал.
– Ложь! – воскликнул Сарбан и вскочил из-за стола.
Холод испугался и отступил в угол.
– Садись, – попросил Арабанис. – Что ты собрался предпринять?
– Еще не знаю.
– Решай быстрее, Сарбан. Времени нет – у тебя же было полгода, чтобы подыскать Игнацу место в Прими, а то и где-то еще в Альрауне, верно? Совет старейшин тебя понял, мы же все знаем, как сильно нам нужен новый святой, но и ты пойми, что хотя Забвение – семя всей нашей истории на Ступне Тапала, зернышко, которое мы сажаем время от времени, чтобы продвинуться дальше, растет история тяжело и болезненно, ибо еще звучат голоса тех, кто помнит, что вышло в прошлый раз, когда чужак вошел в Мандрагору под видом святого… Еще есть мэтрэгунцы, которые думают о не'Мире, и ладно бы эти мэтрэгунцы сидели у себя дома, хорошо бы они торговали в своих лавках или прятались по углам, во дворах, затененных платформами, это было бы недурно; однако, Сарбан, они в Совете старейшин, и это вносит раздор, как Непроизносимое разделило Исконных. Сделай что-нибудь! Что ты творишь? Что ты задумал?
– Кое-что, – признался Сарбан.
Между ними вновь воцарилось молчание, ибо Сарбан не знал, стоит ли рассказывать старцу Арабанису о рукописи, найденной под деревянным полом, примерно в том месте, где стоял его стул, – о последних страницах бывшего священника, спрятанных так тщательно, где безумец написал о святом без лица, одновременно мужчине и женщине, который войдет в город и посрамит не'Мир.
– Да? О чем речь? – спросил Арабанис.
Сарбан вздохнул и отвернулся, его взгляд пронзил то самое место, где старый священник, безумный, повешенный, поместил свои последние видения.
– Ни о чем, – сказал Сарбан.
Тень пробежала по лицу Арабаниса, как облако над старой и пустынной планетой.
– Я пришел к тебе сегодня как друг, – сказал старец, – как тот, кто знал твоих бабушку и дедушку, как тот, кто держал тебя на коленях и говорил, что однажды ты проживешь великую жизнь, хотя прочитал начертанное на твоих веках, веках пятилетнего постреленка, предзнаменование всех тягот, которые на тебя навалятся; они все там были, ждали нужного момента. Как друг пришел я, чтобы тебя предупредить, потому что остальные тебе не друзья. У тебя нет времени, Сарбан! Поспеши, если желаешь Игнацу добра.
Арабанис поднялся, опираясь на посох, ударив им прямиком по тому месту, где под полом была пустота, и вышел. Хороший холод выбрался из угла и уселся на место старца, уставился Сарбану в глаза. Но потом, увидев печаль во взоре священника, хороший холод встал и заключил его в объятия.
На следующий день – то была душная суббота, когда даже мухи едва шевелились от жары – случилось лишь два события, о которых стоит рассказать.
Первое было утром, когда Лили открыла окно, чтобы проветрить комнату. Ей показалось, что кто-то крадется мимо кустов возле ворот. Она протерла сонные глаза и высунула голову наружу. Куст вздрогнул, замер. Улица была пустынна тем ленивым утром, солнце как будто спешило забраться повыше и побыстрей, и только снизу, откуда-то из кладовых или кухни, доносились приглушенные голоса. Лили села на кровать. Посмотрела на небо через открытое окно, затем ринулась к подоконнику, внезапно и решительно. Подскочила к нему, одним рывком распахнула занавески и опять высунула голову. Никого. Услышала звон колокольчика в кухне и подумала, что пора переодеться.
Она спустилась и влилась в толпу служанок, суетившихся вокруг тетушки Валерии, не знавшей, ради чего звонить в колокольчик в первую очередь: чтобы выгнали мух или чтобы молодежь угомонилась.
(Остальная часть дня не имела значения для Лили и ее истории, а про тех, для кого имела, сейчас рассказ не идет – их черед еще не настал.)
Однако вечером опять приключилось нечто странное. Они только что поужинали, и Томас Бунте устроился в мягком кресле, чтобы покурить трубку, а Лили притворялась, будто читает; глаза ее блуждали по буквам и строкам, пальцы оставляли на страницах влажные следы, но думала она про Игнаца. И тут отец и дочь услышали крик – кричала срывающимся голосом тетушка Валерия, по коридорам разлеталось эхо падающих кастрюль. Оба вскочили и побежали на кухню, где увидели старуху, потную и раскрасневшуюся, растрепанную.
– Ой-ой, как же я испугалась, ой… – причитала она, теребя в руках фартук.
– Что такое, тетушка Валерия? – спросил Томас. – Что случилось?
Грязная кастрюля валялась на полу, посреди разлившейся подливы. Томас присмотрелся к лицу женщины и повернулся к Лили.
– Уходи! Ступай в свою комнату!
Сперва она не двинулась с места, но стоило Томасу бросить суровый взгляд на одну из служанок, как Лили схватили за правую руку и потащили прочь из кухни. В коридоре, однако, обе остановились, чтобы подслушать, но мало что расслышали. Тетушка Валерия все плакала и причитала, вздыхала и плевала себе на грудь, торопливо молясь святым владыкам из Сасарама, а Томас Бунте в недоумении слушал. Старуха говорила что-то о табурете возле плиты и о крысе (девушки в коридоре захихикали), но крысе здоровенной, одетой по-человечески, «совсем как вы» (девушки переглянулись), но это же невозможно, это бессмысленно…
Тетушка Валерия успокоилась, и речи ее сделались понятнее.
– Я вам говорю, он вон там сидел и курил трубку.
– Я не чувствую запаха дыма, тетушка Валерия, а вы?
– Тоже не чувствую, хозяин, но растопчи меня Тапал, если я вру!
– Ладно, продолжайте.
– И еще разок усами взмахнул.
– Усами?
– Ну я же вам сказала, это была крыса… этакий пасюк…
– Тетушка Валерия!
– …ростом с вас и одетый. Он достал из кармана часы на цепочке и посмотрел на них, а больше ничего сделать не успел, потому что я закричала, и перед глазами у меня все потемнело.
– Пасюк?
– Да, господин Томас.
– Ростом с человека? Одетый?
– Все так, растопчи меня великий Тапал…
– Тетушка Валерия?
– Да, хозяин?
– С вами все хорошо?
– Худо мне, я так испугалась…
– Ступайте-ка передохнуть.
– А с этим как быть?
– Пусть кто-нибудь вместо вас приберется.
– Но, хозяин…
– Хватит! Да, покончим с этим. Чтоб я больше не слышал о крысах в моем доме!
– Но, господин Томас, я просто рассказала о том, что…
– Я понял, тетушка Валерия, но вынужден приказать, чтобы вы больше об этом не говорили. Ясно как день, что вам нужен отдых, и я не позволю, чтобы Лили оказалась под влиянием подобных бредней…
– Бредней?
– Да, бредней! – рявкнул Томас Бунте. – И хватит перебивать! Иди проспись! А завтра после службы будешь весь день лежать в постели.
– Но как же я…
– Мы друг друга поняли? – перебил мужчина.
Тетушка Валерия тяжело вздохнула и опять вздрогнула всем телом.
– Да, хозяин, поняли.
– Славно, – сказал Томас и вышел в коридор.
Там он различил шаги и понял, что Лили подслушивала. Вздохнул и удалился в свой кабинет, где закурил другую трубку, короткую и белую, и стал пускать дым, глядя в окно из кресла. Луна была почти полная, от нее откололся лишь краешек, как будто от тарелки, которую тетушка Валерия уронила когда-то, в молодые годы.
– Пасюк… – прошептал Томас Бунте. – Одетый и с трубкой… с часами… что за… – и он опять вздохнул.
Он много думал о тетушке Валерии, говоря себе, что ее время, похоже, вышло и совсем скоро от старческого слабоумия разум этой женщины размякнет, как печеное яблоко, а это значит, что ее придется заменить. Но кто способен заменить тетушку Валерию? Кто с ней сравнится? Тетушка Валерия вырастила его самого и двух его дочерей, многое пережила в этом доме, многое повидала на своем веку. Старуха знала больше кого бы то ни было о нем и о хозяйстве, которое он вел сам, как считал нужным, и Томас прекрасно понимал, что некоторые вещи должны остаться в этих стенах. Со служанками было легко, они были просто дурочками, подобранными в Инфими и окрестных деревнях, работали на него весь день, а спали у себя дома, в грязных кроватях, кишащих личинками; бросали «коготь» в ладони отцов, чьи носы распухли от дешевой выпивки, да и все. А вот тетушка Валерия была незаменима. Томас знал, что однажды это случится: она тоже сломается, полетят пружины, сотрутся зубчатые колесики, игрушечная баба начнет вертеться без толку на месте, и… и все. Но чтобы вот так? Чтобы одетый по-людски пасюк попыхивал трубкой на кухне?..
Томас докурил и поднялся по лестнице в спальню дочери. Нашел ее в постели, в ночной сорочке, с закрытыми глазами и одеялом, натянутым до подбородка. Он знал, что она не спит. Подошел, сбросил туфли и забрался под одеяло рядом с нею. Лили повернулась на бок, спиной к отцу, а Томас ее обнял и спросил:
– Боишься?
– Чего? – ответила Лили.
– Я знаю, ты подслушивала.
Юница промолчала. Она дышала медленно, однако Томас чувствовал под ночной сорочкой, как ее сердце колотится все быстрее.
– Но я не боюсь, – проговорила она наконец.
– И не надо. В словах тетушки Валерии нет ни слова правды.
– Так она сошла с ума?
– Нет, не сошла с ума. Просто состарилась.
– Она умрет?
Томас поколебался, затем ответил:
– Да. Однажды.
– Но не сейчас?
– Нет, не сейчас. Спи.
Лили попыталась отодвинуться на край кровати, высвободиться из хватки отца, но мужчина притянул ее ближе, шепча:
– Тс-с, не бойся.
Лили больше ничего не сказала, но не от страха, а от отвращения, и не попросила его уйти, а притворилась спящей. Через окно ей было видно звезды. Лили выбрала одну и стала ждать, когда та упадет. Ждала долго, звезда все не падала, и в конце концов Лили заснула. Проснувшись на рассвете, она понятия не имела, осталась ли звезда на прежнем месте – далеко, скрытая под покровом небесной лазури, – или рухнула где-то на Ступне Тапала.
Ночью было тяжелее всего. В холодной тьме комнаты дневные размышления Сарбана оживали. Луна равнодушно проливала свет, озарявший то одно, то другое, а пустоту священник заполнял своими мыслями, изгоняя тени и мрак. В углу он поместил кроватку Бога, короткую и узенькую, под стать отроку, и лишь буйный, непослушный чуб выглядывал из-под одеяла. Слышно было, как Бог посапывает, вероятно, видя во сне мир, в котором Сарбану не пришлось бы наполнять тени смыслом. Возле кровати – грязные башмаки, вечно в пыли биварских проулков (ибо тьму снаружи Сарбан наполнил Биварой, тем городом, где было Всё, пока не нагрянуло Ничто, а не городом мэтрэгунцев, где всепожирающее Ничто восторжествовало); под одеялом Бога, внутри его плоти Сарбан заподозрил проблески подростковых страстей, словно маленькие бутоны болезни, ночные тоскливые мечтания о какой-нибудь юной горожанке, и священник опечалился, ибо знал, что не сумел спасти Бога от смерти, но успокоил себя тем, что хоть от любви его спас. Он моргнул разок, и Бог – весь целиком – канул в небытие.
Слева от Сарбана, на пустой половине кровати, вновь обосновался холод. Сарбан гнал его ночь за ночью, обнимая подушки, одеяла и простыни, и наполнял весь мрак Варой. Холодный воздух клубился и струился, очерчивая женские формы, и там, где раньше не было ничего, под одеялом проступала пышная грудь Вары. Ее живот ждал его, словно непаханое поле, и казалось, что Бога она не рожала, таким зеленым, полным силы и страсти было это поле, и Сарбан ощутил, как в нем скапливаются проклятия и злость, собираются в семени и бурлят без намека на избавление. На распущенных волосах Вары, подстриженных по игривой биварской моде, в равнодушном лунном свете поблескивали искорки, и Сарбану захотелось спрятать эти волосы, поэтому он склонил лицо туда, где под одеялом сочилось теплой влагой лоно, и стал его целовать, лизать. Тихо, чтобы не разбудить Бога, причмокивал, смачивая пересохший язык. Вара не стонала – она никогда не стонала, плотская любовь была для нее таинством, которое разворачивалось за пределами мира, далеко от соприкасающихся тел, и Сарбан так ни разу и не сумел проникнуть в ту даль, где Вара кричала от наслаждения.
Сарбан опустил руку и стал трогать себя – но он был не один, не сам по себе, между ними пребывал холод, и мужчина понимал, что все впустую, холод никогда не уйдет. Вара стала его ласкать, он почувствовал, и она ему сказала – без слов, – что это пустяки, она знает, кто он, какой он и чего от него ждать, и взяла его в рот. Пока жена высасывала жизнь из его чрева, Сарбан думал, что, возможно, Вара не была Варой и, наверное, ему не дожить до утра, а потом он взорвался и ощутил свое замерзшее семя под неумолимым взглядом холода, будто тяжелый снег на собственном животе. Иногда он засыпал, а когда открывал глаза в полусне, то видел всю комнату – случалось, весь Мир – под толстым слоем снега из семени, и по всей Ступне Тапала смердело тухлятиной, и священник знал, что на самом деле Мир и должен так смердеть, а не благоухать весенними цветами, не источать осенний аромат созревающих плодов, нет, он должен вонять тухлятиной, словно душа, увязшая в одряхлевшем теле, как в болоте. Он знал, что стоит моргнуть, и Вара – вся, какая есть – канет в небытие.
Потом он обычно вставал и одевался. Слышал, как позади на его месте в кровати потягивается холод. Воображал, как плохой холод говорит, что согреет для него постель, и издевательски хохочет, а в это же самое время хороший холод открывает дверь и грустно смотрит на него. Священник шел по коридорам, самому себе казался дурным знамением, останавливался у стола, за которым, как он предполагал, старый безумный отче трудился над своими рукописями о безликом святом, бывшем мужчиной и женщиной одновременно. Его это не тревожило – безумие на Ступне Тапала было достойным оружием. Сарбан выходил из дома и отправлялся в сад, всегда одним и тем же маршрутом, ступая след в след; он шел к Игнацу и, останавливаясь возле его оранжереи, прижимался лицом и ладонями к стеклу, пытался заглянуть в окно, а изнутри кто-то смотрел на него. Тут священника захлестывало отвращение, и он проклинал того, кто продумал его жизнь от первой до последней буквы.
Пока еще была ночь, он выходил на улицу и шел к Марисе, нежной Марисе, всеобщей и ничьей. Марису Сарбан изучил сверху донизу, заметив ее чуть больше года назад с платформы как-то ночью, когда выслеживал Ничто. Это случилось в Инфими, и священник во время своих лихорадочных поисков даже не понял, как перешел из Прими в Медии, из Медии в Инфими, но внезапно его окутал дерзкий аромат духов, и он замер. Это случилось над зданием, которое будто слепили из нескольких других; слабый свет струился из-за тряпки, закрывавшей окно на верхнем этаже, всего в нескольких локтях ниже платформы. Что-то вынудило Сарбана задержаться; священник сел и стал наблюдать за тем, как двигались тени в комнате. Вскоре раздались первые стоны, и он все понял, но не ушел. Попытался отделить женский голос от мужского, но проще было бы силой мысли вытащить рубин из навозной кучи. Мужчина по ту сторону драной занавески спешил и кончил быстро. Со своей платформы Сарбан отчетливо слышал, как «клыки» падают в ночной горшок; потом мужчина устало и пошло рассмеялся, хлопнула дверь, а священник все медлил и не уходил.
Несколько мгновений спустя чья-то рука отдернула занавеску, и появилась невысокая хрупкая брюнетка с маленькой грудью; внизу у нее все было острижено, дабы уберечь самое ценное от лобковых вшей. Тощая девица перегнулась через подоконник и выжала какие-то тряпки: пот и прочие ночные соки закапали в переулок внизу. Она встряхнула ткань и повесила на гвоздики, вбитые под окном, а потом подняла голову и увидела Сарбана.
Сарбан моргнул. Мариса, уж какая была, никуда не делась.
С той поры она его всегда принимала, когда бы ему это ни понадобилось, в холодные ночи поисков Ничто. Ей вряд ли было больше двадцати – Сарбан не спрашивал, Мариса не знала, – и поначалу она впускала его как священника, одетая в простую ночную сорочку или бесстыдно обнаженная, а Сарбана устраивал такой расклад. Чтобы у двери внизу его не узнали, Сарбан всегда входил через окно; прыгал с платформы на крышу, а потом спускался на подоконник, и всегда ждал этого момента с нетерпением, поскольку вновь чувствовал себя молодым.
Когда он впервые вошел в комнату девушки, Мариса повела с ним себя естественно, будто с родственником, и Сарбан не устыдился ее наготы, а она не извинилась, когда взяла ночной горшок и выловила «клыки», которые с отвращением швырнул туда предыдущий клиент. Она положила монеты на небольшую горячую печку в углу, чтобы они там высохли над углями. Запахло кислым. Мариса бесстыдно села на горшок и выпустила мощную струю с приглушенным влажным рокотом.
– Чтобы не забеременеть, – пояснила она, и это были первые слова, обращенные к гостю.
Сарбан промолчал. Шлюха жестом предложила ему лечь на кровать. Простыни были влажными, но Сарбан лег. Он не был с женщиной уже много лет, и похоть в нем едва тлела. Мариса подошла к зеркалу и начала прихорашиваться. Игра света и тени украшала ее костлявое тело; у нее был крепкий зад, а на левой ягодице виднелся синяк – как будто глаз с желтой радужкой смотрел на Сарбана. Плечи опускались и поднимались, пока шлюха покрывала щеки свинцовой пылью, и ее лицо делалось бледным, как у покойницы.
– Тут бывают и медики, знаешь ли, и просят меня обойтись без пудры, дескать, она их слепит, да и проблемы потом будут с женами. Но я знаю, что им нравится, поэтому ничего не меняю, – сказала Мариса и улыбнулась ему через плечо.
Сарбан молчал.
Мариса прополоскала зубы уксусом, а потом остаток смешала в пробке с кошачьей перхотью и намазала верхнюю губу – наверное, решил Сарбан, чтобы волосы не росли. Она оделась, но оставила грудь обнаженной. Сильно накрасила соски алой помадой и нарисовала несколько лиловых вен – грудь теперь выглядела так, словно к ней никто никогда не прикасался, и создавалась иллюзия, что она вот-вот лопнет, и лишь алые соски, как крепкие пробки, не дают ей взорваться. Несколько капель белладонны в глаза – и взгляд запылал. Мариса преобразилась, и Сарбан тоже менялся внутри, что пугало его самого.
– Как я выгляжу? – прекрасная Мариса повернулась к нему, и впервые за вечер в ней не было ничего от Вары.
Сарбан обрел дар речи и сказал, что хорошо, просто отлично.
И тут в комнату вихрем ворвалась другая девушка, блондинка, куда полнее, ее великолепный обнаженный бюст колыхался над корсажем, а соски светились, как фонарики в полночь.
– А-а, – растерялась беляночка, – я не знала, что у тебя кто-то есть… Он пришел! Сидит внизу и пьет.
Только это она и сказала, а потом протянула Марисе глиняный горшок с красной жидкостью, в которой уныло плавала маленькая губка. Блондинка вышла, а Мариса, чьи очи от белладонны казались неимоверно глубокими, повернулась к Сарбану и проговорила, глядя куда-то мимо:
– Сейчас тебе придется уйти, потому что вот-вот появится мой клиент. Но пообещай, что вернешься! Приходи завтра опять! Обещай!
Сарбан пообещал, что обязательно придет.
– Завтра? – спросила Мариса.
– Завтра, – подтвердил священник.
– А теперь ступай.
И Сарбан вышел как раз в тот момент, когда Мариса окунула губку в куриную кровь. Обернувшись с подоконника, Сарбан увидел, как ослепленная белладонной девушка засовывает окровавленную штуковину между нижними губами.
Священник осторожно забрался на крышу, но не ушел. Он посмотрел вдаль, через стену, которая сохраняла целостность Альрауны, на дальние уголки Ступни Тапала. Внизу открылась и закрылась дверь, раздались тяжелые шаги; чье-то массивное тело растянулось на скрипучей кровати, и Мариса, предположительно, его оседлала. Девушка начала стонать, и сквозь вопли притворного удовольствия слышалось мерзкое дыхание крупного зверя. Длилось все это недолго; в конце концов стало тихо, а затем раздался мужской голос – он был тоньше, чем ожидал Сарбан.
– Встань, я хочу тебя увидеть!
Закрыв глаза, Сарбан представил себе, как Мариса стоит над распростершимся зверем, демонстрируя окровавленное лоно.
– Да-а, – проговорил мужчина, и кровать снова заскрипела.
Сарбан ушел. Позже тем же утром Сарбан представил себе Вару: грудь обнажена, красные соски подобны маякам, призывающим мореходов и заливающим все вокруг молочным светом, по пурпурным венам течет, пульсируя, чужая кровь. Он заснул, а потом проснулся и с удивлением понял, что Мариса рядом – дремлет в его мыслях. Приходи завтра, попросила она, а Сарбан пообещал. И сдержал слово.
Однако теперь, когда слова Арабаниса все еще звучали в ушах, Сарбан не мог заснуть. Этой ночью первым девицам предстояло погрузиться в вечный сон, но священник об этом ничего не знал, как и о крысолюдах, что собирались в погребах и окутанных тьмой переулках, как и о шепотах из-под подушек, что стали громче; он не мог знать, что Великая Лярва ворочается во сне где-то по другую сторону Мира.
Неустанно лавируя в переулках Прими и минуя ворота городских округов в поисках Ничто, священник думал о Марисе. В Медии он нашел вход на платформы, где на ступеньках часто дремал в свое удовольствие черный кот, лениво поглядывая сквозь приоткрытые веки. Поднялся и направился к беленым домам по ту сторону улиц, где мадамы содержали девочек, мальчиков и детей постарше в высоких зданиях с фальшивыми первыми этажами: там в задрипанных кабаках предлагали дешевую жратву и дорогую, но хрупкую живую плоть.
Мариса сидела в своей комнате, разодетая в пух и прах, надушенная.
– Никого не жду, – сообщила она. – Просто сижу, вдруг Мадама придет.
Сарбан кивнул, удовлетворенный, поскольку в ту ночь он хотел, чтобы Мариса принадлежала ему одному. Моргнул – Мариса никуда не делась. В комнате было тепло, холод не преследовал его. Мариса вытащила кожаный мешочек из декольте и высыпала на стол монеты: всего два «клыка». Сарбан посмотрел на них и нахмурился.
– Это не то, что ты думаешь, – сказала Мариса. – Он хотел заплатить как положено, однако я сделала скидку.
Сарбан понял.
– Откуда он был? – спросил священник, и лицо Марисы просветлело.
– Из Салины-Верде! Это где-то…
– Я знаю где, – перебил Сарбан. – Но тебе же нужны деньги.
– Ты прав, Сарбан, но это мне тоже нужно.
– А если Мадама узнает, что ты берешь с мужчин меньше, когда они рассказывают тебе о своих родных городах, – что, по-твоему, случится?
– Не узнает; я кое-что скопила.
Мариса подошла к двери и заперла ее.
– Хочешь, чтобы я переоделась?
Сарбан покачал головой.
– Хочешь, чтобы я умылась?
Сарбан кивнул.
Пока девушка смывала с лица помаду и пудру, склонившись над полупустым бочонком со стоячей водой, Сарбан подкрался к зеркалу и подложил несколько «когтей» в кошелечек Марисы.
Ее звали не Мариса; ее так окрестила Мадама, хозяйка трех улиц с заведениями напоказ и двух переулков с потаенными комнатами. Мадама знала, когда следует выйти на просторы Ступни Тапала и на каких перекрестках стоять в ожидании разбойников, странствующих из города в город. У них она меняла «когти» и «клыки» на перстни, а перстни – на девушек. Тем, кто узнавал о торговле Мадамы, женщина говорила, что спасает украденных разбойниками юниц от безвременной гибели, тяжелых дорог и мучительного рабства, ибо с той добычей, кою не удается продать, разбойники обращаются как с половой тряпкой. Кто бы ни полюбопытствовал, он узнавал, что дети подметали и помогали по хозяйству в каком-нибудь кабаке, а когда достигали совершеннолетия, получали комнату, одежду и еду, а еще лавандовую воду, губную помаду и свинцовую пудру, пурпурный карандаш и белладонну. У Марисы не было ни имени, ни родины, ни семьи, ни прошлого, и Мадама так и не удосужилась о них рассказать.
– Будешь Марисой? – спросила она, сортируя добычу по ширине бедер.
Девочка кивнула; до той поры она других женских имен и не слышала; разбойники друг на друга орали, рыгали и харкали. Работая в тавернах и убирая дамские комнаты, Мариса всегда задавалась вопросом, откуда ее забрали, но каждый раз, когда набиралась наглости спросить Мадаму, старуха прогоняла ее и кричала в лицо, что это не ее дело, потому что теперь она в Альрауне и здесь ее дом.
Во время первых визитов Сарбана Мариса рассказала, что приключилось в комнате одной дамы, когда она была ребенком. Они как раз закончили кувыркаться – Мариса иной раз подсматривала за этим занятием, но не очень-то понимала, в чем его смысл, – и вот, когда она вошла, чтобы помыть пол, мужчина, одеваясь, выпустил из развязанного гульфика набухший уд и, потряхивая им перед юной служанкой, со смехом поинтересовался, не желает ли она отправиться с ним в Смиру, «город голодных змей, ползущих в щель». Мариса вытаращила глаза на длинный подскакивающий орган, а дама на кровати, уставшая вусмерть, тоже смотрела на них и смеялась. Образ запечатлелся в памяти Марисы, и с той поры ни один мужчина не смог превзойти того смирца, поскольку всем известно, что природа одарила всех его соплеменников впечатляющими «змеями, ползущими в щель». Тогда-то Мариса и поняла по-настоящему, что за домом Мадамы есть другой мир; вспомнила стены и ворота на захолустных дорогах вблизи от мест, где обитали варвары-бандиты, но, как ни старалась, не сумела вспомнить, кто она такая и откуда явилась. Однако теперь она знала, что есть не только Альрауна, а много разных миров, и пообещала себе, что соберет их все: будет у нее ожерелье из невиданных мест и непрожитых жизней. Пока мужчины пользовались ею и торопились швырнуть «клыки» в ночной горшок, Мариса спрашивала, откуда они. Если звучало название города, о котором проститутка ничего не знала, она отказывалась от платы в обмен на историю. И мужчины опять ложились рядом, начинали рассказывать о родных местах – что там есть, как туда добраться, и так далее, и тому подобное.
Все это Мариса поведала священнику как-то ночью в начале осени, еще горячая, между охами и вздохами, своими и его, как на исповеди. А еще она показала ему, что спрятала за ковром, висевшим над изголовьем кровати, и Сарбан с трудом пришел в себя от изумления: Мариса нарисовала на стене – тем же пурпурным карандашом, каким обводила вены на своей груди – самую подробную карту Ступни Тапала, какую ему доводилось видеть.
– Взгляни, – Мариса указала на край рисунка. – До сих пор не знаю, что там есть и есть ли вообще хоть что-нибудь. Но думаю, что есть.
Вот тогда-то Сарбан и почувствовал, как пылающий кулак сжимает его внутренности, как пробуждается похоть, и впервые взял Марису. Занимаясь с ней любовью, он блуждал взглядом по нарисованной на стене дороге от Бивары до Альрауны и обратно, потом нервно кончил на девичий живот, нарисовав белыми блестящими каплями целые города, невиданные прежде.
Мариса закончила вытирать макияж и повернулась к Сарбану. На мгновение священнику показалось, что Вара с ними в комнате; он начал озираться в испуге.
– Опять бессонница? – спросила девушка.
– Опять.
– Хочешь поговорить? Или полежать? Или давай потрахаемся?
Мариса не знала другого мира, кроме борделей и притонов, поэтому разговаривала соответственно.
– Ты что-нибудь еще нарисовала? – спросил Сарбан.
– Город, – ответила Мариса, – и речку. Вот, взгляни… – Она приподняла угол ковра. – Но что там, наверху, все еще не знаю, если там хоть что-то есть.
– Может, никто не знает.
– Ну, кто-то же должен знать.
Мариса с тоской посмотрела на ковер, скрывающий ее маленький мир, и прибавила:
– Сейчас кто-то там живет, и однажды он придет испить мед из лона Марисы. Вот тогда и узнаю.
– Мы можем отправиться туда, – предложил Сарбан. – И не придется никого ждать.
– Да, конечно, – засмеялась Мариса. – Можем, еще как можем!
Девушка свернулась клубочком в его объятиях и закрыла глаза.
– Ты что-то узнала? – спросил Сарбан.
– М-м?
– Про Ничто.
– Нет, еще нет. Местные ко мне особо не приходят. Мадама отправляет их к другим, более старым и потасканным. Бабища знает, что меня надо беречь для чужаков, потому что я прославляю ее заведение по всей Ступне. Знаешь, что она делает?
Сарбан не ответил, но для Марисы это не имело значения, поэтому она продолжила.
– Каждый месяц собирает нас всех вместе на заднем дворе и по очереди засовывает палец – смекаешь, куда? И такая: сжимай! И мы сжимаем, одна за другой. А потом она сортирует нас по силе сжатия. У меня по-прежнему самая сильная, и я иногда получаю лишние деньги, которые могу потратить или отложить.
– И что ты собираешься делать с деньгами?
– Может, проверю свою карту, – сказала девушка.
– Сама?
– Сама, потому что я же все и всегда делаю сама.
Сарбан вздохнул и уж было начал говорить, что она вовсе не одинока, но умолк. Вместо этого спросил ее о другом:
– Как попасть к мальчикам?
Мариса приподнялась на локте и пристально посмотрела на него.
– Зачем тебе?
– Я не думаю, что Ничто привлечет сила твоего сжатия, – сказал Сарбан, – или чья-то другая сила. Сдается мне, ему нравятся мальчики.
Мариса поняла, и ее юное лицо омрачилось; лишь однажды Сарбан рассказал печальную историю Бога, но одного раза хватило. Мариса кивнула и пожала плечами.
– Да, наверное, ты прав.
– Так как же к ним попасть?
– Это непросто, – сказала Мариса. – Это совсем непросто. Я там никогда не была. Но вообрази, Сарбан, что случится, если тебя там узнают. То, что ты сюда приходишь… это еще можно понять. Но туда?..
Сарбан знал, что Мариса права: конечно, он никак не мог попасть туда, за высокие стены Мадамы, в те потайные коридоры, где педерасты оставляли самые тяжелые кошели, где юнцы дышали иным воздухом, обоняли иные ароматы. Мысль о запретных комнатах заставила его содрогнуться, и еще сильнее потрясло то, что с этим местом ничего нельзя было сделать. Где бы ни пребывали эти заведения, на то имелось дозволение Городского совета, иначе и быть не могло. В те времена, когда Совет старейшин был могущественнее, о таком бы и помыслить не смели.
– Но я могу пробраться туда вместо тебя, Сарбан, я могу пойти и разузнать все, что тебе нужно.
Мариса взяла его лицо в ладони и поцеловала в кончик носа.
– Как же ты сама не попала туда с остальными детьми, когда тебя привезли в город?
– Не знаю, – пожала плечами Мариса. – Наверное, я была тогда некрасивой девочкой. А теперь женщина хоть куда!
Она забралась на него и поцеловала в лоб; губы прильнули к его коже, трепеща от мыслей, которые к ним рвались, желая принять форму.
– Я не могу остаться. Нужно подготовить проповедь.
– Уже прошла неделя? – спросила Мариса. – Как быстро летит время, когда ты среди чужаков.
Сарбан вернулся домой еще до того, как забрезжил рассвет. Никто не видел, как он вошел, и лишь хороший холод вместе с плохим его ждали, когда он вытянулся на кровати, закинул правую руку за голову и прикрыл один глаз. Рука упала, и в тот же миг в дверь постучали. Она онемела. Сарбан заснул, и солнце уже взошло. Открыв дверь, он увидел Дармара, а за ним – костлявого паренька, белого от известковой пыли (или муки?), с седыми волосами, как у старца.
– От Гундиша, – пояснил Дармар, и Сарбан понял, что это мука, а не известь.
Он впустил обоих, и они принесли с собой ароматы: один – смирны и дыма, другой – булок с изюмом.
– Клара, господин, – сказал парнишка, хотя его не спрашивали. – Дочка хозяйская.
И замолчал.
– Что с нею стряслось?
– Я не знаю, господин. Хозяин вызвал доктора и аптекаря, но все так перепугались, что просят еще и святого отца. Я пришел вас позвать.
Священник и певчий переглянулись. Не первый раз Сарбана вызывали в утренние часы; они оба помнили, как рухнула стена в лавке Иога-часовщика, как он испустил дух, весь пронзенный фрагментами часового механизма, и как раздавался приглушенный голос кукушки из его живота, где она впустую выпевала точное время, вспахивая и перемешивая внутренности; или небольшой подвесной мост в Пашь-Мич, рухнувший вместе с носильщиками и палантином прямиком на улицу; или то печальное утро вскоре после того, как Сарбан сделался в Альрауне пастором, когда поэт Альфи Бюль пригласил его на кофе и попросил благословить, был весел и безмятежен, однако стоило приходскому священнику на секунду расслабиться, как поэт вышиб себе мозги из кремневого пистолета прямо у него на глазах. Но его еще ни разу не вызывали так рано из-за того, что что-то случилось с молодыми. Сарбан знал Клару: она была красивая и воспитанная юница, приходила с родителями, славными мэтрэгунцами, на каждую службу. Гундиш часто о ней рассказывал, и все подмастерья булочника от нее с ума сходили, ибо Клара, как некоторые другие девушки и женщины, была сотворена из материи, которая, вопреки воле юношей, а позже – мужчин, лишает их покоя. Есть девушки, которые самим фактом своего существования где-то в Мире способны с большого расстояния высосать из мужчины жизнь, выпить его до последней капли. Сарбан считал, что Клара Гундиш из таких.
– Пойдем, – сказал он.
Придя к Гундишам, Сарбан разминулся с Кунратом и Аламбиком. Священник изначально не почувствовал ни гнева, ни жалости, лишь нечто вроде тоскливой сопричастности: он увидел перед собой человека, которого, сам не зная почему, счел подобным себе. Он не спросил, что сказали доктора, он пока что не хотел ничего знать. Сел рядом с Кларой и сжал ее правую ладонь обеими руками. Напряженно подумал о порогах, про которые святые говорили тысячи лет, о деревянных порогах, изъеденных древоточцами, пребывающих не в этом мире и не в ином (а древоточцы-то какому миру принадлежат?), о пороге, на котором, как говорят, стоял святой Тауш и смотрел в обе стороны сразу, изучая потусторонние законы с младенчества. Сарбан ее благословил, но это далось ему нелегко, пришлось несколько раз начинать с начала; ладони покрылись испариной, стали скользкими – он никак не мог закончить молитву. Это привело его в ужас. Он отпустил руку девушки и понял, что совсем не верит: ни в ее спасение, ни в Исконных, ни в кого и ни во что, такое вот было утро. Он пригорюнился: разве виновато это дитя в том, что Сарбан лишился благодати и теперь внутри у него только гнилое Ничто?
Пришлось соврать госпоже Гундиш, что он благословил ее дочь, и уйти. Но дома он обнаружил, что его ждут старцы из Совета.
– Ты должен обратиться к мэтрэгунцам, – попросили они.
– Сегодня служба, – ответил Сарбан. – Я этим и занимаюсь во время каждой службы.
– Они уже всякое говорят.
– Пусть себе говорят, на то они и люди, а не звери.
– Сарбан, дочь Гундиша несколько дней назад жаловалась ему, что не может спать, потому что ей всю ночь не дают покоя громадные крысы.
– В юности у всех богатое воображение, – отрезал священник.
– Это верно, отче, но разве ты когда-нибудь слышал, чтобы все воображали одинаковое? Знай же, что она не единственное дитя, которое видело этих крыс ростом с человека.
Сарбан попросил их набраться терпения и вежливо прогнал.
– Давайте-ка не будем мешать докторам и апофикарам заниматься своим делом, – сказал он напоследок.
Сарбан остался один. Собрал рукописи со стола в охапку и бросил в угол. Вытащил бумаги безумного старого священника из тайника и сел за стол. Начал писать свою проповедь. У него за спиной плохой и хороший холод обнимали друг друга, пытаясь согреться, а в это время на другом конце Альрауны у Марисы текла кровь по бедрам – на этот раз ее кровь, а не куриная, – предвещая неделю телесного отдыха.
Церковь была полна, пришли и прихожане-мэтрэгунцы, и чужаки. Сарбан не помнил, чтобы за два года службы в Прими перед ним когда-либо собиралась такая толпа. Сверху, с амвона, он ясно видел все до распахнутых кованых врат, где в ожидании толкались люди, которых он никогда в Прими не встречал. Даже под Аркой Тауша, где, как говорили, истинный святой изверг свой клубок красной нити и испустил дух, собрались мужчины и женщины, не замечая этот самый клубок, почерневший от ветхости, спрятанный под стеклянным колпаком. Сарбан подумал, что дурные вести заразнее чумы, и откашлялся. Окинул взглядом сидящих на скамьях; увидел даже супругов Гундишей, которым посоветовал остаться дома, но которые, м-да, слишком жаждали неведомой благодати, хотели ее заполучить и отнести домой, Кларе. По обе стороны от алтаря собрались Совет старейшин и Городской совет, на этот раз в полном составе. Наверху, на балконах, по одну сторону сидели молодые и те немногие старики из Мощной Башни, которые еще могли подняться по лестнице; по другую – женщины из Глубокого Колодца, с кислыми физиономиями, готовые излить обвинения, словно яд, на всех, сидящих внизу.
– Возлюбленные мои, – начал Сарбан. – Спасибо, что вас так много нынче утром, ибо утро это печальное, о чем, не сомневаюсь, многим уже известно. Дорогая наша Клара Гундиш, дочь славного мастера Гундиша и его жены, лежит в своей постели вот уже больше шести часов и не отвечает ни на чьи призывы. И все-таки мы считаем, что это не повод терять надежду. Еще слишком рано отказываться от того, что нам дороже всего: надежды на лучшее. Величайшие медицинские умы бросились ей на помощь и делают все возможное, чтобы ее разбудить. И в самом деле, наша церковь – как и все, кто любит Клару, – склоняется над нею с чувством божественного долга и желанием помочь. Ибо в надежде заключено все лекарство, все утешение и, в конце концов, наше полное избавление.
Сарбан вдохнул; воздух потяжелел от такого количества присутствующих. Все сидели, не шевелясь и не моргая, словно куклы.
– Те, кто приходят в церковь каждую неделю, знают, что мы подошли к сложному моменту Вспоминания. В прошлый раз мы поминали святых-близнецов из-за Слез Тапала, которые начали путать друг друга и Мир с не'Миром. Вы услышали на той неделе, как близнецы в смятении своем испытали семь видений, которые, смею надеяться, помогут нам вспомнить, во что мы верим. О пяти я уже рассказал, значит, осталось два. Узнайте же, что я откладываю Вспоминание до той поры, пока наша девочка не очнется от странного сна. С позволения всех присутствующих, сейчас я буду говорить о чаяниях – упованиях мужских, отражающих великие – женские, материнские, которые, в свою очередь, вторят необъятной надежде, ведомой Исконным, поверившим в нас, людей, – надежде на то, что однажды города человеческие вспомнят о них и о своей вере в них. Я уже не в первый раз вам говорю: есть у меня ощущение, что это чрезмерно давно сокрытое воспоминание откроется здесь, в Альрауне. Я чувствую, что нынешние события – всего лишь начало, и не чего-то плохого, а чего-то хорошего. Испугалась ли мама маленького Тауша, когда ее сын впервые покинул родной дом? Конечно испугалась. Но Тауш вернулся, став мудрее, и в тот же момент в сердце его славной матери также возросла мудрость. Испугалась ли она после его второго исчезновения? Еще как испугалась. Но боялась она разумно, поскольку знала, что Тауш уже однажды уходил и вернулся. На этот раз к ее страху примешивалась надежда на его возвращение и известие о сокровищах, принесенных мальчиком извне. И Тауш вернулся, став еще богаче в своей мудрости и еще мудрее в своем богатстве. Испугалась ли женщина, когда Тауш исчез в последний раз и так нестерпимо долго отсутствовал? Разумеется, она была напугана до смерти, и ее муж сколотил из досок гроб, куда должны были уложить тельце мальчика, когда его найдут. Однако его нашли не мертвым, а живым – живее прежнего, богаче, мудрее, с зародышем откровения в душе, которое, как мы теперь знаем, далось маленькому святому нелегко. Надежда – вот что сохранило женщине жизнь; надежда – вот что вернуло ее сына. Та самая надежда, которая принесла вместе с самим Таушем его божественную благодать и весть о порогах, о Мире и не'Мире. Возлюбленные мои мэтрэгунцы, те исчезновения маленького святого были поводом для радости, а не для печали, ибо стали они кирпичиками веры людей в того, кому предстояло сделаться великим святым Таушем, основателем нашего города. Хотя однажды мы были обмануты, надежда некоторых сохранила память о святом, и теперь мы про него знаем, мы можем попытаться вспомнить, какой была изначальная Ступня Тапала, когда гигант впервые ступил на землю и породил мир. Наш мир. И потому мы с той же надеждой должны воспринимать и погружение дорогой Клары Гундиш в глубокий сон, будучи уверены в том, что она, вернувшись, принесет благую весть, мы должны надеяться, что она в конце концов укажет нам путь, некогда открытый святым Альрауны, – путь, по которому, как известно всем, нам надлежит пройти и отыскать нового святого, а он доведет начатое Таушем до конца, все исполнит, облегчит нам Вспоминание здесь, в Альрауне. Итак, давайте не будем бояться, а будем надеяться!
Бормотание; суета.
– Церковь, – продолжил Сарбан после небольшой паузы, – останется открытой днем и ночью на время бдения, и те, кто… – (священник прервался, когда в дальней части церкви послышался шум: кто-то вошел и шепнул некое известие, от которого по толпе пробежало волнение, будто пламя от брошенного факела) – …те, кто пожелают присоединиться, как я и говорил, могут это сделать… – (Сарбан увидел, как весть обжигала людские уста, перелетая от уха к уху, и шепчущее пламя приближалось, ряд за рядом, к нему) – …те, кто хочет помочь семье Гундиш любым возможным способом, их я попрошу… – (новость наконец достигла первого ряда; глядя на мрачные, серые, перепуганные лица, Сарбан подумал, что шепчущее пламя оставило позади себя лес обугленных стволов; Дармар поймал пламя собственным ухом и на устах своих принес святому отцу – поднялся на амвон, наклонился и влил его в ухо Сарбану).
– Еще одна девушка, – прошептал певчий.
Священник почувствовал, как хороший холод и плохой холод воткнули ему в спину по кинжалу. Он поднял голову и окинул взглядом всю взволнованную толпу. В церкви повеяло горелым.
Был вечер, пахло бузиной. Лили ничего не узнала про Клару Гундиш. Как только закончилась служба, тетушка Валерия схватила ее за локоть и потащила через толпу к пролетке, явно избегая группу шумных подростков у церкви, которые кричали вслед Лили и махали ей рукой. Они сели, и тетушка Валерия кашлянула; извозчик направился к их дому на улице Зидулуй. Расспросы ничего не дали: тетушка Валерия притворялась, что не слышит Лили, и улыбалась прохожим, как будто на каждом углу ее ждал старый друг. Надо отметить, на самом деле старуха не замечала ни людей вокруг, ни других пролеток, ни крошечных сутулых попрошаек, которые шныряли у лошадей между ногами, и даже не слышала, как девушка то и дело спрашивает, о чем Сарбан говорил с таким подавленным видом, таким суровым тоном. Тетушка Валерия видела перед собой одно и то же, однако Лили было невдомек, что именно. Они вернулись домой, и вскоре пришел Томас, голодный и с кругами под глазами, в дурном настроении, обуреваемый жаждой скандала. Лили велели убираться в свою комнату.
Лили выглянула сквозь густую листву перед окном, но никого не увидела – улица была пуста, ни души, ни эха детских голосов, ни цокота копыт по мостовой, ни какой-нибудь случайной повозки. Лили вообразила Альрауну целиком, объяла разумом весь город, – от младенцев до самых древних старцев все, как и она, созерцали пустынные воскресные улицы, перекрестки, где встречались лишь бродячие собаки, подвалы, куда наведывались только крысы, платформы, по которым прохаживался в одиночестве ветер, – а потом увидела мысленным взором Аламбика, который куда-то шел. Аламбик! Как же она могла забыть? Предстояла третья ночь после ее визита к аптекарю, и она должна была выбраться из дома к толстому дереву у ворот, найти в дупле обещанное. Она решила, что после ужина дождется, пока все уснут, и спустится из окна, как уже делала, чтобы забрать свое снадобье. От таких мыслей сердце ее учащенно забилось, вся кровь прилила к голове, руки и ноги онемели, и она представила себе, пока белые звезды вспыхивали перед зажмуренными глазами, как безмятежно входит в класс, как под блузкой выделяются тяжелые груди, как садится за парту, и все не могут оторвать от нее глаз, а она улыбается… и тут раздался колокольчик старухи: ужин.
За столом они молчали. Лили не осмелилась спрашивать о проповеди, потому что отец выглядел удрученным и усталым – наверное, успел после церкви заехать на какое-то собрание. Тетушка Валерия тоже казалась обеспокоенной и больше вздыхала, чем ела.
– Кушай, деточка, кушай, – шептала она юнице и вздыхала.
Лили поспешила съесть все из тарелки, попросила добавки, чтобы не привлекать к себе внимания, потом извинилась и ушла к себе. В комнате прислонилась к оконной раме и не сводила глаз с дупла на стволе дерева, чьи сучки и изгибы тут и там выделялись в лунном свете. Она ждала. Она хотела увидеть, как Аламбик подкладывает склянку в тайник, но почти два часа ничего не происходило, а потом скрипнула дверь и раздались отцовские шаги.
– Ты почему не спишь?
– Я готовлюсь.
– Помолилась? Произнесла Безмолвие?
– Этим и занимаюсь.
– Так, гаси свет и в постель.
– Конечно, папа.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, папа.
Томас хотел закрыть за собой дверь, но голос Лили его остановил.
– Папа?
– Да, Лилиан.
– Что сегодня священник рассказывал про…
Томас повернулся к дочери и посмотрел ей в глаза.
– Ты была невнимательна?
Лили потупилась и сказала:
– Не очень внимательна… мне хотелось спать.
Томас подошел к лампе на стене, погасил ее и сказал.
– Ну-ка, в постель.
Лили забралась под одеяло, а Томас сел рядом на кровать.
– Клара заболела, – сказал он, и юница прислушалась. – Какой-то неведомый недуг. Доктор Кунрат из Прими у нее уже побывал, но… нужны и другие мнения.
– Ты ходил к ней? Потому и пришел так поздно?
– Да, я ходил домой к Гундишам вместе с Сарбаном и Кунратом.
– И что с ней?
– Я же тебе сказал: неведомый недуг. Никто ничего не понимает.
– Ее рвет? Она кашляет? Как…
– Нет, – перебил отец. – Ничего не происходит.
– В смысле?
– Она спит.
– Как это, спит?
– А вот так, лежит и не шевелится, как будто дремлет, – сказал Томас Бунте. – Или больше, чем дремлет… э-э… ну да, спит. Очень глубоким сном. Утром ее попытались разбудить, но ничего не вышло. Потом они ждали, и… опять ничего. Она не просыпается. Прямо сейчас тоже спит, если не произошло чудо, но чудеса в Альрауне случаются только в легендах, Лилиан. Будем надеяться, что Альгор Кунрат найдет правильное лекарство.
Лили слушала, закрыв глаза, и пыталась представить себе, как Клара лежит в постели, такая теплая и мягкая, равномерно дышит, спит, а вокруг растут папоротники, стадами носятся дикие звери, проходит время.
– Я тебе все это рассказал, потому что завтра ты бы все равно узнала в школе, так лучше уж от меня, пораньше. Понятия не имею, что придумают мэтрэгунцы до завтра. Не волнуйся, мы разберемся, что с ней приключилось, и, если понадобится, отвезем ко Двору, на лечение к лучшим докторам.
Девушка открыла глаза.
– А теперь спи, – сказал Томас.
Он наклонился и поцеловал ее в губы, уложил ее волосы на подушке и вышел из комнаты. Лили осталась во тьме, и, как бы ни пыталась она думать о Кларе, мысли устремились к Аламбику. Она в тревоге гнала их прочь, вспоминая слова, услышанные в детстве от матери: о тех, кто несчастен, всегда следует безмолвствовать. Она выбралась из постели, опустилась на колени и погрузилась в безмолвие. В скором времени на нее снизошел покой, и она как будто очутилась в мифическом городе без (ведомого) названия, пытаясь заставить Исконных молчать, но это продлилось недолго, потому что образы напирали со всех сторон, Аламбик на четвереньках выкапывал мазь, Исконные кричали друг другу то самое Слово, которое надо было разыскать и облечь в молчание, рядом с нею сидела мать с тряпицами, смоченными уксусом, Аламбик гнал прочь не'Людей (с чего бы ему этим заниматься?), подносил к носу склянку, нюхал, куда-то бежал, огромная дыра разверзлась посреди Альрауны, Безмолвие давалось тяжко, ее предупреждали, ему учатся всю жизнь, а все равно многие не могут безмолвствовать, даже когда умирают, Лили лежала в постели, вся в моче и дерьме, она спала?.. нет, ей нельзя спать; Лили поспешно завершила Безмолвие и вскочила на ноги.
– Растопчи меня Тапал, – прошептала девушка.
Подошла к окну. Подумала: сперва надо выбраться на карниз под окном, весь в голубином помете, а потом перепрыгнуть на вон ту толстую ветку (полгода назад выдержала, выдержит и сейчас), спуститься по стволу и побежать к калитке, с которой надо осторожно, чтобы не скрипнула, сунуть руку в дупло, спрятать склянку под ночнушкой и быстренько назад. Лили вздохнула и выбралась наружу. Она приказала себе не смотреть вниз, ни в коем случае не смотреть вниз, и, конечно же, посмотрела: черное море кустов, в котором, как было известно Лили, многим тысячам шипов не терпелось вонзиться в плоть.
– Глупости! – решительно заявила Лили. – Больше не смотри вниз!
Она повисла, держась за подоконник, однако ноги еще не коснулись узкого карниза под окном. Закрыла глаза, разжала хватку. Приземлилась как следует, без проблем. Вздохнула с облегчением и открыла глаза. Поискала кирпичи. Вот они! Полгода назад Лили уже удирала из дома, чтобы вместе с другими ребятами поглядеть через забор, как Аламбик что-то выливает из банок позади дома. До того она три дня потратила на расчеты и пришла к выводу, что трех кирпичей достаточно, чтобы с карниза взобраться на подоконник. Сложенные друг на друга, они образовали лесенку, по которой она могла вернуться в комнату через окно. Юница притащила их к себе в спальню по одному и спустила на карниз, прямо над входной дверью, с помощью простыни. Они лежали на прежнем месте. Лили сложила их лесенкой и быстренько повернулась к ветке, чтобы… Что?!.. Ветки не было! Кто-то спилил эту толстую ветку, этот мост между карнизом и деревом, между ее плоской грудью и всеобщим восхищением. Невероятно… Наверняка вышло так, что Томас заметил ветку, которая касалась карниза, испугался, что по ней ночью в дом заберется какой-нибудь вор, и велел спилить. Лили не видела, как это случилось. Она никак не могла спуститься. Наверное, придется поискать другую возможность завтра, после возвращения из школы. А вот если бы она сумела прихватить мазь, уходя… и намазаться в школе… нет, нельзя этого делать в школе! Впрочем, а почему нельзя? Почему бы и нет…
В доме тишина воцарилась в каждой постели, челе, мыслях. Лишь время от времени часы в каком-нибудь коридоре равнодушно провозглашали точное время, которое было не совсем точным, ибо они в своем равнодушии то и дело пропускали минуту-другую, вынуждая все сущее замереть, и в ту самую ночь никто еще не ведал о том, что еще одна невинная дева уснула беспробудным сном на другом краю Альрауны.
Тетушка Валерия шумно мешала в кастрюле деревянной ложкой, Томас Бунте шуршал газетами, во дворе суетилась прислуга, жуки и дождевые черви рыли сырую почву погреба – все это было так далеко от Лили, которая погрузилась в раздумья, в свой мир, упокоенный на подушках, и устремила через окно рассеянный взгляд на листву за окном. Она думала о Кларе Гундиш, видела ее мысленным взором, спящую, умиротворенную, и не понимала, кто, как и почему мог подумать, что это нехорошо: спать… спать долго, посреди собственного ничто, собственного мира, уснуть и удалиться от всех. И все же сон Клары вселил страх во всю Альрауну, слухи достигли внешних стен Инфими и, конечно, распространились за их пределами. Едва Лили вышла из школьных ворот, как выяснилось, что куда ни глянь люди только и говорят, что о дочери булочника, погрузившейся в глубокий сон, который никто не может прервать. На каждом перекрестке шепотом звучало ее имя; надо же было такому случиться, что Клара прославилась, уснув.
Лили моргнула всего разок, недолго, но мир обрел четкость, и перед нею, среди ветвей и листвы за окном, появилось красное пятно, словно дефект на гобелене, сотканном самой природой. Она нахмурилась. Моргнула опять: пятно никуда не делось. Лили встала и подошла к окну, оперлась локтями о подоконник, уронив подбородок в ладони. Долго смотрела на красное пятно среди листьев, а потом вздрогнула – поняла, что это такое. Шарф! Тот самый, с Пьяца-Маре! Алый, тонкий, обернутый вокруг ветки и завязанный узлом, он развевался на легком вечернем ветру. Но откуда он взялся?.. Не успев как следует обдумать случившееся, она развернулась и бросилась к чулану, достала метлу на длинной ручке. Вернулась к окну и попыталась коснуться шарфа палкой, подвинуть его, развязать, забрать себе. Какая разница, кто его привязал и каким образом; ее даже не волновало – и это было самое главное, – почему шарф оказался на дереве. Теперь ей требовалось лишь добраться до шарфа, заполучить его. Она уже воображала, как входит на школьный двор с шарфом на длинной шее, сияющим в лучах солнца, как алый цвет кружит головы и приковывает взгляды. Она представляла себя объектом всеобщей зависти и обожания. «Мой шарф!» – подумала она и еще сильнее вытянулась за окно. Но все впустую, ибо тот, кто привязал шарф, сделал это чересчур далеко от подоконника; не добраться. Выбора нет, надо вскарабкаться на дерево. Потом Лили посмотрела вниз и увидела Непомука, одного из парней, которые время от времени помогали с домашними делами и доставали ее. Он тоже увидел шарф и таращился на него, стоя под деревом.
– Непо! – крикнула Лили.
– Туточки, – ответил Непомук.
Лили жестом попросила его приблизиться. Долговязый парнишка, кожа да кости, оперся плечом о толстый ствол дерева.
– Чего?
– Непо, ты же умеешь лазить по деревьям?
– Ну а кто ж не умеет?
– Я, – соврала Лили.
– А-а. Ну, ты девочка, это нормально. А у мальчишки оправданий нет.
– Значит, умеешь – ты же мальчик.
– Еще бы!
– А ты не мог бы мне помочь?
– Давай, говори.
– Залезь на это дерево.
– Вот это? – уточнил Непомук, хлопнув по коре. – За той тряпкой?
– Да. И это не тряпка.
– Вылетела из окна?
– Ага.
– А что это?
– Шарф.
– И что я получу взамен?
«Знаю я, о чем ты думаешь, Непомук из Инфими…»
– Поцелуй, – сказала девушка.
Парнишка покраснел до ушей. Не тратя времени на раздумья, он в несколько прыжков оказался посреди кроны.
– Где он? Я его больше не вижу.
– Ближе ко мне.
Непомук прижался грудью к ветке и стал по ней ползти, словно огромная жирная гусеница. Увидел шарф, потянулся к нему и застыл.
– Но… как же он так улетел? Зацепился и завязался?
– Непо, пожалуйста, помоги мне.
У Непомука кровь отлила от лица; он сдался.
– Да помогу я тебе, помогу. Но если твой папаша узнает…
– Что узнает?
– Что тебе кто-то оставляет подарочки.
– А кто ему скажет?
– Я-то откуда знаю?
– Непо, здесь только ты, и только ты можешь ему рассказать. Но ты же меня не выдашь?
– Ничего не знаю, – ответил парнишка и развязал шарф.
Сжал его в руках, ощущая мягкую ткань; вещь была дорогой, слишком дорогой для него.
– Спасибо, Непо! И еще кое-что… Однажды ты сам подаришь мне шарфик, и он будет самым красивым. Красивее, чем этот.
Лили улыбнулась так проникновенно, что Непомуку, который ночевал в Инфими и работал в Прими, показалось, будто он увидел древнюю улыбку, которую с незапамятных времен передавали от матери к дочери, и которой нынче не было равных.
– Да уж, точно, – сказал Непомук. – Но чтоб я сдох, если не привяжу его на самом верху, чтобы ты не добралась!
Десятки раз она примеряла этот шарфик между прилавками, поднимала над головой и позволяла падать на плечи, нюхала и целовала, но теперь, сжимая алую ткань в кулаке, испытывала нечто новое, невиданное прежде; шарфик пропитался холодным вечерним ветром и источал прохладу. Она вдохнула его запах, и это оказался запах рынка, спрятавшийся в складках, рынка с его пряностями и копченостями, кальянами и ночными горшками, кровью и пылью. Она попыталась отыскать иной запах, след того, кто забрался на дерево и привязал шарфик к ветке, но ничто его не выдавало (это же был какой-то «он»?), он исчез без следа. Она расправила ткань, чтобы вновь ее скомкать, а потом опять расправить и скомкать еще раз. Легла на кровать. Кто бы это мог быть? Кто? Она закрыла глаза и вдохнула мир, спрятанный в шарфике, по телу прошла дрожь; задышала глубоко, почувствовала, как кружится голова. Подняла кулак, в котором сжимала шарф, и снова прижала к носу – на несколько секунд она оказалась голой посреди рынка на Пьяца-Маре, и вся Альрауна на нее смотрела. Ей понравилось.
Потом она задремала и о том, что произошло в Мире в эти минуты, не узнала ни тогда, ни позже. Час за часом падали во тьму, и кто бы увидел Лили, вытянувшуюся на кровати, мог бы покляться, что ей на все хватит времени. Но никто ее не видел, и времени на всех не хватало.
Она проснулась, словно на дне влажной ямы, чувствуя тяжесть во всем теле и не помня снов, а потом поняла, отчего ей было так холодно: она задремала голой, сжимая в кулаке шарф. Никто ее не потревожил. Как в тумане, посмотрела в окно, и фрагменты мира медленно встали на свои места. Едва забрезжил рассвет, несколько облаков зацепились за ветки, и там, среди листьев, она увидела новое красное пятно. Еще один шарф? Лили вздрогнула и резко села на кровати. Потом вскочила и подбежала к окну, где испытала ужас: нет, это был не новый алый шарф, и даже не шарф, да к тому же, судя по всему, не алый. Скорее фиолетовый, смесь красного с черным, крови с шерстью, ибо там, среди ветвей, на том самом месте, где совсем недавно колыхался шарф, висела связка мертвых, выпотрошенных крыс, стянутых кожаным шнурком в пучок плоти и шерсти. Единственной живой деталью этого натюрморта была муха, которая пробовала на вкус раздробленные трупики там, где они были влажнее и мягче, а крысиные глаза, черные, безупречные сферы, словно драгоценные жемчужины со дна океана, безжизненно глядели в пустоту, в небо, где расцветал новый день.
(За Альрауной у людских снов был собственный город.)
Проснувшись, Сарбан увидел, что за стенами Прими сгустился темный туман; где-то там мэтрэгунцы размыкали веки в предвкушении нового дня, полного неопределенности. Еще не было даже пяти часов, но перед дверью его уже ждал кофе, как и каждое утро. На мгновение, пока он сидел и потягивал черную жидкость, сваренную девушками на кухне, ему опять пришли на ум те, кого спрятала за фальшивыми стенами Мадама, о которой еще в юности слыхал, дескать, когда была молодой, различала мужчин из города не глядя, лишь по вкусу их семени. Скольких подопечных этой женщины можно было привести на его кухню или многие другие кухни Альрауны, дав им работу и новую жизнь? Продолжая попивать, кутаясь в одеяло, наедине с хорошим и плохим холодами, Сарбан сказал себе, что это непростая задача. Городской совет будет ревностно охранять свои тайные комнаты. Он слушал шепот за спиной, где сговаривались хороший и плохой холода, а комната потихоньку наполнялась теплом.
Когда по-настоящему рассвело, пришло известие, что его ждут на собрании Мощной Башни в доме наставника Бунте. Дармар сообщил ему эту новость с тяжелым сердцем, поскольку знал, как сильно священник ненавидел встречи с Советом старейшин, с Городским советом, но, прежде всего, с Мощной Башней, этим обществом горожан-мужчин, которые пытались вот уже сотни лет сделать так, чтобы их воспринимали всерьез. Башню основали где-то между первым и вторым прибытием святого Тауша из-за паники, порожденной одиночеством города, оставшегося без святого. Сарбан узнал о корнях Башни, как и каждый мальчик и мужчина из Прими, поскольку однажды его самого туда пригласили. Он хорошо помнил и был убежден, что большинство стариков также помнит то презрение, с которым он отнесся к ним в свои шестнадцать лет, а затем холодность, с которой принимал приглашения, оставшиеся без его ответа. Когда в почти двадцатилетнем возрасте Сарбану удалось покинуть Альрауну, расставание с Башней было одной из мелких радостей, которые он нес с собой в начале пути. Он вспоминал, как иногда сожалел о том, что не родился девочкой: ходил бы на собрания Глубокого Колодца, ведь не могло быть так, что они зануднее и глупее мужских сборищ. Но теперь уже не хотелось быть женщиной, думал Сарбан, потягивая кофе, ведь Мир, каким бы он ни был кривым, калечным и уродливым, лучше того, что предположительно существует за вечно сомкнутыми веками.
До самого собрания он трудился над своими рукописями, пытаясь впихнуть в пустоты, оставленные безумным священником, обгорелого святого, про которого никто не знал, что он не мужчина, а женщина.
Собрание Башни прошло именно так, как он ожидал и помнил с давних времен. Шестнадцатилетние парни потягивали крепкие напитки с восьмидесятилетними хрычами, курили с ними сигареты, хмурили брови вместе с дедами, кивали в унисон, наслаждались свободой, дарованной на несколько часов в месяц, когда мальчики могли сделаться мужчинами, а мужчины – снова стать мальчиками. Присутствовали почти все важные жители Прими, и на некоторых лицах – то были отцы девочек – Сарбан прочитал беспокойство и страх. Было решено учредить непрерывное дежурство: стражи Башни по очереди станут патрулировать город днем и ночью.
– Мы до сих пор не знаем, что это, – говорили они. – Недуг или нечто иное. И все-таки покажем городу, что мы здесь и на нас можно положиться.
Сарбану все это показалось нелепым, и когда пришло известие о том, что еще одна девица не проснулась, собрание погрузилось в хаос и замешательство. Сарбан встал, извинился и заявил, что ему пора.
– Если я буду здесь сидеть и смотреть, как вы вертите бокалы в руках и сигареты в пальцах, это никак не поможет бедным детям.
Он поклонился и ушел, не дожидаясь брошенных вслед слов – они ударились в закрытую дверь, и такое лучше было не слышать. Остаток дня Сарбан провел на ногах, переходя от одной девочки к другой, разговаривая с Аламбиком, Альгором Кунратом и даже беспомощным Хальбером Крумом, зажатым между этими двумя. Мало-помалу его охватывало отчаяние: Сарбан, отец без сына, вставая со своего места у постели той или иной юницы, всякий раз чувствовал, что они ему родные; так он запоздало сделался отцом дочерей в разных концах Прими. Время от времени он останавливался и смотрел на небо, но не искал там ответа, а наблюдал за движением на платформах; то и дело по дощатому настилу пробегала чья-то торопливая тень. «Ничто, но не мое Ничто», – думал Сарбан и вновь погружался в отчаяние.
Он узнал пароль от парнишки, которому предложил десять «клыков». Малец заявил, что сам никогда там не был, но у него есть приятели постарше, которые чуть ли не каждый день отдыхают в кабаке Папука.
– Дерьмо, – сказал он. – Это пароль такой.
Сарбан замешкался; было трудно довериться постреленку в лохмотьях, с физиономией, густо испачканной угольной пылью, но в конце концов отдал «клыки» и поблагодарил. Малец исчез так же, как и появился, юркнул в какую-то трещину в стене, за которой простирались сокрытые пространства, а от них было рукой подать до пространств непостижимых. Сарбан окинул взглядом эту стену и представил себе, как малец пробирается где-то под штукатуркой; за этими стенами существовала целая вселенная, как и в нем, как и в каждом человеке: миры внутри миров.
Он взял широкополую шляпу, надел балахон, который держал на дне сундука специально для таких целей, нацепил на нос очки с прозрачными стеклами вместо линз, и вышел. Альрауну охватил холод, город дрожал в странном ознобе, инородном для лета на Ступне Тапала. Сарбан нахохлился и сквозь тени направился в Инфими. Подойдя к таверне Папука, постучался, и некто за окошком в двери – рыжий, а может, выцветший от избытка табака – невнятным тоном спросил пароль.
– Дерьмо, – сказал Сарбан.
Окошко захлопнулось, но дверь осталась закрытой. Из-за нее доносились отзвуки смеха и игры на расстроенном пианино. Сарбан уверился, что потерял впустую десять «клыков». Он уже собрался уходить, но щелкнула дверь, и в клубах трубочного дыма рука, густо обросшая рыжим волосом, поманила священника.
– Издалека? – спросил рыжий.
Сарбан кивнул.
– Откуда?
– Бивара, – ответил священник.
Мужчина опять что-то пробормотал.
– Входи. Биварцы – славный народ, ни разу у нас тут скандалов не устраивали.
Сарбан шагнул было внутрь, но его остановили тычком в спину.
– Башмаки-то сними, – велел рыжий и буркнул что-то, а Сарбан, в отличие от нас, опять не расслышал.
Сарбан огляделся: около девяти столов были заняты шумными типами, грязными, как и сами покарябанные столешницы, о которые они стучали кружками и выбивали трубки. А еще он увидел источник фальшивой мелодии: какого-то вусмерть пьяного заморыша другой такой же дохляк колотил башкой по клавишам пианино, пародируя известную песенку. Вокруг все хохотали. Рыжий подтолкнул Сарбана к барной стойке.
– Ну и что у вас в Биваре пьют?
– А что у тебя лучшее? – спросил Сарбан.
– Это смотря для кого, – ответил рыжий. – Лучшее для него не годится для тебя, – и он указал на мужика, который рухнул под стол, вывалив огромное брюхо из расстегнутых штанов.
– Налей вина, – сказал Сарбан, и собеседник, кажется, был не против.
– Да-да, – пробормотал он себе в рыжую бороду, – биварцы знают толк в вине.
Сарбан делал вид, что пьет, а сам поглядывал по сторонам, на посетителей, у которых глаза блестели от водки. Он попытался подсчитать, сколько мужчин было в кабаке, и сбился на тридцати пяти – вроде, кого-то уже считал, одни ушли, другие пришли, а некоторые, сидя на прежнем месте, менялись в лице, опустошая графин за графином, как будто изнутри у них упрямо лезли существа, рожденные алкогольными парами, стараясь избавиться от старого лица, может, стукнуть им пару раз по окровавленному пианино. Сарбан поискал заморышей-музыкантов, но как жертва, так и палач куда-то исчезли. Веселье теперь происходило за другим столом, где какая-то необъятная дама показывала грудь. Она достала одну, толстую, громадную, ниспадающую на тяжелый живот, словно гигантская колбаса – ответом были смех и аплодисменты. Достала вторую, розовую и как будто еще толще – публика громыхнула пуще прежнего. Веселье изверглось, словно пузырь с гноем, и они хохотали, вопили и харкали, а один тип выпростал свой уд, подражая бабе. Толстуха цапнула его за главную драгоценность, и они вдвоем вышли из общего зала. Тут Сарбан и обнаружил комнаты: двери в них выглядели черными дырами в темных стенах.
– Здесь же и переночевать можно? – спросил Сарбан у рыжего.
Тот кивнул и что-то проворчал. Сарбан изобразил еще один глоток вина и огляделся в поисках своего Ничто. Вскоре почувствовал, как мрачный взгляд рыжего впился в левую щеку. Повернулся к нему и спросил:
– А сюда часто иноземцы наведываются?
На лице рыжего не дрогнул ни один мускул, морщины на его лбу были глубоки, как пересохшие в незапамятные времена реки, взгляд аквамариновых глаз был на удивление трезвым. Рыжий протянул руку и приподнял графин с вином. Убедившись, что Сарбан к нему не притронулся, рыжий бросил на него хлесткий взгляд, будто ударил кнутом, и приложился. Нахлебавшись, сказал:
– Слушай: я тебя не спрашиваю, откуда у тебя пароль, ты меня не спрашиваешь ни о ком из присутствующих. Договорились?
Сарбан кивнул.
– Я тебя не спрашиваю, сколько раз по пути сюда тебе впердолили или ты кому-то впердолил, чтобы раздобыть пароль, и даже не спрашиваю, что тебе понадобилось в Альрауне. И за вино, которое не пил, ты все равно заплатишь.
Священник опять кивнул. Он посмотрел в глубокие глаза рыжего и подумал, что быть хозяином таверны Папука – все равно что за свою единственную жизнь прожить несколько тысяч чужих жизней и узреть, услышать все ужасы Мира меж этими то ли девятью, то ли десятью столами.
– Я тут всего лишь проездом. Пароль узнал от того, кто меня сюда привез, – он рыбак, ходит по домам в Инфими и продает свой товар. Я ему сказал, что ищу, и он ответил, дескать, у Папука лучше всего.
Рыжий взял вторую кружку, поставил рядом с кружкой Сарбана, налил в обе красного вина и подтолкнул одну к священнику. Обошел стойку и сел на табурет рядом с Сарбаном.
– Папук – это я, – с этими словами он указал вниз.
Сарбан увидел, что у мужчины нет обеих ног ниже колена. Он не заметил, когда вошел в корчму, что Папук ходит на деревянных протезах, при этом на удивление хорошо удерживая в равновесии свое большое и тяжелое тело.
– Когда один ублюдок мне отрубил ноги, я их схватил и забил сволочь насмерть. Проломил череп носком башмака. Я Папук[6]. Будем знакомы.
Мужчина придвинулся поближе к Сарбану и прошептал, обдавая вонью гнилых зубов:
– Что тебе нужно от Папука?
Сарбан бесчисленное множество раз репетировал следующие слова в холоде приходского дома и по дороге в Инфими. Рисовал в воздухе постыдные формы губами, глаза его видели то, что произносил рот, а желудок сжимался от омерзения, когда рождались в уме определенные мысли. Он эти два слова произнес десятки, сотни раз, и все-таки, ну надо же, когда он очутился так близко к решающему моменту и Папуку, они застряли в горле и отказались выходить. В глазах хозяина кабака заплясали искры, словно неведомые подводные твари подплыли к поверхности океана.
– Ну? – спросил Папук.
Сарбан молчал. В горле встал такой комок, что вот-вот начал бы выпирать через затылок; священник вспотел под полями своей большой шляпы, он казался самому себе кем-то другим – кем-то отвратительным. Папук откинулся назад и посмотрел на него с отвращением.
– М-да… я-то думал… – сказал рыжий и уже стукнул своими палками об пол, когда Сарбан выплюнул два слова.
– Парни. Помоложе.
Папук устремил на него пронзительный взгляд, как будто не желая удовлетвориться наружностью, как будто высматривая мерзких тварей, копошащихся под кожей биварца, и Сарбан, желая продемонстрировать правоту собеседника, потупил голову.
– А, так ты из этих, – проговорил трактирщик. – Рассчитаемся после, – прибавил он, указывая на одну из дверей.
Сарбан поднялся, ощущая себя чужим в собственном теле, и вошел в темный проем. Помещение было узкое и длинное, с единственным окошком без стекла в дальнем конце. Лунный свет еле-еле озарял краешек соломенного тюфяка. Сквозь закрытую дверь доносились приглушенные отзвуки пьяных голосов. В темном углу кто-то шевельнулся. Сарбану показалось, что кто-то запутался в тяжелой занавеске, он тяжело вздохнул и собрался выйти обратно в зал, но не успел открыть дверь, как в углу зажглись свечи, и священник увидел, что не ошибся: часть стены на самом деле представляла собой плотную занавеску, за которой кто-то копошился. Он видел, как за тканью пляшут тени, трепещут в мерцании свечей.
– Кто там? – выдавил Сарбан.
Комок в горле не проходил, совсем наоборот, распухал и твердел, преграждая путь словам.
– Что… – проговорил он и умолк.
Худенькая ручка отдернула занавеску, и Сарбан увидел паренька с впалыми щеками, темноволосого, с испуганным, но ясным взглядом. Он держал в правой руке свечу, жестом приглашая гостя подойти ближе. Тогда-то Сарбан и понял, что за занавеской, которая так хорошо сливалась со стеной, была ниша, где и обитал малец. Одновременно до Сарбана дошло, что он голый.
Парень засунул свечу в подсвечник рядом со своим соломенным тюфячком и начал застенчиво теребить себя за пенис.
– Нет… прекрати… – сказал Сарбан и чуть не поперхнулся собственными словами. – Ты не должен… – проговорил он и отвернулся.
– Я смогу, – сказал мальчик. – Подождите чуток…
Он лег на живот. Отблески свечей плясали на них, будто в страхе избегая темной долины смерти между ними. Сарбан почувствовал, что комок в горле станет его судией и палачом, и если он не заплачет, то умрет. Но он не хотел ни плакать, ни умирать, он просто хотел дотянуться до своего Ничто, схватить за горло и выдавить из него всю жизнь до последней капли, и пусть бы с нею Мир покинуло подобное извращенное зло.
Сарбан скинул балахон и, не глядя на мальчика, прикрыл его наготу.
– Как тебя зовут? – спросил он наконец, осмелившись взглянуть и увидев, что из-под складок ткани торчат только пятки.
– Степан.
– А я Сарбан, – сказал священник и лег на тюфяк рядом с ним.
– Но… – Парень попытался вылезти из-под накидки.
– Нет, не вставай, – попросил Сарбан. – Не шевелись. Откуда ты, Степан?
– Я не знаю, господин.
– Давно здесь?
Парень пожал плечами. Сарбан окинул взглядом комнату и понял, что в ней сложно уследить за ходом времени.
– А как ты сюда попал, Степан?
Он опять пожал плечами.
– Э-э… какие у тебя самые старые воспоминания? Знаешь?
Степан кивнул.
– Ну? – спросил Сарбан.
– Мадама.
– Мадама? Ты бывал у Мадамы?
– Угу.
Сарбан тоже кивнул.
– Ты родился в ее заведении?
Парень пожал плечами. Вероятно, да.
– Помнишь, как ты сюда попал?
– Да. Дядя Папук выиграл меня в карты у Мадамы. Он мне сам так сказал, и это все, что я знаю.
Сарбан обыскал карманы, нашел несколько «клыков» и дал мальцу. Тот взял, опасливым взглядом окинул комнату, погруженную во мрак, и спрятал монеты под тюфяк.
– Польза от них будет?
Парень как будто не понял.
– Что ты с ними сделаешь? Потратить сможешь?
Степан покачал головой: нет.
– Их отнимут?
– Да.
– Ты хоть иногда выбираешься отсюда?
– Нет.
– Никогда?
– Никогда.
Сарбан старался обуздать свой гнев, не показывать своих чувств, не выдавать себя. Но все-таки одна слеза одержала победу, скатилась по щеке, застряла в бороде.
– Почему вы плачете, господин?
Сарбан утерся основанием ладони и коротко ответил:
– Ты мне кое-кого напоминаешь.
Степан был совсем не похож на Бога, но Сарбан вспомнил те моменты, когда купал сына, этот комочек розовой плоти, который хихикал и плескался, будто маленький океанский святой, все еще невежественный, неуклюжий, ни о чем не подозревающий. Узрел усталые веки, смыкающиеся над миром Бога на последних словах сказок, почувствовал теплый лоб губами, ощутил ноздрями запах только что омытой невинной кожи. А потом дрожь омерзения сотрясла его тело, когда он бросил взгляд на Степана, обнаженного под накидкой, и невольно подумал о том, что с ними тут делают – и Сарбан с отвращением проклял эти образы. Такова была реальность паренька, и священник, не сдерживая слез, наклонился и обнял его.
– Господин… я… – Степан умолк и сам обнял мужчину, испуганно озираясь по сторонам.
– Степан, я хочу, чтобы ты мне помог, – сказал Сарбан. – Ты сможешь?
Тот не кивнул, не пожал плечами – он ждал. Вероятно, подумал Сарбан, многие просили его помочь им (на свой лад), и столь же вероятно, что он многим помог (означенным образом).
– Ты не должен ничего делать, – сказал он. – Просто поговори со мной. Ладно?
– Ладно, – сказал малец.
– Здесь есть другие мальчики? Такие, как ты?
– Да, есть несколько, но нас держат в разных комнатах.
– Вы часто видитесь?
– Не-а, не очень. Изредка, если Папук куда-нибудь уходит. А когда он спит, мы иной раз выходим в коридор, чтобы поговорить.
– О чем вы говорите, когда видитесь?
– О тех, кто сюда приходит. Ну… только о них, получается. А-а, еще Альбит придумал игру. В нее мы тоже играем, да.
– Степан, я хочу, чтобы ты мне помог, хорошо? Пообещай, что не будешь мне врать и расскажешь все, что знаешь.
Парень кивнул, и Сарбан улыбнулся.
– Независимо от того, лжешь ты или говоришь правду, я все равно тебя однажды отсюда вытащу, понимаешь? Тебя, Альбита и остальных. Надо только потерпеть. Короче говоря, я в любом случае тебя спасу, но знай: если сейчас ты скажешь правду, это случится быстрее.
Степан улыбнулся.
– Скажи, бывало такое, чтобы у Папука пропадали какие-нибудь люди?
Степан нахмурился – видимо, как следует задумался. Время от времени его взгляд перебегал в угол комнаты, задерживался там на некоторое время, а потом возвращался.
– Ну, кто-то уходит, кто-то приходит. Но я не знаю, куда они деваются.
– Ничего, все хорошо. До тебя доходят какие-то известия снаружи?
– Ну, случается. Есть один парень, он сюда захаживает. Он не делает нам больно и время от времени приносит сладости. Он рассказывает, что происходит в городе.
– Он молодой?
– Да.
– Говоришь, он ни разу тебе не навредил?
– Угу.
– Знаешь, как его зовут?
– Картен, но больше ничего не знаю. Да, Картен.
– Картен… – повторил Сарбан. – Степан, послушай. Ты когда-нибудь слышал о таких, как ты… которых… убили?
Взгляд Степана опять перебежал в темный угол и на этот раз не сразу вернулся к лицу священника. Всего на несколько мгновений задержался, чуть дольше, чем следовало, но этого как раз хватило, чтобы вызвать у Сарбана подозрения и заставить непроизвольно повернуть голову, взглянуть туда же. В углу мерцал огонек. Сарбан протянул руку, ткнул пальцем: пусто. Он осознал, что все это время за ними наблюдали через отверстие в стене.
Сарбан вскочил и испуганно огляделся. Сделал два шага к двери, но не успел ее открыть, как два бравых молодца схватили его и прижали. Позади них Сарбан увидел Папука. Стук деревянных ног по полу приблизился, а потом короткое и острое лезвие обожгло ребра. Папук выпростал окровавленную руку из-под одежды священника и прошептал ему на ухо:
– Мы не любим доносчиков, биварец, и еще не любим тех, кто сует нос в чужие дела.
Другой мужчина шагнул вперед и ударил Степана, потом задернул занавеску. Он выгнал всех и остался с парнем наедине.
– Что… что вы с ним сделаете? – запротестовал Сарбан, но за каждый звук приходилось платить болью, и он, запнувшись, упал.
Его опять схватили и потащили куда-то наверх, сквозь густой от перегара и дыма воздух, сквозь смех и харканье, разврат и бред, а потом швырнули в чулан в дальней части кабака. Там, во тьме, его начали бить, орудуя руками и ногами. Боль рождалась от соприкосновения с кулаками и башмаками, вгрызалась все глубже в измученное тело, стремясь проникнуть до мозга костей. Казалось, они целенаправленно били по свежей ране между ребрами, которую нанес Папук; но досталось и лицу, они хотели его пометить, чтобы опухшая физиономия бросалась в глаза в любой пивнушке и корчме.
– Кто ты на самом деле, биварец? – прошипел кто-то сквозь зубы, беспощадно нанося удар за ударом. – Ты нам солгал? Что ты задумал?
Но Сарбан молчал и сжимался все сильнее, пытаясь раствориться в себе. В конце концов даже тупая боль удалилась куда-то за пределы его тела и рассеянно за ним наблюдала. Он провалился в иную тьму, свою собственную, сотканную из сломанных костей и разорванных мышц.
– Чего тебе надо, биварец? – не унимались мучители и продолжали бить.
Затем Сарбан почувствовал, как его подняли, услышал, как открылась дверь, ощутил ночной холод и вспомнил, что он человек, причем живой – это было последнее оружие, что осталось в его распоряжении, – и начал бороться. Он почувствовал, как его вышвырнули, и несколько раз увидел небо, пока кубарем катился сквозь кусты за стеной. Очутившись в канаве, опоясывающей город, разок открыл глаза, вдохнул затхлую вонь тины и погрузился в беспамятство.
Когда он очнулся, было уже светло. Собака нюхала его волосы, слизывала с лица засохшую кровь. Священник хотел вскочить на ноги, но от боли рухнул обратно в канаву. Он помнил все. Закрыл глаза, замер; собака продолжила его лизать.
– Господин, вы в порядке? – спросил кто-то.
Сарбан попытался перевернуться на спину, мальчик его услышал.
– Мне позвать папу? – спросил этот миловидный ребенок, крестьянский сын с какого-то окрестного хутора.
– Нет-нет, – сказал Сарбан и протянул руки.
Малец помог ему подняться; обиженная псина убежала.
– Вы оттуда упали? – спросил мальчик, указывая на высокую стену.
Сарбан кивнул.
– Вы там работали?
– В смысле? – священник попытался отряхнуть одежду.
– Ну, вы стражник со стены?
– А-а. Да.
– Я тоже хочу стать стражником, когда вырасту! Буду глядеть оттуда сверху – ух ты! – в далекие дали.
Сарбан пригляделся к постреленку. За ним, в некотором отдалении, собрались другие дети.
– В далеких далях нет ничего интересного, малыш, – сказал Сарбан и выпрямился, застонав от боли.
– А-а, – мальчик потупил голову, потом робко прибавил: – Мы тут грибы собираем.
Сарбан тотчас же пожалел, что разочаровал его, но времени на такие мысли не было – он должен был собраться и побыстрее придумать, как незаметно вернуться в Альрауну через ворота. Он посмотрел наверх: если не знать, что там, в городской стене, у Папука есть потайная дверь, хорошо обделанная камнем и скрытая от посторонних глаз густыми зарослями тростника, то ничего и не увидишь. Итак, подумал священник, кто угодно мог войти или выйти незамеченным через стены Инфими. Сколько еще таких дверей тихонько открывали путь на равнину, сколько людей вошло и вышло, крадучись, уподобившись невидимкам? Сколько Ничто существует в этом Мире?
– И что вы делаете с грибами? – спросил Сарбан.
– Отвозим на той телеге в Прими.
Сарбан увидел телегу и улыбнулся разбитыми губами.
– Как тебя звать?
– Али, господин.
– Хочешь поиграть, Али?
При слове «поиграть» псина повернулась к ним с надеждой. Али кивнул, и Сарбан обрадованно перевел дух.
Мариса заперла дверь и, склонившись над Сарбаном, то промывала его рану, то целовала ее. Девушка расплакалась, когда увидела его таким избитым, а он едва не упал с крыши на улицу, когда спускался с платформы, поскольку кости все еще ныли, кожу жгло, а мышцы не слушались.
– От тебя странно пахнет, – сказала она, обнимая его.
– Грибами, – ответил священник.
Тогда-то Мариса и начала лить слезы. Раздела его, уложила на кровать. Прошлась кончиками пальцев по всему телу, проверяя, очищая, исцеляя.
– А ты в этом разбираешься, – сказал Сарбан, и Мариса поведала ему, что все девушки в заведении Мадамы умеют лечить раны.
– Пришлось научиться, – проговорила она. – Нужда заставила.
Она попыталась выяснить, что случилось, но Сарбан был скуп на слова из-за боли и досады.
– Опять искал его по кабакам?
Священник кивнул. И все. Но Мариса поняла.
– Хоть что-нибудь узнал?
Священник покачал головой. И все. Но Мариса поняла. Она поцеловала его в лоб и погладила по волосам.
– Мы найдем его, – пообещала девушка.
Сарбан посмотрел на нее, и его взгляд в тот момент выражал все слова мира, еще никем не изреченные, никогда и нигде.
Встав с постели, Сарбан изумился тому, как мастерски над ним поработала Мариса. Конечно, синяки на теле посрамляли все усилия, но разбитую губу она промыла и смазала медом с календулой, к глазу приложила примочку с цветочным отваром, и священник теперь мог выкрутиться из неловкой ситуации без особого труда, заявив, что споткнулся на лестнице, спускаясь в подвал, – никто бы не усомнился в его словах.
– Спасибо.
– Теперь тебе нужно отдохнуть, – сказала Мариса и подтолкнула его к потайной двери, за которой был крошечный чулан, достаточный ровно для того, чтобы прилечь там, свернувшись калачиком. – Поспи несколько часов! Сон помогает – соединяет то, что нужно соединить, и разъединяет то, что нужно разъединить.
– Откуда ты знаешь?
– Оттуда.
– Ждешь клиента?
– Да, есть кое-кто, – ответила Мариса.
Сарбан потупил голову.
– Давай, ложись – и чтоб ни звука, пока я тебя не выпущу.
– Могу я тебя еще кое о чем попросить?
– Проси о чем угодно.
– Пожалуйста, нанеси румяна и помаду. И накрась глаза.
Мариса улыбнулась. Она знала.
– Ладно. А теперь ложись.
Сарбан поступил, как велели, и попытался заснуть. Не вышло: он постоянно чувствовал, что в чулане есть кто-то еще, напирает сзади, дышит в затылок. Он насчитал девять сеансов с семью клиентами. Когда много часов спустя Мариса открыла дверцу чулана, Сарбан притворился спящим. Мариса вытирала краску с лица.
– Я по тебе скучала, – сказала девушка.
«Я тоже, – подумал Сарбан. – Я тоже».
Но забыл сказать об этом вслух.
Пучок из крыс все еще маячил перед глазами Лили, когда она вышла за ворота и наткнулась на Непомука с мешком на спине. Парнишка уронил его на землю и уставился на нее. Этим утром Лили выглядела бледной, ни следа свежести на лице.
– Ты похожа на Иссохшую Святую, – сказал Непомук.
– Чтоб ты знал, это совсем не смешно.
– В смысле? – нахмурился парнишка.
– Да как ты вообще до такого додумался?
– До чего?
– Ты ревнуешь!
– Э-э?
– Да, ты завидуешь, что кто-то другой оставляет мне подарки, а ты, сопляк, можешь только… таскать туда-сюда отцовские мешки!
Парнишка ничего не сказал. Он покраснел (от волнения, от стыда?) и закинул мешок на правое плечо. Повернулся к ней спиной и ушел.
– Ради собственного блага сними эту дрянь с дерева, пока я не вернусь из школы, потому что, если папа увидит, я ему скажу! Я все расскажу! – крикнула Лили ему вслед.
Но Непомук, даром что был взволнован, не испугался. Знай себе шагал и в конце концов скрылся из вида за кустами. Лили еще раз взглянула на дерево, пытаясь разглядеть среди листвы комок падали, однако снизу ничего не было видно. Она закрыла глаза, вспомнила голодную муху и содрогнулась. Вышла за ворота, не зная, что в это же самое время Непомук вернулся из-за кустов, вскарабкался на дерево и, дрожа от омерзения, отвязал от ветки крысиный пучок, в котором уже обустраивались с комфортом незримые черви.
За воротами Лили, помня о том, что ее никто не должен заметить, прокралась к дереву с дуплом и притаилась позади ствола. Сунула руку в дыру, пошарила: вот оно! Спрятала склянку в сумку и со вздохом облегчения поспешила в школу. Лили шагала по улицам центрального округа Альрауны, на шее у нее был шарф, на уме – дохлые крысы; она торопливо здоровалась с мэтрэгунцами и мэтрэгунками, косилась на двери кондитерских, откуда взрывными волнами лился ванильный аромат. Она размышляла про Аламбика и снадобье. Все к лучшему: можно тайком намазаться в школе. Дома слишком опасно, тетушка Валерия наверняка учует и непременно пристанет с вопросами, что это, откуда и, главное, для чего. Лили так и не научилась противостоять старухе с ее пронзительным взглядом, въедливым тоном, неизменно всезнающим видом – древней, как первые шаги Тапала. Ей удавалось лгать Томасу или что-нибудь от него скрывать, но от тетушки Валерии не было спасения. Лили подумала: чем сильнее кого-то любишь, тем больше ты пред этим человеком обнажен (тут она вновь вообразила себя голой и обрадовалась, что хотя бы Аламбик был свидетелем ее наготы), а ее любовь к тетушке Валерии была сильнее, бесконечно сильнее. Она пообещала себе, что когда-нибудь все ей расскажет. Не успев толком додумать эту мысль, Лили ступила на школьный двор и влилась в толпу юнцов и юниц, которые лениво плелись в классы, подгоняемые колокольчиками наставников.
Лили, однако, задержалась в уборной, заперла дверь на крючок и достала снадобье из сумки. Поднесла к носу, понюхала. Налила несколько капель на ладонь и сунула руку под одежду. Массировала грудь несколько минут, пока мазь не впиталась в кожу, потом ополоснула руки и вышла. В классе тотчас же увидела, что одноклассники собрались вокруг госпожи Пассы, и сама подошла к наставнице. Кто-то плакал, кто-то смеялся; воздух был затхлый. Она открыла окно, и шум со двора хлынул в комнату, переливаясь через подоконник.
– Лили, – раздался голос госпожи Пассы, – закрой окно, пожалуйста. Всем сесть за парты!
Госпожа Пасса была бледна, под ее глазами залегли тени. Даже волосы не были уложены как обычно, а падали на плечи, от чего наставница казалась незнакомкой.
– Ну же, всем за парты! – повторила она. – Быстрее!
Ребята расселись по местам, и Лили наконец-то увидела два пустых стула. Не успела госпожа Пасса сказать что-то еще, она уже поняла…
– Еще один случай… недуга, – проговорила наставница, и весь класс начал шептаться, удивленный и испуганный, и имя «Ариетта» порхало над партами.
Ариетта, большегрудая Ариетта, подумала Лили, закусив губу. Она уставилась в пустоту. Сперва Клара, потом Ариетта…
– Госпожа? – спросил кто-то сзади.
– Да?
– Госпожа… – продолжил мальчик, вставая. – Этим болеют только девочки, верно?
Мальчики захихикали, зажимая рты руками, но суровый взгляд госпожи Пассы вынудил их выпрямить спины, стер дурацкие ухмылки с физиономий.
– Я не знаю. До сих пор было так, да. Но мы многого не знаем. Господин Кунрат о них заботится, а он учился при Дворе, так что надежды наши велики. А пока, дорогие дети, я прошу вас помочь городу и сообщить родителям, если вы услышите, увидите или почувствуете что-нибудь необычное, что бы это ни было.
Ученики ощутили ее тон как холодное прикосновение к коже и покорились.
– Если кому-то нехорошо, пусть сразу скажет. Не надо ждать и бояться. Мы друг друга поняли?
– Да, госпожа, – ответили они хором.
– А теперь… родители Клары попросили, чтобы некоторые из вас… на самом деле, речь о девочках, у меня и список есть… ее навестили. Может быть… это поможет. Мы отложим сегодняшние уроки на другой день и отправимся к Кларе. А остальные пойдут домой, исключительно домой, это не обсуждается.
– Но, госпожа… – раздались по углам класса недовольные голоса.
– Ничего не желаю слышать! Со мной пойдут следующие девочки… – последнее слово наставница произнесла с особым чувством, окинув взглядом мальчишек.
Через несколько минут они выстроились за госпожой Пассой. Пересекли Пьяца-Маре, прошли сквозь тень зала Анелиды («Госпожа Пасса, а почему он называется „залом Анелиды“? Госпожа? Госпожа Пасса?..»). Они миновали прилавок с шелками, и Лили, высматривая место, где до недавнего времени висел ее алый шарфик, встретилась взглядом с торговкой, которая заговорщически ей улыбнулась. Лили остановилась, покинула процессию и сделала шаг к женщине за прилавком, глядя на нее вопросительно, однако торговка притворилась, будто ничего не замечает. Лили с кривой улыбкой пожала плечами, посмотрела на одноклассниц, которые почти затерялись в толпе, потом на торговку, вновь на девочек – их уже не было видно – и, тяжело вздохнув, побежала следом за ними к булочной.
Дом и лавка Гундиша были открыты; несколько сгорбившихся ребят месили тесто длинными палками, горел огонь в печах, куда что-то заталкивали садниками, и кто-то где-то неразборчиво кричал. С порога пекарни никто бы и не понял, что на дом пало некое проклятие, ведь жизнь, судя по всему, продолжалась как обычно. Гости вошли через маленькую дверь позади печей и поднялись по ступенькам на второй этаж. Госпожа Гундиш вышла в переднюю, теребя в руках мокрую тряпку, глаза у нее покраснели от слез – так выглядит любая мать, проведшая бессонную ночь у постели спящей дочери. При виде девочек она опять расплакалась, но по щекам пробежало по одной слезинке из каждого глаза, да и только. Она заставила себя улыбнуться и вытерла их тыльной стороной правой ладони.
– Заходите, девочки, заходите, – проговорила она и взмахом руки пригласила их внутрь.
Комната уже не походила на девичью спальню: вокруг кровати вместо занавески висела огромная простыня; воздух потяжелел, пропитался едкой вонью уксуса и какими-то другими неприятными запахами; свет едва просачивался сквозь плотные шторы на окнах; в брюхе маленькой печки полыхал огонь такой силы, что казалось, ее вот-вот разорвет, – если снаружи царила влажная, летняя духота, то внутри и вовсе был не'Мир. Госпожа Гундиш откинула занавеску из простыни и пригласила девочек приблизиться. Наставница осталась в дверях. Юницы шагнули вперед, остановились. Клара лежала на кровати, укрытая одеялом до подбородка, на голове у нее был колпак, с которого свисали кожаные мешочки, а на лбу покоился красный камешек размером с фасолину.
Девочки сели, прислушались к ее дыханию. Ужас подкрадывался неторопливо, шажок за шажочком, и в конце концов объял каждую без остатка. Любая, думала каждая, погрузившись в собственную бездну, любая могла стать следующей жертвой. Клара дышала быстрее, чем гостьи, и ее глаза время от времени подергивались под веками, блуждая во тьме.
– Она нас слышит? – спросила одна из девочек.
– Не знаю, – вздохнула госпожа Гундиш позади них, а госпожа Пасса подошла и положила женщине руки на плечи.
– Клара, – сказала Лили. – Клара, мы здесь.
Внезапно она ощутила тяжесть в груди, комок в горле, и слеза затрепетала на ресницах.
– Вернись, мы же тебя ждем, – продолжила Лили, но в животе проснулась сосущая пустота, когда она поняла, что сказала все эти слова, внезапно показавшиеся чужими, не потому что тоскует по Кларе, а потому что боялась – боялась, что Клара никогда не вернется, и Ариетта останется там же, но, что самое ужасное, она и сама с ними встретится там, где бы ни находилось это загадочное «там».
Лили заметила на прикроватной тумбочке записку, перечень, написанный четким почерком Аламбика. Вспомнила про снадобье и склонила голову, принюхиваясь. Тайком прочитала список и узнала лекарственные средства, которые придавали Кларе такой странный, нечеловеческий вид: колпак с кожаными мешочками и рубин на лбу, из-за которых она выглядела принесенной в жертву нездешним святым.
– Ой-ой! – воскликнула Лили, указывая на Клару.
Девочки вздрогнули. Обе женщины приблизились. Над бедрами спящей на одеяле проступило красное пятно. Госпожа Гундиш, поддавшись животному инстинкту, оттолкнула девочек и отдернула одеяло. Простыня была мокрая, красная; где-то между бедер Клары текли струйки крови. Женщина закричала, требуя воды, тряпок, быстрее, ну быстрее! Она в ужасе задрала ночную сорочку, и девочки отчетливо увидели, откуда льется. Госпожа Пасса вытолкнула их в переднюю, а оттуда на улицу, но каждая уже почувствовала, как жесткий коготь ковыряется в чреве, стремясь прорвать преграду, пустить кровь.
Той ночью Альрауну сковал холод. Оконные стекла запотели, время от времени кто-нибудь протирал их ладонью, и опять проступали звезды. Лили не знала о таком способе, не протягивала руки к окну, смотрела на небо сквозь мутное стекло; голая, с холодными ступнями, с затвердевшими сосками. Юница внимательно прислушивалась, не раздастся ли в коридоре, за запертой дверью, какой-нибудь звук. Томас Бунте спал. Лили знала, что никто и ничто ее не потревожит. Она окинула взглядом холодную темную комнату и вновь напрягла слух. Дом погрузился в сон, округ Прими спал во чреве Альрауны, миры пребывали внутри миров, вся вселенная погрузилась в дрему, Альрауна исчезла, и в этой пустоте юница увидела на миг – миг длиною в жизнь – обгорелого (другого, не Игнаца), который открыл дверь, и еще один обгорелый переступил порог, вошел в дом, полный обгорелых, и в одной из комнат, как знала Лили, ждал и ее обгорелый.
Город вернулся: восстал из небытия кирпич за кирпичом, и даже холод как будто ослабел. Лили слушала, как скрипят деревянные части дома, в котором каждая балка ощутила жар ее тела, и комната вокруг нее расширялась. Юница устроилась в постели поудобнее, укрылась с головой одеялом. Зажмурилась – тьма снаружи стала тьмой внутри – и заснула. Кто знает, что еще могло случиться той ночью, холоднее прочих ночей, в других домах Альрауны? Кто знает, сколько еще юниц проснулись во тьме, ощутив что-то под одеялом? Сколько невинных горожанок отбросили одеяла и узрели там крысолюдов? Мы не знаем, но знаем, что Лили не вскрикнула и даже не заметалась, а в безмолвном ужасе уставилась на крысолюда, который смотрел на нее большими, черными, идеально круглыми глазами.
Наступило утро, такое же будничное, как предыдущие, и застало Лили в постели, голую и разгоряченную, ничего не помнящую о минувшей ночи и о странном сне. Лишь еще влажная простыня заставила ее нахмуриться, а воспоминание о крови Клары Гундиш – испытать краткую дрожь от страха и отвращения. Лили встала, подошла к зеркалу и окинула взглядом свое обнаженное тело. Грудь еще не созрела, зрелище было столь же унылое, как и накануне. Она достала склянку из тайника на дне выдвижного ящика, понюхала снадобье: ничего, испарилось до последней капли. Она бросила склянку в корзину для белья и быстро оделась. На кухне посвистывали кастрюли, в гостиной стояла тишина. Томас читал газету и потягивал кофе.
– Доброе утро, – сказала Лили.
Отец улыбнулся и сложил газету.
– Как спалось? – спросил он.
– Вроде неплохо. Было немного холодно.
– Холодно? Ну что ты, Лилиан. Тебе приснилось.
– Да, наверное… это не важно, – быстро сказала она и потянулась к газете.
Томас быстро схватил ее и, глядя дочери в глаза, сказал:
– Не надо читать за столом.
Лили со вздохом принялась намазывать масло на хлеб.
– Лилиан, сегодня ты идешь в школу, потому что госпожа Лейбер проводит контрольную по географии, но с завтрашнего дня останешься на несколько дней дома.
– Что, прости?
– Это же не проблема, верно? Ты все равно будешь делать уроки. Я поговорю с классными дамами и сообщу им свое решение. Я буду относить твою домашнюю работу и приносить новые задания на дом.
– Но, папа…
– Конечно, – перебил мужчина, – ты сможешь принимать гостей, но я считаю, что для тебя будет лучше остаться дома хотя бы на несколько дней.
– Что-то еще случилось? – спросила Лили.
– Девочки до сих пор не проснулись и… да, похоже, заснула еще одна.
– По-твоему, если я буду сидеть под замком, то ничего обо всем этом не узнаю?
– Лилиан, я просто пытаюсь спасти тебя от всего этого безумия. Сама понимаешь, ты ведь уже разбираешься в людях – мэтрэгунцы несут всякую чушь, Альрауна полнится слухами, и они могут навредить твоему…
– Но, папа, я не понимаю, как…
– Лилиан! Разговор окончен! Я пришлю кого-нибудь в два часа, чтобы забрал тебя из школы и отвел домой. А теперь иди и приготовься.
– С вами все в порядке, Сарбан? – спросили его, когда он вошел.
Священник улыбнулся и сказал, что ему стоило быть внимательнее к мирским вещам.
– Я спускался в подвал, ударился лицом о притолоку и упал с лестницы, – сказал он и попытался честно рассмеяться, насколько это было в его силах.
Несомненно, обман удался, потому что губа потихоньку заживала, благодаря трудам Марисы повреждения были почти невидимы, и лишь синяк под глазом продолжал ныть. Никто, кроме него и Марисы, не знал о ране между ребрами, от которой тело на каждом шагу пронзала боль и несколько раз в день перехватывало дыхание – Сарбан легко маскировал эти муки под страдания и тревогу из-за происходящего в Альрауне.
– На данный момент, – начал один из членов Городского совета, – этот… недуг… не распространился за пределы Прими. Мы не сомневаемся, что ни один ребенок в Медии не пострадал, но что касается Инфими – тут, конечно, полной уверенности быть не может.
Второй день подряд Городской совет встречался с Советом старейшин на таких необычных собраниях; на этот раз Сарбан стал особым гостем. Им принесли горячий шоколад, кофе, пирожки с перепелиным мясом, много воды, но никто не притрагивался к еде и питью. Они сидели за большим круглым столом в зале Анелиды, с его огромными окнами и потолком, покрывшимся патиной от благовоний и табачного дыма; часы громко отсчитывали секунды. Сарбан старался дышать неглубоко; каждый раз, тревожа ребра, он вспоминал о бессонных ночах и непрожитых жизнях.
Пред ними лежал печальный, зловещий список: имена девушек были уже не человеческими именами, а прозваниями загадочной болезни; того, что необходимо искоренить.
– Башня предлагает, – сказал молодой человек с изящными усиками, – увеличить численность ночных патрулей, чтобы в эти смутные времена они обходили и Инфими. Разумеется, если Городской совет разрешит.
Совет согласился, как будто в мыслях и намерениях все его члены были едины.
– Вот как мы поступим, – продолжил молодой человек. – Позаботимся о том, чтобы постучаться в каждую дверь, даже ту, которая не выходит на улицу, чтобы проверить, все ли в доме в порядке.
После паузы он прибавил:
– А что делать с Бурта-Вачий?
Один из членов Городского совета покачал головой.
– Бурта всегда заботилась о себе самостоятельно, – проговорил он. – Более того, мы должны избегать паники. Люди могут убежать, а если это и впрямь болезнь… кто знает, когда она проявится?
– Верно, – согласились иссохшие старцы. – Все должны остаться в Прими, хотим мы того или нет.
– Вы с городскими лекарями уже говорили? С Кунратом, Маурусом, целителями из Инфими, из трущоб? – спросил Сарбан, гадая, зачем его сюда пригласили.
– Целители из Инфими нам не нужны, – резким тоном ответил один из членов Городского совета. – Достаточно одного целителя из Прими!
Кто-то рассмеялся. Все поняли, на кого он намекает: на Аламбика.
– Наш апофикар очень старается – у него, конечно, самые благие намерения.
Раздались шепоты. Мужчина продолжил свою мысль.
– Маурус не желает вмешиваться, пока не узнает, что зараза прошла через стены и попала в Медии. Кунрат – единственный, кто помогает от души, кто навестил и осмотрел девушек, прислушался к нашим бедам. Теперь нужно подождать. Городской совет полностью доверяет Альгору Кунрату, который решил отправиться ко Двору, чтобы посоветоваться с тамошними медицинскими сообществами. До той поры, пока Кунрат на нашей стороне, мы не нуждаемся в знахарках и прочих шарлатанах. У нас и так с ними проблем выше крыши. На данный момент вопрос касается только округа Прими, и мы ценим помощь мастера Альгора Кунрата.
– Мэтрэгунцы этого не забудут, – благодарно закивали старцы, а члены Городского совета последовали их примеру.
Сарбан чуть не рассмеялся, но рана между ребрами разверзлась вопящей пастью, обнажая влажное нутро, и священник едва не упал со стула. Мэтрэгунцы забывают, сказал он самому себе, забывать у них получается лучше всего. Откашлялся и окинул взглядом собравшихся. Один из старейшин сказал:
– Дорогой Сарбан, тебя сюда сегодня пригласили, чтобы посоветоваться относительно помощи, которую Прими и, в частности, церковь предложила бедолаге Игнацу, так нуждавшемуся в нас и принятому с распростертыми объятиями в минуту страданий. Теперь, как видишь, страдает Прими, причем ужасно страдает. Ты и сам прекрасно знаешь, что не все в городе были согласны с этим нашим… а точнее твоим усыновлением. Совет старейшин осознал необходимость творить добро и защитил интересы Игнаца. Но в то же время Совет старейшин оберегал тебя от самых резких слов, брошенных в адрес Игнаца теми, кто не желает, чтобы он жил в городе. Тебе следует знать, что эти слова умножились в последние дни и недели из-за беды, что свалилась на наши головы, и люди теперь все чаще вспоминают про Игнаца.
Священник вздохнул и выпрямился с лицом, искаженным от боли.
– Знаешь, Сарбан… люди все твердят, будто что-то услышали, увидели, наяву или во сне…
– Во сне? – перебил Сарбан. – Сон остается сном, нет в нем ничего…
Старейшина вскинул руку.
– Сейчас говорим мы, дорогой Сарбан.
Священник опустил глаза и извинился.
– Скажем тебе без обиняков, Сарбан. Многие мэтрэгунцы, включая некоторых важных персон из Медии, настойчиво просят нас принять решение, позволяющее Игнацу уйти.
– Но Игнац не хочет уходить, – сказал Сарбан.
– Сейчас говорим мы! – рявкнул старейшина, но тотчас же взял себя в руки. – Чужаки изрядно навредили Альрауне, Сарбан, ты же сам знаешь эти грустные истории, – а мэтрэгунцы, как всем известно, ничего не забывают.
Сарбан мысленно выругался; рана на боку ядовито ухмыльнулась.
– Игнац здоров, – сказал старейшина. – Ему пора.
– Но…
– Люди боятся, Сарбан! Мы не знаем, что это такое… не понимаем, что происходит. Кунрат старается, мы стараемся, знаем, что и ты из кожи вон лезешь. Но твои усилия должны включить и это. Пусть люди увидят.
– А если выяснится, что это болезнь и ее можно лечить? – спросил священник.
– Тогда, быть может, люди забудут. Будем надеяться.
«Можно подумать, они уже не забыли», – подумал Сарбан.
– Мы тоже не хотим его изгонять. Но грядут тяжкие дни, такова истина, и каждый из нас увидит, какая судьба ему предопределена. Я не прошу тебя принять решение сегодня, завтра или на следующей неделе, однако оно должно быть принято.
Вмешался член Городского совета.
– Мастер Сарбан, – жестким тоном проговорил этот солидный мужчина, – твой Игнац, он же вылечился?
– Вылечился, – подтвердил Сарбан.
– Он может позаботиться о себе?
– Может.
– Тогда что его удерживает?
– Мы! – вырвалось у Сарбана.
– В каком смысле, дорогой Сарбан? – спросил старик. – Как мы его удерживаем? Ты не понял ничего из моих…
– Его появление было предсказано, – сказал Сарбан, потупившись, усомнившись, и слова покидали его уста мертворожденными. – Безумный священник его предсказал…
Стало тихо. Мужчины откинулись на высокие спинки своих кресел.
– Мастер Сарбан, что заставляет вас говорить такое?
Священник не был убежден, что наступил самый подходящий момент для откровений, но точно знал, что Игнац должен остаться хотя бы на некоторое время, ведь он еще не готов, он… Игнац не мог уйти прямо сейчас.
– Я нашел рукопись, – сказал он и попытался перевести дух. Боль обожгла торс.
– Где?
– В доме. Под полом. Фрагменты последних месяцев его жизни. Это…
– Сочинения безумца, Сарбан! – взорвался один из членов Городского совета. – Ты же не знаешь, что с ним творилось. Это дело рук чокнутого! Тебя здесь не было, а то бы ты увидел, как он собрал в саду ведро червей и сжег посреди церкви, ты понятия не имеешь, какая стояла вонь! Ты не знаешь, что было, когда его вынесли из дома, какая там обнаружилась тошнотворная мерзость, и во всем виноват этот свихнувшийся человечий отброс. Черви, гвоздями прибитые! Сарбан, он помешался…
– Прошу прощения, – вмешался один из старейшин. – Дайте спросить! Сарбан, что написано в тех бумагах? Почему нас должны заботить слова бедного сумасшедшего священника?
Сарбан попытался выбраться из трясины, в которую сам себя завел. Все могло вот-вот рухнуть самым неожиданным образом, однако священник все еще надеялся на понимание со стороны Совета старейшин и Городского совета, быть может, по той единственной причине, что сам не слишком-то хорошо все понимал. Если все его усилия уходили корнями в необходимость отсрочить изгнание Игнаца, попытаться стоило, и он, устремив взгляд на собрание, принялся рассказывать, что обнаружил в рукописи безумного предшественника. Он поведал, как наткнулся на кучу листов, перевязанных красной веревкой, спрятанных под половицей; признался, что абзацы сами по себе как будто не имели смысла, но в совокупности пытались обрисовать контуры грядущей Альрауны. Его прервали всего однажды, когда один из членов Городского совета спросил, есть ли в бумагах что-нибудь про сон невинных дев, и Сарбану пришлось пожать плечами.
– Нет. Вроде бы нет. Если честно, не знаю.
Мужчины переглянулись, обмениваясь через стол невысказанными словами, как будто с сожалением задаваясь вопросом, что за проклятие постигло их город, в котором каждый священник, ступивший в церковь, сходит с ума. Сарбан уловил эти мысли, прочитал по их лицам, и сказал:
– Я не безумен. Я рассказываю лишь о том, что видел.
– Ну конечно, конечно, – прозвучало в ответ.
Затем Сарбан остановился на фрагменте, в котором смерть (чья?) приводит в город безликого святого, мужчину и женщину одновременно. Присутствующие, не сообразив, в чем дело, ждали продолжения.
– Это все? – спросили они.
– В общем-то, да.
– А там хоть где-то упомянута Альрауна?
– Нет.
– Мэтрэгунцы? Рэдэчини?
– Нет, – покачал головой Сарбан.
– Тогда с чего мы взяли, что это касается нас? Что все эти бредни чокнутого священника адресованы нам?
– Потому что… я думаю, что святой уже в городе.
– Мастер, ты несешь какую-то чушь. Мы бы про него узнали… он бы нам открылся, он бы… Вынуждены напомнить, что в этой истории мы сторона пострадавшая, и не слишком-то мудро священнику Прими говорить такую ерунду. Так что либо изъясняйся прямо, либо покинь это собрание немедленно и начинай готовить Игнаца к странствиям по Ступне Тапала. Мы тебе поможем с…
– Я думаю, что Игнац – безликий святой, – сказал Сарбан.
– Сарбан, – проговорил один из старейшин. – Сарбан, дружище. Ты же знаешь, нам твоя судьба не безразлична. Я тебя помню еще совсем крохой. Я видел, как ты покинул город, и пожелал тебе счастливого пути; я приветствовал тебя с распростертыми объятиями, когда ты вернулся. Сам знаешь, ветер молву разносит, и хорошую, и плохую, а из Бивары, невзирая на все беды, с тобой и про тебя пришли только славные вести. Про тебя там по-прежнему хорошо говорят, уважают твой труд и скучают по тебе. Как Совет старейшин, так и Городской совет знают, что ты хороший священник, мы в этом не сомневаемся. И следует признать… – тут говоривший отвел глаза, – …мы также ведаем, что Альрауне необходим новый святой, что мы отдалились от святости и блуждаем, нагие и одинокие, по пустыне бытия. Мы это знаем. Нам тоже от этого больно. И мы рады, что наше бремя тяготит и твою спину. Но, Сарбан… – старик наклонился, понизил голос, – …нельзя добиваться таких вещей любой ценой. По-твоему, как город воспримет весть о святом, предсказанном безумным священником? Некоторые до сих пор хранят легенду о втором пришествии святого Тауша и не так уж сильно доверяют святым. Особенно тем, кто не в силах как следует доказать свою святость.
– И действительно, – вмешался член Городского совета. – У тебя есть доказательства?
Сарбан опустил глаза и покачал головой.
– Нет.
– На чем же тогда основаны твои умозаключения?
– Игнац обгорел, достопочтенные, у него все тело обожжено, – сказал Сарбан. – Его лицо – комок неровной плоти, на котором ничего не различить; и тело его в своем уродстве сделалось таким же девственным и первозданным, так что с точки зрения стороннего наблюдателя он не мужчина и не женщина.
– Верно, – сказал член совета, – если говорить о постороннем, но ведь все знают, что Игнац – мужчина. Верно?
– Верно, – соврал Сарбан.
– Постороннему хватит взгляда, чтобы узреть истину, – заявил кто-то.
– Не все увиденное достойно доверия, – парировал Сарбан.
– Что ты пытаешься этим сказать, мастер Сарбан? Что нам следует разыграть перед мэтрэгунцами фарс? С такими вещами не шутят, особенно сейчас, в годину испытаний. Как ты вообще посмел…
– Я ничего подобного не говорил. Альрауне отчаянно необходим святой. Она всей своей сутью жаждет обрести пастыря. После того как истинный Тауш нас покинул, мэтрэгунцы попытались вообразить его сидящим на троне из корней в лесу на горе. Все дело в том, что он им нужен. Пепельные ученики поклоняются несуществующему святому, потому что он им нужен. Он нам всем нужен. Я лишь прошу еще немного времени. Давайте во всем разберемся, не позволим водить нас за нос, но и не отбросим то, что имеем, – если мы это имеем. Если Игнац – не тот святой, кого мы ждем, если он в это смутное время не дарует нам ни благодати, ни чудес, я подготовлю его к странствиям по Ступне Тапала. Но если окажется, что Игнац – тот самый святой, кого мы ждали столько веков, и мы его прогоним, боюсь, в Альрауне никогда не случится ничего хорошего, ибо Мир узнает землю бесплодную и будет ее избегать. А там, где нет Мира, может быть лишь одно: не'Мир.
– Ладно, – сказал один из старейшин. – Будет тебе время, но знай, что мы его даем скрепя сердце. С одним условием: тайный манускрипт безумного священника надлежит немедленно доставить в зал Анелиды и там запереть под строгим надзором Городского совета и Мощной Башни. Позже решим, как с ним поступить.
Сарбан тяжело вздохнул, и тело его было сплошной раной, полной гноя, едкого, словно издевка.
Многие ночи Вара была для него всем. Она одной рукой касалась заката, другой – рассвета; ее густые волосы превращались в облака над Ступней Тапала, и поскольку ее лик был таким огромным и таким близким к небесам, они его закрывали целиком. Лежа в постели, Сарбан смотрел в окно и искал впадинку над ее верхней губой, гадая, сколько там могло бы поместиться созвездий. Время от времени падающие звезды рассекали ее лицо от лба до подбородка, нижняя губа касалась горизонта; Сарбан ее видел и с закрытыми глазами – иногда по ночам, за окном, позади крыш Прими, вдалеке; Вара была всем. А потом священник просыпался от мучительного сна и наблюдал, как от лика Вары отрываются первые мгновения нового дня, проливаясь светом в хладную сонную комнату.
(В первые дни в Биваре, когда Сарбан прогуливался с приходским певчим по церковному двору, вокруг них бегали дети, кто в школу, кто из школы, и путь преградила юница – довольно тощая, но юркая. Сарбан из вежливости удалился и позволил певчему с ней поговорить. Прочитав в его взгляде невысказанный вопрос, певчий улыбнулся и сказал Сарбану:
– Это моя сестра. Ее зовут Вара.
Сарбан кивнул, и с того дня – Вара о том не знала, не ведала – она сделалась его частью. Он заключил ее внутри себя и никуда не отпускал. Когда певчий отправился по своим делам, Сарбан вернулся и поискал ее среди молодежи, но она ушла. И все-таки осталась.)
Мариса восседала на нем, как не'Святая сна, но не для того, чтобы высосать его жизнь, а для того, чтобы поделиться своей. Она целовала его губы и опухший глаз, она его ласкала, а Сарбан стонал от удовольствия, и рана между ребрами тоже блаженствовала. Мариса двигалась вверх и вниз по его пенису, как по лестнице в небо, унося скверну в облака, принося на землю чистоту. Она водила ладонями по его коже, тщательно избегая синяков, целовала подбородок и разбитые губы.
– Хорошо заживает, – прошептала она и ускорила ритм.
Сарбан застонал, и Мариса замерла.
– Тебе больно?
Сарбан указал на повязку на боку. Мариса слезла с него и погладила лишь кончик пениса влажными пальцами.
– Так лучше?
– Лучше.
Иногда он просил ее накраситься, а потом смотрел ей прямо в глаза и брал так, как священнику не положено. Переворачивал на живот и, словно Исконные у первого града, спускался в колодец, чтобы там затеряться в пучине безумия.
– Не сдерживай себя, – говорила Мариса, и он не сдерживал, изливался в колодец горячим и липким потоком, входил в нее все глубже, переходя из Мира в не'Мир и обратно.
Бывало, он просил ее снять макияж, а потом смотрел в окно, на небо, которое напоминало о ком-то другом.
В ночь после первой встречи с Варой Сарбан не спал; он едва дышал и мог поклясться, что сама земля застыла до зари, и никто, кроме него, об этом не ведал. Он ощущал себя посвященным в великие тайны человечества. Лишь благодаря ему мир пребывал на положенном месте. Он пообещал себе в тот момент и в том самом месте, ощущая, как бегут секунды, а земля все не движется, что Вара будет принадлежать ему, а он – ей, что она станет его женой и он состарится рядом с нею, не умрет от дряхлости раньше нее, чтобы она не мучилась в одиночестве. Он дал все эти обеты, пока бытие замерло и время было не временем, а промежутками между мгновениями; в тех промежутках Сарбан и схоронил обещания самому себе и Варе, о которых она не знала, не ведала.











