Читать онлайн 100 лет жизни. Истории ровесниц века, вдохновляющие жить полной жизнью
- Автор: Ольга Сафонова
- Жанр: Истории из жизни
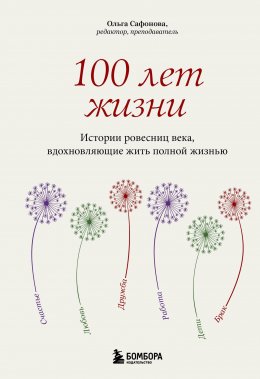
Книга для тех, кто привык откладывать жизнь на потом.
Предисловие Ольги Сафоновой
Был у меня трудный период, когда я перестала чувствовать вкус жизни. Одна нерешенная проблема, тяжелый разрыв отношений – и вот мне уже безразлично, какая погода за окном и что лежит на тарелке… Возможно, вам тоже знакомо такое состояние: один день сменяется другим, но вы проживаете их не на полную мощность, а как бы спустя рукава, пока настоящая жизнь проходит мимо.
У меня это длилось около года. В какой-то момент я поняла, что не справляюсь в одиночку, и обратилась за помощью к психологу.
Мы встречались два раза в неделю, и терапия быстро возвращала мне позитивный настрой с помощью бесед и гипноза.
Но особенно запомнился один простой тест: на листке бумаги нужно было обозначить отрезок, символизирующий протяженность моей жизни, а затем поставить на нем точку, в которой я, по ощущениям, нахожусь прямо сейчас.
Отлично помню, как отметила примерно треть пройденного пути… В том и крылся подвох! В какой бы точке отрезка ни были, мы понятия не имеем, на каком этапе сейчас находимся. Может быть, на последнем.
Это касается не только нас самих, но и наших близких: родителей, бабушек, детей, друзей, любимого человека. Мне на тот момент было 34 года. И я даже не умножала эту цифру на три, когда ставила точку. То, что все еще впереди, было лишь внутренним ощущением человека, который привык все откладывать на потом.
Именно тогда я поняла, что у нас нет черновика, нет права проживать дни без осознания их важности. Никто не знает, сколько ему отмерено.
Не могу сказать, что мое существование сильно изменилось с тех пор. Я не прыгнула с парашютом, не совершила в одиночку кругосветное путешествие на парусной яхте, не нарисовала картину, не сняла фильм… Список можно продолжать еще долго.
Но я стала осмысленнее относиться ко времени, даже если раньше оно казалось мне совершенно обычным, ценить общение с дорогими людьми и не ото двигать на второй план заботу о здоровье, в том числе поход к стоматологу или элементарную зарядку по утрам.
Тем не менее внутри меня, как и у многих женщин, по-прежнему не прекращается борьба между любимым миндальным круассаном и красивой фигурой. Каждый понедельник я перехожу на здоровое питание и обещаю себе меньше тратить времени на бесполезные занятия вроде пролистывания новостной ленты в социальных сетях.
Но, если честно, я так до конца и не поняла, на что же нужно тратить это самое время? Что я буду вспоминать годы спустя?
Мы постоянно придумываем себе ограничения и терзаемся, если не следуем своим же правилам. Но нужны ли вообще правила, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь? Стоит ли отказывать себе в чем-то ради преимуществ в далекой перспективе?
К сожалению, я до сих пор не научилась жить в гармонии, не переживать из-за ерунды, не злиться, не обижаться, не растрачивать свою энергию и душевные силы на те события, которые не представляют для меня никакой ценности. Я сама по себе очень тревожный человек, и жизнь в мегаполисе не добавляет спокойствия.
Мы много работаем, мало спим и мало отдыхаем, а если и отдыхаем, то активно – в путешествиях. Мне, например, требуется дня три в отпуске, чтобы перестать каждые пять минут хвататься за телефон, побороть желание куда-то бежать и о чем-то думать, а вместо этого просто посидеть на берегу моря, помечтать, посмотреть вдаль и расслабиться.
Жизнь, отношения и переживания – все ускоряется. В итоге мы перегораем на работе и к 35 годам уже от всего устаем. Когда ты в постоянном напряжении, жизнь начинает утомлять, а каждый день похож на предыдущий.
В 2018 году, когда я начала собирать материалы для этой книги, мы жили в изобилии: вещей, еды, развлечений. Но в какой-то момент надоедает и изобилие. Помните, как у Лермонтова в «Герое нашего времени»: «…я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели».
Мне было важно найти ответы на свои вопросы, поговорить с людьми более опытными и мудрыми. Тогда я начала искать в Интернете статьи и книги о долгожительницах. Интересно, как и с каким настроением им удалось дожить до такого солидного возраста? О чем бабушки тревожатся сейчас и тревожатся ли вообще? Что чаще всего вспоминают? Что заставляет их вставать с кровати по утрам? Не устали ли они от жизни? Есть ли у них какие-то мечты? Я хотела найти людей, доживших до глубокой старости и не утративших способность радоваться жизни.
Меня интересовали именно бабушки, потому что в первую очередь занимали ответы на мои личные душевные переживания. Между тем попадались только отдельные истории, не содержавшие достаточно информации. Тогда и возникла идея: почему бы мне самой не встретиться с десятью бабушками и не оформить результаты бесед в книгу? Ведь если этими вопросами задавалась я, возможно, они покажутся интересными и кому-то еще.
Уже в процессе написания одна бабушка сказала мне: «Сейчас я живу как королева, у меня есть все. Но уже не осталось сил на то, чтобы воспользоваться этими благами».
Жизнь коротка, и даже если цифры говорят вам обратное, не верьте. Люди в столетнем возрасте, оглядываясь на прожитую жизнь, понимают, что даже у них она пролетела как один миг. Увы, многие так и не успевают почувствовать удовольствие, что она способна принести.
Эта книга не о здоровом образе жизни, в ней нет секретов долголетия. Она написана без претензий на оригинальность и философию. Но, конечно, я не могла не полюбопытствовать, как же бабушки дожили до своего возраста без тренингов по саморазвитию, пластики и накачанных губ, без консультаций диетологов и нутрициологов, тренажерного зала и достижений современной медицины.
Эта книга для тех, кто хочет перенять чужой опыт, оглянуться на свою жизнь и понять, что она у нас одна – другой не будет. У нас не так много времени на все задуманное. Пусть порой нам и кажется, что это не так.
Бабушка Валентина
РОДИЛАСЬ 22 ЯНВАРЯ 1922 ГОДА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ[1].
ЖИВЕТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Счастья большого не было.Знать дело и делать свое: и детей догляди, и хозяйство догляди, так ходишь, и ходишь, и ходишь…
Да, именно Красноярский край. Всего одна минута сомнений – с каким регионом связать мою героиню? – и я решительно записываю ее в сибирячки. Бабушка Валентина такая по рождению, по образу мышления, по своей сущности. И никакая Москва, где она прожила последние десять лет своей долгой жизни, не способна вытравить из нее этот особый таежный дух, в котором, как в дорогом парфюме, намешано множество редких ингредиентов: искренность чувств, чистота помыслов, крепость воли, мудрость простых истин, смиренность сердца.
С долгожительницей мы встречаемся в подмосковном частном доме престарелых в год ее столетия. Добираться туда по весеннему бездорожью – то еще удовольствие. Кругом плотный лес, вековые сосны – почти сибирская тайга. Тайга, да не та, для бабушки Валентины уж точно. Да и все тут для нее чужое, чуждое. Хотя, признаться, и вправду хорош здешний «санаторий» – так, чтобы не травмировать и без того хрупкую психику пожилых постояльцев, их родственники и персонал называют дом престарелых. Так и доживают свой век старики, словно в сказке, не ведая горькой правды. И бабушка Валентина – одна из них.
Маленькая, хрупкая, не по-сибирски изящная старушка с особым окающим говором. Во время нашего разговора долгожительница то путается в словах и воспоминаниях, повторяется, а то вдруг очень четко и последовательно формулирует свои мысли.
На мое предложение побеседовать о ее жизни Валентина сетует:
– Я теперь уж се [все. – Авт.] позабыла, мне не вспомнить. Из памяти выходит, а что спросите, может, отвечу.
И как же хорошо мы с ней говорим, несмотря на огрехи ее памяти!
– Родилась в Красноярском крае, в Абакане я жила. Жили мы вместе с родителями, там они и схоронены.
В ходе разговора выясняется, что все же не в самом Абакане родилась моя собеседница, а в Быскаре – была такая деревенька на юге Красноярского края, рядом с Хакасией, да, как говорится, сплыла. Причем в прямом смысле слова: в 1963–1966 годах ее вместе с другими населенными пунктами похоронили на дне Красноярского водохранилища. А заодно – более чем 200-летнюю историю этих заповедных мест, активное освоение которых началось еще при Петре I.
– На Енисее стояла деревня у нас, – уточняет бабушка. – Протоки были, и вот мы там жили. Ничего нам не мешало – жили и жили, жили и жили[2].
Местным жителям, может, ничего и не мешало, а вот индустриализаторам мелкие деревни и села тогда очень даже мешали претворять в жизнь планов громадье, поворачивая реки вспять.
– ГЭС как строили, так затопление было. Не одна наша деревня, а много деревень позатопило. Ну это известно же тебе? – спрашивает меня Валентина.
Да, дорогая бабушка Валя, моему поколению известно, что при строительстве Красноярской ГЭС с лица земли были стерты 132 населенных пункта и переселено порядка 60 тысяч жителей. Да и повесть Валентина Распутина «Прощание с Матерой» мы все читали в школе. И хотя тамошние события разворачиваются на реке Ангара при строительстве Братской ГЭС, в обоих случаях речь идет о трагедии. О тысячах личных трагедий, которые слились в одно безмерное человеческое горе.
К моменту затопления в Быскаре, как гласит Ин тернет, насчитывалось более сотни домов. Валентине, матери четырех сыновей, тогда было чуть больше 40.
– Переживали, что дом пришлось бросить?
– Дом наш оформили, увезли, нам заплатили за это се. Туда, на другое место, нас назначали, а потом разрешили, куда хочешь поезжай, – уже без эмоций, как-то буднично вспоминает дела минувших дней долгожительница. Видно, давно отболело.
Много ли помнят о детстве те, кто перешагнул столетний рубеж? По-всякому бывает. Одни, в основном почти потерявшие связь с действительностью, только детскими воспоминаниями и живут. Другие – каждый по своей причине – погружаются в далекое-предалекое прошлое редко, неглубоко, неохотно.
Разные мне попадались старожилы. Валентина, скорее всего, ближе ко вторым: не дала мне возможности представить ее детство в красках. А может, красок-то особых в нем и не было. Как и во всей ее жизни, прошедшей в бесконечных трудах. Жизнь как черно-белое кино. И это на таком-то фоне – сибирском, сочном, многоцветном!
– Что запомнилось из детства?
– Только сегодня вспоминала, где была и что делала. Как играла, бегала по горочкам, в родник спускалась, ягоду-черемуху рвала, ела, глубеницу[3] собирала. Никто за мной не следил. Это, может, мне было лет восемь-девять.
Валентина росла в многодетной семье. Причем большинство детей – отца, от первой жены, и все мальчишки. Во втором браке родились, похоже, она и еще одна девочка. Вот только моя собеседница так и не смогла точно ответить на вопрос, сколько братьев-сестер у нее было:
– Сильно много. У отца была семья, жена умерла, он женился на другой, я у них родилась. Се [все. – Авт.] мальчики были, а я девочка, меня жалели. Может, мама и поругает за что, теперь и не помню, а где поругает – проходило… Семья была большая, потом разъехались кто куда. С родителями я одна осталась.
Крестили ее или нет, моя героиня не знает, но скорее да:
– Тогда ходили по деревне церковные бабушки и крестили нас по-своему, по-деревенски.
А в родной деревне бабушки, Быскаре, храма не было:
– Нужно было ехать в район, там церква была. Помню, мама меня как-то возила в церкву килoметров за двенадцать.
Есть в воспоминаниях долгожительницы и другие намеки на то, что семья была верующая. И не скрытно, а явно верующая. По словам моей героини, в красном углу избы стояли иконы, сами они отмечали церковные праздники:
– Кажный праздничек мы знали: и Пасху, и Крещение. В основном, конечно, знала мама. И иконочка у нас была Божьей Матери, и Николай Угодник был.
И это несмотря на гонения, которые обрушились на церковь в 20-30-е годы. Но, возможно, религиозная история в Сибири писалась по-другому: там ведь все и всегда по-своему. Бабушка Валентина, по ее признанию, и своих детей крестила, для чего ездила в соседнее село. И тоже без опаски, открыто. А было это уже в 50-е годы, опять же не лучшее время для Русской православной церкви.
Быскарские дети, рожденные после революции, были грамотными: в 1917 году, гласит «Википедия», в деревне открылась школа и, судя по тому, что Валентина имеет только четыре класса образования, школа эта была начальная.
Про откровенно голодное детство долгожительница не упоминает ни разу. Зато с удовольствием рассказывает про домашнюю выпечку:
– Тогда хлеб не покупали, сами пекли. Сеяли, убирали, жали. Какое зернышко насобирают, на мельнице намелют. Из этой муки и стряпали хлеб, хороший был, вспоминается. Шаньги[4], пироги, булочки, калачики. Плит не было, в русской печке се [все. – Авт.] стряпали. Когда повзрослей стала, собирали черемуху, сушили ягоды и тоже мололи в муку, потом ее добавляли к обычной. Ну хоть немножко вы понимаете? Знаете?
Понимаем, бабушка Валентина, еще как понимаем. В наше время, когда продукты легко приобрести в супермаркетах, начинают возрождаться традиции домашнего хлебопечения. Именно сейчас, когда технологии шагнули далеко вперед, до нас начинает доходить важность качества продуктов и заботы о своем здоровье. Помимо этого, мы осознаем потребность выходить из цифрового мира, учиться делать что-то своими руками, сохранять культурное наследие.
Да, у нас нет русской печи, зато есть множество помощников на кухне – от хлебопечки до посудомойки. А мне до слез жалко бабушку и ее родителей: как же ловко в те непростые времена надо было вести хозяйство, чтобы и с голоду не умереть, и не прослыть куркулем!
По словам бабушки Валентины, они «единолишно жили»:
– Ни в колхозе, ни в совхозе, а сами по своей [себе. – Авт.]. Многие так жили: хозяйство свое держали, скот держали, и куриц, и уток, и гусей. Огород был большой, много земли было – хватало. Картошку садили в огороде у своем [в своем. – Авт.]. А еще землю отводили: там сеяли хлеб для себя, сено косили. Се управлялись, се делали, так единолишно вот жили[5].
Спрашиваю у бабушки про сахар, думая, что это предел мечтаний детворы начала прошлого века. Но, похоже, для детворы этого поколения сахар сам по себе не представлял особой ценности (может, как раз из-за своей недоступности?), в почете были другие сладости.
– Сахар? Не знаю, не видела. Но как дядька наш родной поедет в деревню или в Абакан, то привезет какое-то печенье, конфетки, прянички. Радовались мы им или нет, этого я уже не помню.
– А подруги у вас были?
– Сильно дружить некогда было… Ну были, были, свои были и чужие полдеревни. До войны много было подруг. Купаться ходили на Енисей, на протоку, и зимой туда ходили – баловались.
– Счастливое детство было?
– Для меня счастливое.
– А когда вы больше были счастливы: в детстве или в замужестве?
– А я не знаю, не помню… Се одинаково, однако, было.
– Может, когда дети родились, вы были счастливы?
– Какое там счастье, господи…
– Тяжело было?
– Сяко [всяко. – Авт.] было… Счастья большого не было. Знать дело и делать свое: и детей догляди, и хозяйство догляди, так ходишь, и ходишь, и ходишь…
И ведь у всего поколения, к которому принадлежит героиня, такие размытые представления о счастье. Да и не мерили, похоже, они свою жизнь этим аршином. Могу предположить, что в крестьянском обиходе слова «счастье» тогда и в помине не было. Нет времени – нет оценки своего состояния – нет слов, выражающих его. Не до поэтики было в те годы. Работа, хозяйство, дети – вот категории, которыми мыслили обычные крестьяне.
Великая Отечественная война с ее ужасами до центра Сибири не докатилась: здесь не бомбили, не стреляли, фашисты не топтали землю своими сапогами, местные жители не смотрели ежедневно смерти в лицо. Оттого воспоминания и эмоции об этой важной вехе в жизни страны у сибиряков сглажены. По большому счету война в памяти многих из них – это три эпизода: отправка здешних мужиков на фронт, ежедневный трудовой подвиг на протяжении четырех лет и, наконец, День Победы.
Вот как рассказывает о войне долгожительница:
– Когда началась война, шел мне уже двадцатый год. Помню, как забирали сех [всех. – Авт.] парней… У нас в деревне тихо было: ни стрельбы, ничего. Не было страху, только роботали и роботали. Меня до войны отправили на курсы учиться на заведующую яслями. В яслях были женщины пожилые, их убрали, а молоденьких учили. К молоденькой дитя пойдет лучше, а уж старая женщина не то уже. Я в яслях четыре года проработала: до войны и год в войну. И в колхозе. Везде, везде роботала – и за мужика, и за бабу. Трактор был, комбайн. Молотили, убирали урожай в войну… Помню, 9 мая 45-го мы в огороде садили, тогда как-то теплее было. Ну и сообщили в контору, что кончилась война, а они – сем [всем. – Авт.]. Рады, конечно, были, что се [все. – Авт.] кончилось.
Сибирь и правда особый мир. Таким он оставался и во время войны, только трудиться и без того работящим сибирякам приходилось еще больше – за себя и за того парня, ушедшего на фронт. А может, за десяток таких парней.
Разумеется, удаленность региона от центральной части страны влияет на все. И объясняется это и историей, и климатом, и культурными традициями. Сибиряки, например, обычно считаются более выносливыми и настойчивыми людьми. Что неудивительно, учитывая суровые зимы и обширные сибирские просторы. Жизнь в тяжелых погодных условиях, вдали от крупных городов, формирует уникальные качества характера: самостоятельность, умение приспосабливаться к переменам и сильную связь с природой. Это заметно и по моей героине.
Мужа Валентины звали Константином. И он был для нее по-настоящему суженым – судьбой. Иначе говоря, не выбирала она его.
– Пришел солдат с войны – наш, деревенскай парень, у него ни родителей, никого не было. А мы жили: мама, папа, я и еще сестренка. И он к нам прибился, мы его приняли. И вот мы жили с ним.
– Вы по любви замуж вышли?
– Не-а, любоф кака? Мы с детства се [все. – Авт.] вместе, и работали в колхозе до войны, друг друга знали… Любить… Ну, любоф не любоф, пришлось жить вместе. Ну любили, конечно, какой-то любовью… Что-то я не знала про любоф…
– Не знали, что это такое? – улыбаюсь я.
– Сошлись – и ладно, – смеется Валентина.
– Он ухаживал за вами, комплименты делал?
– Нет-нет, не было такого раньше. Детьми играли, бегали друг с другом, но чтобы там друг друга любили или хахалей[6] заводили – не было такого… И до войны не было, а в войну некогда было эту любоф догонять. Мне пару лошадей дали, хлеб чтобы возила. Сено косили, жали, хлеб убирали, снопы вязали, суслоны[7] ставили, сушили, а потом собирали, молотили… Вот так и шло, и шло, и шло.
– Вы считали себя красивой в молодости?
– Если была бы красивая, и сейчас была бы красивая. Ну, такая была… чучело. Как сейчас.
– Стройная были?
– Стройная, как кошка лазила везде.
– Может, спортом каким по молодости занимались?
– Какой спорт?! С утра и до самого вечера работали – вот тебе и спорт. Надо еще скотину накормить, напоить, теленочка доглядеть, почистить. Вот так ходишь, ходишь, ходишь, ходишь. Ну, конечно, не одна я по хозяйству хлопотала, ребятишки пособляли, да и сам, сам муж-то мой. Но он на роботе же, не буить [не будет. – Авт.] сидеть дома с хозяйством. Сначала трактористом был, а потом чабаном[8]: пасет там неделю, живет, а потом дома бывает. Помогал, но се больше сама я делала дела по дому.
– Сколько у вас с Константином детей?
– Четверо, се [все. – Авт.] мальчики, девочек нет. Вот я и переживаю, плохо мне. Была бы у меня доча, мне бы легче было.
– Легче в каком смысле?
– Ну так се равно девочка и есть девочка… ближе к маме. А мальчик и есть мальчик. Повзрослели они и уехали учиться. Институт один кончил, другие… Как это называется? Техникум, вот, кончили, а потом их по направлению отправляли куда надо… Дома-то не жили они, с нами не жили, как выросли.
– Вы строгой были матерью своим детям? Мальчишки же…
– Да, строгая, но не сильно строгая. Сильно их не обижала: обувала, одевала. Сильно плохого не было, ну потом они повзрослели, стали помогать мне.
Есть еще несколько отрывков из нашей неспешной беседы с бабушкой Валентиной, которые я хотела бы процитировать, как говорится, без купюр. Они по большому счету не нуждаются в развернутых комментариях – разве что в ремарках. Вот один из таких фрагментов нашего разговора:
– Муж-то вас не обижал?
– Сяко [всякое. – Авт.] было, он выпивать любил хорошо. Но бояться не боялась его: так, серьезного не было… Но ругался, как выпьет. Се равно он хозяин. Хозяин-то знал дело: и сено коровам даст, се [все. – Авт.] делал… Давно умер.
– Скучаете по нему?
– Скучала, конечно, скучала, как же? Хозяина нету, дак как же не будешь скучать? Се равно, как-никак… Он сильно не болел, че-то быстренько плохо сделалось ему, раз-раз – и я осталась одна. Дети были взрослые, когда он умер, я с одним сыном жила. По-сякому [по-всякому. – Авт.] пришлось. Сильно хорошего не было… Но муж-то че, уж пожилой был… Сын [эмоционально выделяет это слово. – Авт.] у меня умер!.. (С горечью.) 32 годика было – вот об этим я скучала. Я сильно, сильно плакала, из-за этого на глаз ослепла.
– Сможете рассказать, что случилось? – осторожно интересуюсь у собеседницы: не хочется ее ранить, подняв со дна души горестные воспоминания, но не спросить об этом не могу.
– (После паузы.) А-а? С сыном? Тоже скоропостижно умер… Он в Абакане жил, женатый был второй раз. Сначала роботал на бурвышке, а потом бригадиром, сколько-то у него там людей было в подчинении, и вот он командовал имя [ими. – Авт.]… Се ладно было, а вот… Сидели с товарищем за столом. Затемнело. Он домой-то не пошел, на полу заночевал. На спину лег, а выпивши были. И задохнулся отрыжкой… Хлеботиной[9] этой захлебнулся. Лег бы на бок… И тоже не болело ничего, так скоропостижно и умер.
– А дети у него были?
– У него дети? Остался один сын от первой жены, он с матерью той жил. А с другой женой не было детей. Мы че? Поехали, схоронили… Сильно переживала.
– Что помогало в отчаянье не впасть?
– После похорон сына приехали мы домой. Муж-то еще живой был, мы вместе вот так и переживали. Сын давно отдельно жил, ну, думаешь, он где-то там и живет, а как вспомнишь, что его нет… Тяжело, тяжело было переживать… Не дай Господь потерять дитя…
Много на веку повидала бабушка, но обо всем рассказывает мне беспристрастно, будто вся ее жизнь давно перегорела в топке событий и уже даже не тлеют отдельные угольки. И только воспоминание о трагической гибели сына взбудоражило долгожительнице душу. Считай, полвека прошло с той потери, а так и не отпустило ее это страшное горе – не тлеет, а все еще горит и жжет материнское сердце. Да, не дай Господь потерять дитя…
Москвичкой, если, конечно, мерить мерками долгожительницы, она стала недавно – на десятом десятке:
– До девяноста лет мы еще там, в деревне, жили. У меня дом свой был… и остался. Я в огороде се [все. – Авт.] садила. Морковочку и помидорчики – се садила, се доглядала. Ну помогали, конечно: сам хозяин помогал, потом и ребятишки, а потом внучата больше. И невестка, которая умерла, помогала. Так и жили, друг друга не обижали, се хорошо было.
Очевидно, что в Москву престарелую мать привез один из сыновей, когда-то осевший в столице и тоже уже пребывающий в приличном возрасте, но я все равно спрашиваю бабушку о причинах переезда – тяну ниточку, чтобы клубочек размотать.
– Там печка была, плита, надо топить, а у меня уж сил не хватало. Она, невестка: «Поедем, поедем, се будет готовое, на готовом будешь». А потом, после у них свое пошло, у меня – свое. Ну там че-то как-то не пожилось у нас… Я так-то у сына жила, а он сейчас в командировки уезжает, а меня деть некуда. Замкнýтая. А че, я одна там: она уходит на работу, он уходит, уезжает и в командировку, и везде. Вот и решили сюда… в санаторию… Вот пока тут, не знаю, куда дальше…
Интересуюсь, сколько лет теперь ее сыновьям. Один, Василий, 1950 года рождения. Другой, Михаил, 1954-го, а про третьего бабушка почему-то ничего не сказала. Родственников у Валентины, оказывается, довольно много: помимо сыновей, есть внуки, правнуки – десятка два наберется.
– У вас, наверное, много правнуков уже, да?
– Ой, много конечно, у одной внучки две дочки, у другой – четверо, у третьей – четверо…
– Они приезжают?
– Не-е-ет… Ну раньше-то приезжали к нам в деревню.
– А сейчас?
– Нет, в такую даль, куда? Они далеко живут: одна на Украине живет, а другая – в Казахстане… Или не в Казахстане? Ну не вспо-о-омнить. Вот хорошо знаю, крутится, а не вспомнить… Меня завезли сюда, в «тайгу», я сижу, как пень горелый, никого не знаю… Ни своих, ни чужих.
Вот как! Это для нас Сибирь – глухомань, а для бабушки Валентины дремучая тайга – Подмосковье.
– Не скучаете тут?
– Я скучаю по дому, по деревне по своей. Там у меня сын и два внука, так там и живут. Я бы сейчас с удовольствием уехала домой.
– Почему?
– Там же се свои, знакомые.
– А город вам не нравится?
– Нравится. Город и есть город. Се хорошо относятся, а се равно оно как чужое.
– У вас тут лес, сосны – хорошо же! Похоже на Красноярский край?
– Нет-нет. Тайга же, тайга! Природа не такая, другая.
– А туда, в родную деревню, почему вас не забирают?
– А как заберут? Сейчас никак нельзя. Я просилась туда… Но там каждый сам себе живет.
– О чем-нибудь мечтаете? Хочется чего-то очень-очень?
– Что хочется? Ничего не хочется. Сижу, сижу… Не знаю, что будет дальше. Как они отнесутся ко мне? Как схоронят? Как я умру? Бог его знает как. Как Бог даст. Не бросят же, хоть они в командировке, не бросят же се равно… Как, если умру здесь, в санита… этой, ну, где нахожусь… Как говорится, как Бог даст. Хоть бы не отказали от санатории… Тут буду жить пока. Я не знаю, как живу, никто мне ничего не говорит. Как свои бы были, посоветовали бы. Но тут не бросают меня, относятся хорошо. Давление мерят, таблеточки дадут, где что надо, так дадут. Се хорошо. Пока вот живу, живу, сижу, сижу, не знаю, что будет дальше. Что будет, то будет.
– Как вы здесь проводите время?
– Губы зажмешь, глаза закроешь и сидишь. Пень пнем теперь, сейчас… Ну молюсь я, молитвочки читаю. «Богородицу» знаю, «Отче наш» знаю, сама по себе сложишь молитвочку: «Господи, прости меня». Что-то надо делать…
– За детей, наверное, молитесь, за своих?
– Да-да. «Прости и сохрани, Боженька, сех [всех. – Авт.] нас: меня и всех детей моих, и знакомых».
– Чем вас здесь кормят?
– А что принесут, то и кушаю.
– Может, что-то особенное любите из еды?
– Какая любоф? Приносят сяко [всяко. – Авт.], как говорится: и жарено, и парено. Хорошо кормят. Напоена, накормлена, догляжона, обстирана. Никто не обижает, се готовое. В общем, се хорошо. Людям и хуже приходится… Вот только тоскую о своем доме… – будто саму себя, да и меня тоже, уговаривает бабушка Валентина, убеждает в том, что ее крест не самый тяжелый. И тут же снова впадает в уныние, и сама же себя из него вытаскивает: – Я вот так сижу, сижу, переживаю, говорю: «Слава богу, хоть меня Господь не бросает». Людя́м и хуже приходится жить, мне-то хорошо. Я и своим звоню: «Мне хорошо, вы берегите себя… Обо мне уж не беспокойтесь, мне се ладно».
Все понимаю: у каждого своя жизнь, свои проблемы, у сыновей, возможно, даже хуже со здоровьем. Но глядя на эту маленькую, смертельно одинокую бабушку, у которой тем не менее «се ладно», сердце сжимается от тоски. Может, и вправду, будь у Валентины дочка, глядишь, на иную финишную прямую вышла бы ее жизнь?
Чтобы не расплакаться, пытаюсь перевести разговор на философские темы. Но философствовать людям старой закалки и особенно тем, кто всю жизнь трудился на земле, несвойственно – убеждаюсь в этом снова и снова. Хотя, возможно, отсутствие философии в привычном для нас понимании тоже философия, только с иной формой познания мира и системой знаний о нем? Как ни крути, а в рассуждениях да и во всей жизни моей героини прослеживается своя логика.
– В чем, по-вашему, смысл жизни?
– Никакой [никакого. – Авт.] не было. Так себе, роботали и роботали, куда отправили, туда и пошли. Ничего не понимали.
– Вы такую долгую жизнь прожили, чего в ней только ни было, может, о чем-то жалеете?
– Нет, не жалею. Жалей не жалей, теперь че? Как говорится, что упало, то пропало. Так прожили – свое хозяйство держали. Много мы не держали: коровенка там, подросточек, ну, курочек держали, гусей держали, уточек держали. В колхоз еще отправляли работать меня. Се успевала делать помаленечку, потихонечку.
– А вообще, много для счастья человеку надо: денег, вещей – или все это не так важно?
– А я не считала, мне хорошо было. Накормлены, напоены – и ладно. Обувались, одевались уж не по-хорошему. А где по-хорошему, где денег возьмешь? Только что продашь каку скотинку…
– И хватало всего?
– Да-а-а. Один раз в год вырастишь коровку, сдаешь ее за триста рублей – тогда дешевые были.
– Бабушка Валя, какая вы по характеру?
– Я? Вредная! (Смеемся.) Сяко бывало. Здесь с ребятишками заругаешься, горбушу стукнешь… Сяко было… Переживала.
– Вы оптимистка? Не унывали, наверное, никогда?
– Ну да, ну да… Не знаю, как сказать.
– А что вас радовало в жизни?
– Сему [всему. – Авт.] радовалась, хозяйству радовалась: и овечек держала потом, и корову. Корова отелится, теленочка надо выходить, доглядеть. Так вот и пошло, и пошло, и пошло, пошло.
Чем дольше мы беседуем с долгожительницей, тем тяжелее мне становится: о чем бы я ни спросила мою скромную собеседницу, почти все ее воспоминания и рассуждения сводятся к одному – хозяйству, трудам и заботам. Мы будто по кругу ходим. Неужели в ее длинной жизни ничего не было другого? Хватаюсь за соломинку – спрашиваю, была ли она когда-нибудь на море. И получаю ожидаемый ответ:
– Господи, какая [какое. – Авт.] там… От хозяйства не оторвешься, не бросишь же! Никого не было, чтобы доглядеть…
Напоследок пытаюсь найти причины долгожительства бабушки Валентины в генетике: ничто другое на них, как мне кажется, в ее жизни не указывает.
– А как думаете, почему вы прожили до ста лет?
– Не знаю…
– В семье у вас были долгожители?
– Сильно больших не было, но до девяноста жили… Я сама себя ругаю: «Зачем я живу?!»
– Устали жить?
– Да-а-а. Надоело жить, надоело жить. И куда сейчас деваться, не знаю… Так живу, живу, живу, живу.
За все время нашего разговора с Валентиной меня не отпускает горькая мысль: бабушка уже почти не с нами. Уходит. Постепенно потихоньку угасает. Нет у нее того, ради чего хочется цепляться за жизнь. Было – и не стало, выдернули ее из привычного сибирского быта. Обрубили корни. Знала и раньше, что нельзя стариков переселять на новое место, а теперь, благодаря бабушке из Сибири, изнутри прочувствовала, каково это – на старости лет оказаться на чужбине. Да еще в глухом одиночестве.
…Какое-то время спустя я пытаюсь узнать, как там бабушка, звоню на сотовый директору в подмосковный «санаторий». Но мне никто не отвечает. Скорее всего, в доме престарелых новый руководитель. И, наверное, нет уже среди его постояльцев моей Валентины.
Вжизни Валентины мы видим интересный парадокс. Несмотря на тяжелый труд и бесконечные заботы, ее жизнь можно назвать довольно благополучной. Единственное серьезное потрясение, о котором она упоминает, – смерть 32-летнего сына. Ее рассказ характеризуется повторяющимися мотивами, своего рода рефренами судьбы, которые отражают стабильность и ритмичность ее жизни.
Показательна фраза: не было избытка, но был достаток. Судя по всему, Валентина не испытывала крайней нужды, что было важным фактором стабильности в ее жизни. Физический труд и ведение хозяйства давали необходимую, достаточную, но не избыточную нагрузку, которая в наше время в лучшем случае заменяется спортом. Эта деятельность давала ей ощущение нужности детям, семье и обществу в целом.
Интересно отметить склонность долгожительницы к саморегуляции. Валентина часто уговаривает себя и окружающих, что ситуация терпима, даже находясь в состоянии глубокого одиночества в доме престарелых. Ее слова «У меня все хорошо. У меня все в порядке. Вы живите счастливо», обращенные к детям и внукам, показывают стремление Валентины не отягощать близких своими проблемами.
Валентина находит утешение в молитве – это тоже форма психологической саморегуляции и деятельности. Она молится не только за себя, но и за своих родных – это придает молитвам дополнительный смысл и дарит бабушке моменты единения с родными.
Однако нельзя не заметить признаки аутизации[10]. Фраза «Не могу ничего делать. Ничего не дают делать. Нет дома, нет близких рядом, не с кем говорить», ярко иллюстрирует ее состояние. Уход в себя, спровоцированный одиночеством и, возможно, начинающейся деменцией. Вывести Валентину из этого состояния становится все сложнее.
Поражает, как героиня бережно относится к чувствам родных, желая им счастья и здоровья, молясь за них и уверяя, что у нее все в порядке; искренним желанием не доставлять им беспокойства. Это свидетельствует о глубокой эмоциональной связи с семьей, которая сохраняется даже в условиях физической разлуки.
В целом мы видим картину жизни, где, несмотря на внешнее благополучие, человек сталкивается с серьезными психологическими вызовами в пожилом возрасте. Одиночество становится главной проблемой, с которой Валентина пытается справиться с помощью выработанных за жизнь механизмов саморегуляции. Однако эти механизмы не могут полностью компенсировать отсутствие теплого общения и привычной деятельности.
Бабушка Вера
РОДИЛАСЬ 18 АВГУСТА 1919 ГОДА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ[11].
ЖИВЕТ В ТВЕРИ.
Когда морально счастлив человек, мне кажется, уже жить можно.Вот я сейчас живу одна.А я счастлива! Почему?Потому что я никому не мешаю.
По телефону бабушка Вера предупреждает, что нужно подольше стучать в окно, чтобы она открыла дверь. Меня удивляет, насколько молодой у нее голос. Она говорит, что у нее пять засовов и понадобится время, чтобы все отворить. Я так и делаю: стучу в окошко, прохожу через калитку к дому. Пока жду, примечаю возле недостроенной террасы заросшую клумбу с садовыми колокольчиками. Розовые, синие, сиреневые и белые цветы качают головками на ветру и роняют капельки росы. Вспоминаются строчки из Алексея Толстого, а вместе с ними и бабушкин палисадник в деревне, ее ситцевое синее платье в цветочек и белая косынка:
- Колокольчики мои,
- Цветики степные!
- Что глядите на меня,
- Темно-голубые?
- И о чем звените вы
- В день веселый мая,
- Средь некошеной травы
- Головой качая?
Колокольчики у нас росли вдоль забора, и бабушка читала нараспев этот стишок каждый раз, как мы проходили мимо. Со временем воспоминания о детстве становятся острее. Никогда не знаешь, какой запах или цветок может вернуть тебя в прошлое. Забывается плохое, если оно и было, остается только тепло. Так бывает зимой в общественном транспорте, когда сиденья холодные и садиться на них не хочется, и вообще как-то зябко и неуютно, а потом кто-то выходит на остановке, и вы занимаете нагретое им место, натягиваете варежки – вам тепло и хорошо – и едете дальше. Чувство, будто о вас позаботились. Так и здесь. Вам уже не восемь, и бабушки давно нет, но вы видите колокольчики и знаете, что есть где-то у вас ангел-хранитель, который согреет через воспоминания, ароматы, мелодии.
Слышится шум отпираемых засовов – одного, другого, третьего. Входная дверь отворяется, и я вижу бабушку. Она опирается на табуретку с колесиками – так Вера перемещается по дому.
– Покушать не хочешь? – заботливо интересуется долгожительница. – Может, поешь? Или хотя бы чаю попьешь? Давно из Москвы-то? У меня есть каша с печенкой.
Отвечаю, что сыта и что пришла к ней прямо с электрички. Предлагаю, наоборот, ее покормить. Она тоже отказывается, говорит, ела совсем недавно, и мы проходим в зал. Бабушка строго указывает, какую открыть дверь, просит распахнуть шторы. Жалуется, что в день рождения съела много сахара и теперь чувствует себя не очень.
– Оля, вот это окошко открой, чтобы проветрилось, у меня очень душно. С меня уже ручьем течет. А сетку не открывай, поняла? – командует Вера.
Я выполняю распоряжения, ставлю принесенные цветы в вазу, вручаю небольшие подарочки: бабушка на днях отпраздновала столетие.
– Ой, куда мне полотенчики? Мне вон их столько надарили! А мыло пригодится, – комментирует долгожительница мои подношения, смеется: – Мне-то вас угощать нечем.
Затем она усаживает меня напротив и спрашивает, сколько у нас времени на беседу. Я отвечаю, что часа полтора-два, если она не устанет.
– Родилась я 18 августа 1919 года в Тверской области. Отец был дворянского происхождения, в царской армии обучал солдат верховой езде. За драку царица лишила его дворянства. Отца разжаловали и сослали в деревню, в Максатихинский район. Потом советская власть ему дала шестьдесят гектаров земли. Отец чем мог огородил участок. Там протекал ручей, клюква росла на болоте. Он не пил, был самым грамотным в деревне – все к нему приходили с просьбами написать письма.
Родители поженились еще до революции. У них было четверо детей до меня, а я, пятая, родилась в 1919 году, уже после революции. Мама была домохозяйкой, неграмотной, но умной. Варила хорошее пиво и квас, угощала соседских мужиков. Помню, как мужики устроили соревнования, кто больше выпьет водки. Один так напился, что свалился с ног.
Чем отец был обязан советской власти? Поскольку он был сосланный, ему дали землю и он разбогател. Детей из крестьянских и рабочих семей охотно брали в институт. Отец нанял домашнего учителя, и после обучения три моих сестры без труда поступили в школу Максимовича в Твери[12].
Она выпускала учителей начальных классов. Затем они получили возможность учиться в институте. Студентам давали общежитие и выплачивали стипендию – шестьдесят рублей. У нас была очень хорошая, дружная семья. Я не помню, чтобы нас кто-то бил или ругал.
– Что из детства особенно запомнилось?
– Помню смешной случай. Наш дом стоял возле ручья, за домом рос большой яблоневый сад. Однажды я увидела, как к нам два парня полезли за яблоками. Нарвали целые подолы рубах, идут и с удовольствием уплетают. А яблоки были очень кислые, и я подумала, что, может, они слаще, когда ворованные. Парни ушли, я обошла дом с обратной стороны, сама залезла в наш огород и сорвала яблоко. Откусила и выплюнула: оно все равно было кислым. Со смехом вспоминаю.
Отец меня возил на лошади в школу в соседнюю деревню. Я очень этим гордилась. Я маленькая была, особого внимания на меня он не обращал, не выделял среди других детей, а тут я считала себя очень важной. Потом он отправил меня к сестре в Медное. К тому времени она окончила университет в Москве, вышла замуж и вернулась в Тверскую область работать учительницей. На каникулы я ездила к родителям.
Позже случилась беда: у меня загноились глаза, развилась трахома[13]. И меня отправили к родственникам в Москву, вылечили. Когда мне было четырнадцать, брат поступил на подготовительный факультет университета в Свердловске и забрал меня к себе. Я пошла учиться на рабочий факультет[14] – это как вечерняя школа. Окончила на отлично, за год прошла трехлетний курс. Мы с братом немного голодали, конечно. Двух стипендий на жизнь не хватало, и мы каждый раз с нетерпением ждали посылок из дома.
Вспоминаю, как сама в студенчестве возвращалась из родительского дома с сумками, до отказа набитыми продуктами. Рейсовый автобус, ходивший в областной центр, в воскресенье сам был похож на набитую сумку: билетов продавали в два раза больше, чем было мест. Автобус мы брали штурмом: главное – влезть, а там как повезет. Не сможешь занять место, значит, четыре часа простоишь в проходе. Кто-то садился на ступеньки, кто-то – на свои сумки. В автобусе пахло домашними пирожками (половину которых, конечно же, съедали по пути), холодцом, пловом, котлетами – всем этим студент мог питаться еще неделю. Находилось место и для домашних заготовок, картошки, тушенки, лука. Денег родители давали мало: нечего было давать, но продуктами набивали сумку от души, не поднимешь. Зато потом в общежитии устраивали настоящий пир. Приносили у кого что было: жарили картошку с тушенкой, ели ее с хлебом и кабачковой икрой. И ведь не толстели! А когда запасы, родительские деньги и стипендия кончались, переходили на лапшу быстрого приготовления. Эх, студенчество! Душевное время!
– Голодать в детстве часто приходилось?
– Нет, у родителей было много скота, продавали творог и молоко. Их не раскулачили, потому что землю дала советская власть. Часть молока сдавали в колхоз, а излишки продавали.
– Знаешь, почему я сохранилась хорошо? – хитро щурясь, улыбается бабушка. – Наверное, потому, что родители заложили мне хорошее здоровье с детства. Мы ели и пили по расписанию. Отец говорил, что и в какие месяцы можно есть, соблюдали пост. Исключений ни для кого не было: дети тоже постились, не ели мясо и яйца. Яйца, кстати, вообще ели не всегда. Если курица на них посидела, мама эти яйца уже не варила.
Отец считал, что пост нужно соблюдать по-умному. Обязательно есть лук: в нем много витаминов. Сырой лук очень горький, его нужно правильно готовить. В русской печке есть такой выступ – шесток. Если печь протапливали, отец вечером клал лук на этот шесток. Печеный лук становится очень сладким. Помню, садимся возле лежанки, папа кладет лук на тарелку, чтобы остудить, и угощает нас. Так меня и приучил. До сих пор люблю такой лук! Только вместо печки теперь микроволновка. И его нужно есть обязательно: в зеленом луке одни витамины, а в луковице – другие. Но зеленый не такой полезный, его можно есть только свежий, с грядки. Короче говоря, нас очень умно кормили.
– У брата Николая я прожила до семнадцати лет.
Я его очень любила. Он умер молодым. После войны ему нужно было срочно явиться на учебу, а автобус не пришел. Он пошел пешком из деревни в Тверь в легком пальтишке, простудился и умер от воспаления легких. Пенициллина тогда не было…
Рабфак я закончила на отлично и решила поступать в Москве на медицинский факультет. Мать посоветовала спросить у врача, какую специальность выбрать, но я была глупая и не спросила – решила идти на хирургический. В день, когда нужно было ехать сдавать экзамены, автобус не пришел. Я добралась на попутной телеге до Твери и потом кое-как – до Москвы. Когда приехала, уже час вовсю шли экзамены. Я показала свой вызов и попросила, чтобы мне разрешили сдавать со всеми.
«Если ты в сочинении не знаешь, как пишется какое-то слово, лучше подбери другое, в котором не сомневаешься», – учила меня мама. В итоге за сочинение, математику и иностранный язык (а я немного знала немецкий) я получила пятерки. Я так обрадовалась: значит, примут! Но когда вывесили списки зачисленных, моей фамилии там не оказалось. Выяснять в приемной комиссии, почему меня не взяли, я не стала. Решила, что поступлю на следующий год, и, грустная, я поплелась на поезд. До сих пор и не знаю, почему меня не приняли. Может, слишком молоденькая была, мне только семнадцать исполнилось – какой бы из меня получился хирург? А может, причина в том, что я не указала, на какую именно специальность поступаю…
Села я в поезд, чуть не плачу, а напротив меня – солидный мужчина в костюме: «Почему грустная такая, наверное, экзамены провалила?» «Нет, – отвечаю. – Все экзамены сдала на пятерки, а меня не взяли». «Покажи-ка, – говорит, – свои документы, а то уж больно ты красиво плетешь». Я показала. А он спросил, почему я не поехала поступать на педагогический в Тверь. Оказалось, что мой попутчик – ректор Калининского педагогического института. У него был недобор, и он искал таких, как я. Прямо с поезда он усадил меня в машину – у вокзала его ждал водитель – и отвез к приемной комиссии. Спросил, на какие специальности недобор, и меня зачислили на литературный факультет. Я сразу же получила место в общежитии.
– Жалеете, что не стали врачом?
– Я не жалею, что не попала в медицинский. Этого больше хотела моя мать. Чтобы хоть кто-то у нас стал врачом, ведь все мои сестры были учителями.
В Свердловске Вера посещала аэроклуб, но прошла только теорию, до прыжков с парашютом дело не дошло. Должна была прыгать на параде по случаю Дня Победы, но от долгого ожидания с 16-килограммовым снаряжением за плечами она начала терять сознание, и ее унесли на носилках. Во время учебы в пединституте она услышала по радио, что такой же клуб открывают в Твери.
– Я им сказала, что закончила парашютистские курсы, но не прыгала. Показала корочки. Мне пообещали все уладить – как раз снова предстоял парад. Я познакомилась с парнем, который укладывал парашюты, и он мне очень понравился, но по иронии судьбы за мной начал ухаживать начальник аэроклуба. Однажды выхожу из института, а меня кто-то поджидает. Это был тот парень, но не один, а со своим начальником. Мы поздоровались, и тут начальник говорит: «Ой, Виктор, а парашютный домик-то я не запер, иди закрой». Устранил конкурента, чтобы остаться со мной наедине. Он признался, что хотел меня проводить. А я так рассердилась, что сорвала с него фуражку и кинула в грязь. «Я никому из вас еще согласия на свидания не давала!» – крикнула и убежала. Я была зла и обижена: он мне не нравился и вдобавок выгнал того, кто мне был симпатичен. Он на меня тоже рассердился и не простил…
На параде я прыгала последней: моя фамилия была на «Ч». И вот подходит моя очередь, нужно выбраться на крыло и прыгнуть. А помогал тот самый начальник аэроклуба. И тут он мне говорит: «Поцелуешь – помогу!» Пришлось поцеловать. Да так мы увлеклись, что я прыгнула не вовремя, самолет пролетел место посадки, и я приземлилась на жилой дом. Снесла кирпичную трубу и хорошо, что за нее зацепилась, иначе могла бы разбиться. А так – пробежала по крыше и кубарем свалилась в огород. Лежу и думаю: «Вот я тебя еще проучу, как лезть с поцелуями». Он подбегает, хватает меня на руки, несет в скорую. Все подняли панику, мол, парашютистка разбилась. Больше я в аэроклуб не ходила.
В больницу ко мне пришел мой Виктор и сказал: «Давай, чтобы не было разговоров, поженимся». Он был высокий и красивый, а я маленькая рядом с ним. Я ему говорю: «Ты сколько получаешь, шестьдесят рублей? И у меня шестьдесят рублей стипендия. А детей мы на что будем содержать? А жить где будем? И мне еще год учиться в институте». Я посоветовала ему пойти в военное летное училище, и он меня послушал. Познакомил со своей семьей. Семья оказалась состоятельная, даже машину свою имела. Его родители оценили мой поступок, поняли, что я девушка серьезная.
Через год Виктор окончил на отлично авиационное училище в Одессе. Его оставили служить штурманом и сразу хотели присвоить младшего лейтенанта. Мы сыграли свадьбу в Твери, и я уехала к нему в Одессу. Через год родила сына. Когда началась война, ему было месяца три…
Я жила на частной квартире, а муж – в казарме. Каждый день он приходил меня навещать.
– А до замужества были поклонники?
– В детстве нас всех крестили в церкви и учили богословию. Говорили, что женщина становится женщиной, только когда вступает в брак. А до этого она не должна иметь сношений – грешно. Мне уже в раннем детстве было известно, что до брака с мужчиной сношаться нельзя. Женщине положено выходить замуж после Великого поста, а следующей весной должен родиться ребенок. И пока ты не закончишь кормить ребенка, не забеременеешь. То есть три года после его рождения. Сношения с другим мужчиной, кроме мужа, очень вредны для организма – так учил преподаватель богословия, давал заветы батюшка, когда в детстве нас водили причащаться.
А еще учили, что грудное молоко женщины и парное коровье молоко лечебны. В моем детстве мать все наши болячки лечила коровьим молоком. Весной я бегала босиком, и однажды на ногах выскочили цыпки[15]. Сижу плачу. Мать обмыла мне ноги жирным молоком – цыпки сразу прошли. Даже когда меня сильно ударило качелью из доски и бревна, аж изо рта кровь пошла, мать меня поставила на ноги все тем же парным молоком.
– Помните, как началась война?
– Муж сказал: «Завтра я не смогу прийти. Что-то случилось, нас не выпускают из казармы». На следующее утро я проснулась от шума. Сначала подумала, что это звуки базара: он на юге начинает работу рано, чтобы продукты не испортились из-за жары. Но тут в окно постучался солдат: «Ваш муж велел передать, чтобы вы немедленно уезжали, началась война. Садитесь на первый попавшийся поезд и уезжайте к родителям. Он не придет».
Я взяла только радиоприемник. Сдала его в камеру хранения на вокзале и с ребенком и одним кульком пошла за билетами. А билетов нет, все отдыхающие срочно начали покидать курорты и уезжать в Москву. И вот я стою возле поезда, из вещей у меня только пеленки. Подходит кондуктор и просит билет. Я соврала, что оставила его в поезде, и мне разрешили пройти в вагон. Так я попала в поезд. Ехала целую неделю, состав постоянно останавливался. Доехав, устроилась у свекрови.
Только я разместилась, в окно снова кто-то стучит: «Вера Петровна, быстрее бегите на вокзал. Ваш муж, Виктор Алексеевич, раненый лежит на перроне, его привезли в Тверь, чтобы поместить в госпиталь». Мы с его матерью прибежали – его уже увезли в больницу. Отправились туда. Встречаюсь с мужем, а он голову держит руками: позвонки выбились. Его перебросили в Москву защищать Тверь. Под Осташковом был воздушный бой. Два самолета он сбил. Надо приземляться, а некуда: кругом озеро. Он посадил самолет на самый край берега, но ударился головой так, что соскочил позвоночник. Потерял сознание. Его спасли наши солдаты: подплыли на лодке, вытащили и отвезли в Тверь, в госпиталь. Что вы думаете, до сих пор его самолет лежит под водами Селигера.
Возможно, этот самолет, как и многие другие, затонувшие во время войны, уже отыскали тверские дайверы. Когда я только начинала работать журналистом в тверской газете, была громкая история: им удалось отыскать затонувший редчайший самолет Ли-2 – советскую копию американского «Дугласа». Во время рейса на борту были 17 человек и груз – ящики с боеприпасами. Самолет атаковали два немецких истребителя, и пилоту пришлось уходить на предельно низкой высоте. В итоге он не справился с управлением и самолет затонул. Выбраться смогли 14 человек. Троих спасти не удалось, их тела через год нашли местные жители и похоронили на берегу. А сколько таких самолетов хранят воды Селигера! Ведь в этих местах шли кровопролитные бои…
– Через четыре месяца мужа выписали, он вернулся на передовую. К Твери уже подошли немцы, и он запихнул меня в поезд, который шел в Сибирь. Я ехала с грудным ребенком. Не было ни хлеба, ни молока. Мне посоветовали выйти на маленькой станции под Куйбышевом (городок под Новосибирском), я там сошла с поезда и отметилась в военкомате. Дала телеграмму родным в Москву. Устроилась на квартире с хозяйкой.
Однажды пошла на рынок, нужно было купить мяса. Война, мужчин не было, и женщины продавали баранов целиком. Я говорю: «Куда ж мне баран целиком?» А потом думаю: сначала я его приведу, а там уж мы с хозяйкой найдем того, кто зарежет. И тут подходят ко мне двое военных, смеются: «И что вы будете с этим бараном делать?» «Жаркое приготовлю», – говорю. «А ты посмотри, с кем встретилась-то». Гляжу, а передо мной стоит муж. Ему сказали, что я вышла на этой станции, а где, не объяснили. И он решил: где можно найти бабу, как не на базаре? Я его не узнала, и он меня сначала не узнал – он искал меня по белому пуховому берету, а я тот берет перекрасила.
Долго мы смеялись.
Пошли ко мне на квартиру, приготовили баранину. С непривычки и от голода муж съел слишком много, ему стало плохо. Отправили в госпиталь. Потом вернулся в часть. Муж воевал на всех фронтах, дошел до Берлина, получил семь орденов. А я работала в школе: сначала в Куйбышеве, потом вернулась в Тверь.
– После победы мы какое-то время жили там, в Германии. Я довольно неплохо научилась говорить по-немецки. Жили немцы бедно, да и мы тоже, но куском хлеба делились. Запомнился такой случай. Как-то к нам попросилась на работу женщина – помогать по хозяйству. Я поручила ей стирать белье. Однажды она прибежала, крича: «Фрау капут, фрау капут! Комон зи на хауз!»[16] Смотрю, она мое белье постирала, как сейчас стирают – черное и белое вместе. У них уже тогда была бытовая химия и ткани, которые не линяют. А я сама шила костюм сыну и покрасила его чернилами. Она эти чернильные штаны положила вместе с белым бельем и не ожидала, что все покрасится. «Низ гуд, фрау, – говорю, – ничего, не волнуйся». Поделилась с нею кусочком хлеба: они очень бедно жили. Потом мужа перевели во Владивосток, а затем – на Камчатку.
Мы с мужем собирались справлять очередную годовщину свадьбы, но он не дожил, я осталась вдовой с двумя сыновьями. Помню тот день, будто это было вчера. Яркое солнечное утро, я налила чашку чая на кухне и собиралась позавтракать вместе с ним. А когда вернулась в гостиную, увидела, что он лежит на полу. Подумала, шутит, но быстро поняла, что это не шутка. У него было подорванное здоровье: сказались ранения, полученные во время войны. Я побежала к телефону звать на помощь. Вскоре в квартире было полно людей, но они уже ничего не могли сделать. Доктор только сообщил, что муж умер.
Накануне мы купили ему новую рубашку, и она ему очень понравилась. «Ты всегда должна теперь покупать мне только такие», – сказал он. Я и представить не могла, что на следующий день его не станет, а я столько еще проживу без него.
– Замуж больше не хотели выйти?
– Нет, даже в мыслях такое не держала.
Бабушка Вера вспоминает, как долгое время по ночам во сне по привычке протягивала руку, ожидая дотронуться до мужа, услышать его дыхание. Иногда переворачивалась на холодную пустую сторону кровати, будто так она могла быть к нему немного ближе. Она делала это на протяжении многих лет, а когда стало совсем невыносимо, поменяла кровать на односпальную. Но даже сейчас, спустя столько лет, она, просыпаясь ночью, вглядывается в темноту и ловит себя на ощущении, что он жив.
– Сколько, по-вашему, живет любовь? Может она быть одна на всю жизнь?
– У меня было именно так. Я никого больше не любила. И муж очень бережно ко мне относился. Однажды во время жизни на Камчатке мы, жены военных, узнали, что на соседнем японском острове продают шикарные американские ткани. Мы сели на катер и поехали. Мне, дуре, надо было спросить разрешения у мужа, ведь он был начальником гарнизона. Покидать гарнизон запрещалось, к тому же остров принадлежал чужому государству. Мы купили тридцать метров ситца на все деньги, а катер к тому времени ушел. Муж, узнав об этом, приехал и забрал нас. И ни словом меня не упрекнул! Вот такой он был человек.
– Вы прожили счастливую жизнь?
– Знаете, я жила в трудное время и считаю, что мне повезло. И муж с войны вернулся, и сыновья выжили. Правда, умерли они довольно молодыми: один – в сорок пять лет, другой – в шестьдесят шесть. Но уже в таком возрасте, когда были хозяевами своей жизни. Я и сейчас счастливо живу. Почему? Потому что дети и муж все-таки успели пожить. Муж пришел с войны с ранениями… Бывало, возвращается домой такой уставший, что падает на кровать: «Ты, – говорит, – Верочка, разуй меня, сними с меня комбинезон и чем-нибудь покорми». И я как ребенка его кормила. Я была счастлива: чувствовала, что нужна семье.
– Какой период в вашей жизни был самым счастливым?
– Каждый день, проведенный с мужем и детьми, был для меня счастьем. Помню, как тащила елку в метель по городу, чтобы порадовать детей к Новому году. Короче говоря, когда дети были при мне, я чувствовала себя счастливой. Мы часто говорили по душам, очень хорошо друг друга понимали, согревали своим теплом.
Когда муж болел, я чувствовала его боль, как собственную, и он так же за меня переживал. Не было у меня другой любви, – голос Веры задрожал. – Я жалею, что рано потеряла детей. Если ребенок умирает раньше вас, независимо от возраста, это худшее, что может быть в жизни матери.
– Н о вы же не могли ничего сделать…
– Не могла. Но все равно виню себя, что не спасла. Не было у меня возможности их спасти. Первый мальчик, Юрка, родился в Одессе в 1940 году, ему сейчас было бы семьдесят девять лет. Второй, Алексей, – на Камчатке.
Была еще дочка, Аллочка, родилась после окончания войны. Когда ей было три месяца, меня заставили ехать в Тверь на собрание. Пришлось оставить грудного ребенка. А кто его кормить-то будет? Три дня сижу, дрожу, думаю, как там ребенок без меня. Старший сын ездил из Твери в Медное, искал по всему Медному молоко, но так и не нашел. И девочка умерла. Я ее с Севера в корзинке привезла, кормила грудью, она выжила, а тут не сберегла. Нужно было послать всех подальше, но не оставлять ее… Мы с сестрой тогда закопали ее в снег как попало, а сейчас мечтаю сделать ей какую-то могилку. Я считаю, что это я должна выполнить.
Мне всю жизнь хотелось, чтобы все было по-честному, поступала так, чтобы в первую очередь детям было хорошо, но сберечь я их не смогла.
А еще поняла, что какой бы благополучной семья ни была, вы все равно не сможете «накачать» ребенка любовью про запас, чтобы он всегда был твердым и цельным, преодолевал все невзгоды и не попадал под чужое влияние.
Встал вопрос, кем будет младший сын, Лешка. Раз отец летчик, то и его решили тоже в летчики отдать. В детстве нужно внимательно смотреть, к чему у ребенка склонность. Он прекрасно рисовал. Надо было ему идти в художники, а он все-таки пошел в авиацию. Закончил авиационное, приехал в Тверь. А начальник аэроклуба до сих был тот, которому я отказала. Он решил отыграться, отомстить, и не взял моего сына в аэроклуб. Сын нашел себе работу на Байконуре, там, где испытывали ракеты. Он получил облучение, и его списали с летной работы. Поехал в Азию опылять поля от вредителей. Потом в Твери работал комбайнером, начал пить.
Важно быть чутким к своему ребенку, не давить, когда встает вопрос выбора профессии. Один неверный шаг, и вся его жизнь пойдет наперекосяк, как это произошло в нашей семье. Я до сих пор виню себя за это. Неизвестно, как сложилась бы жизнь Алеши, если бы он не подался в летное училище, а стал художником.
Знаю, что на все, что происходило в моей жизни, была воля Божья. Но я все равно многого не понимаю.
Есть много вещей, которые не имеют смысла, но мы всегда так сильно хотим понять. Почему мои дети должны были умереть раньше меня? Почему я дожила до стольких лет, а они нет? Я бы хотела уйти вместо своих сыновей, но смерть меня не спросила. Жалобы и плач совершенно не помогают. Есть только один человек, который может помочь, – ты сама. Не позволяй себе утонуть в страдании, возьми себя в руки. Нужно лишь приложить немного усилий.
– С кем из родни поддерживаете отношения?
– Схоронила внука, Максима, сына Алексея. С внуком мы очень были дружны, я сильно его любила. Сейчас за мной ухаживает его гражданская жена. Максим всегда был со мной. Мы ездили вместе в пионерский лагерь, и на выпускной к нему в институт ходила я, а не родители. После института он хотел жениться, а его девушка не соглашалась, пока нет своего жилья.
Дом разделили на троих. У меня сейчас страшное положение: я живу как квартирант в собственном доме, я никому не нужна. Я этой снохе, которая жила с Максимом шестнадцать лет, выделила долю. Она за мной и ухаживает. Но она тоже занята. Одна осталась в тридцать шесть лет. А дочки старшего сына – им уже за сорок – со мной большую часть жизни не общаются, обижены на своего отца из-за развода. Сложная семейная история.
Пригласила нас как-то свекровь в гости на какой-то праздник (она в деревне жила). Помню, сирень цвела. А жена Юры поехала к матери на несколько дней раньше, чтобы помочь все подготовить – народу-то у них всегда собиралось много. Договорились, что мы приедем на вечернем автобусе накануне праздника. Утром сын сказал, что не спал всю ночь, хочет пораньше в деревню поехать. И отправился на автобус. Я приезжаю вечером, выхожу из автобуса – батюшки, он сидит на остановке под кустом сирени и плачет. Рассказал, что заметил, когда подходил к дому свекрови, как из окошка вылез мужчина. Он – за ним, а тот скрылся. Он бегом в дом, а свекровь не пускает: спят еще все, рано приехал.
Юра жену очень любил, но выяснять, что произошло, не захотел. Мне надо было остаться, поговорить, но вмес то этого мы сели в автобус и уехали. Так до сих пор и не знаем, изменила она ему или нет. И она не захотела мириться, не стала с ним жить. У него остались две девки, две дочки, мои внучки. Они вроде как оскорбленные, что отец их бросил, и со мной тоже перестали общаться.
Думаю, что она изменяла. У невестки ухажеров местных тьма была. Она как в город уехала, быстро замуж выскочила, детей родила. Может, встретилась с какой-нибудь старой любовью в родительском доме. Но в семье всякое бывает, разобраться надо было, поговорить. Сын очень переживал и больше не женился. А дом я все равно решила внучкам оставить, хоть они и в обиде на нашу семью.
Правда, есть еще ребенок у младшего, Алексея. Когда сын учился в десятом классе, он встречался с одноклассницей. Я не знала, насколько близкие у них были отношения. А потом ко мне пришла ее мать и сообщила, что ее дочь от моего сына беременна. Для меня это было непостижимо: мы не имели права жениться, пока у нас для этого не было средств. И вообще, как она могла позволить себе вступать в отношения в таком молодом возрасте? Я посоветовала им сделать аборт и, более того, дала на него денег. Деньги они взяли, но аборт не сделали. Девушка бросила школу, уехала куда-то к родственникам и там родила. Больше о ней мы ничего не слышали. Она приехала к матери на похороны и зашла ко мне. Сына на тот момент уже не было в живых. Предложила помощь, но я не считала себя вправе ее о чем-то просить. Она оставила свой адрес, я не взяла. У нее родилась дочка, они живут в Америке и очень богаты.
– Н е устали так долго жить?
– Мне кажется, всем людям хочется жить. И я себя успокаиваю: сыта, в тепле, никого не беспокою – ну и хорошо! У меня есть соседка, учительница, она ослепла и оглохла, к ней приходят раз в две недели, так она живет хуже. Вот вы ко мне пришли, мы поговорили – мне уже хорошо, как меду наелась… Нужно верить в то, что надо жить. Я себя постоянно успокаиваю, уговариваю не нервничать. Я была счастлива, жила не хуже других. Вот сегодня рассматривала фотографии: в молодости я была не так безобразна, как сейчас. Красила брови, делала прическу. А губы не красила. Разговариваю каждый день с Виктором, он меня слушает, глядит с портрета. Когда я вру или нехорошо говорю, портрет краснеет.
– О чем разговариваете?
– Советуюсь с ним, спрашиваю, как мне поступить.
Долгожительница показывает снимки. В сто лет она отлично видит без очков!
– Такие вот красивые резные полочки сын делал… Не надо было его в летчики отдавать, нужно было заметить, что он художник. Сколько картин навешал – это все он делал.
Сейчас я живу не хуже других, считаю, что нужно довольствоваться тем, что есть. Телевизор у меня есть – включаю, когда хочу, мне никто не мешает, не запрещает. Единственное, на жену внука легла большая нагрузка – за мной ухаживать, а она мне вроде как никто, не кровная родственница.
– Удивительно, что близкие люди о вас не заботятся, а заботится, по сути, чужой человек.
– Да. Меня успокаивает то, что хотя бы третья часть денег от продажи дома ей достанется. Но чувствую, что терпение у нее кончается.
– О чем вы сейчас мечтаете?
– О новой кровати с хорошим матрасом. И чтобы социальные работники ходили ко мне в выходные: в субботу и воскресенье я сижу голодная. И чтобы мыши меня не донимали. Еще мечтаю, чтобы жена племянника меня забрала к себе в Москву. Здесь у меня тяжелое положение, дом наследуют трое: гражданская жена внука и две внучки. И они хотят его поскорей продать. А у меня мечта – уехать отсюда. Надежды мало, конечно, но вдруг… Мне тошно оттого, что они ждут моей смерти, чтобы разделить дом.
Жизнь – это путь. Мне осталось пройти несколько шагов. А о смерти думать бесполезно, она неизбежна и совсем скоро.
– Что дает силы жить?
– Понимаете, когда счастлив человек, мне кажется, уже жить можно. Вот я сейчас живу одна, а счастлива! Хотя мне тяжело. Я встала, чтобы покушать, разогрела обед, заварила кашу, подготовила все. Какого труда мне это стоит… Я ставлю ногу, а она подворачивается, вот-вот упаду. А счастлива я потому, что еще жива и никому не мешаю. И телевизор у меня есть, и сытая. Живая – и слава тебе господи. И ты береги себя, вовремя кушай, одевайся потеплее. А лечусь я только с помощью телевизора – там говорят, что пить от давления. Зарядкой я не занималась, спортом тоже, только вот авиационным. Мне было не до этого: я очень много работала.
Со своими частями тела я разговариваю: если что-то заболело, то глажу это место и успокаиваю. Не спится – принимаю снотворное. Закрываю дверь и говорю себе: завтра я не умру. А если и умру, то люди меня найдут, увидят через окошко.
Как всегда, прощаясь с долгожителями, я стараюсь найти более подходящие слова, чем «до свидания». Сказать «до свидания» человеку, который собирается отпраздновать 101-й день рождения и живет в добрых 180 километрах от тебя, кажется мне неуместным. Вера улыбается. Она, видимо, угадала мои мысли, потому что говорит:
– Если мы хотим встретиться снова, нам нужно поторопиться.
Когда ты молод, можешь что-то планировать на пять или десять лет. Затем становишься старше и живешь одним годом, месяцем или, наконец, одним днем, как бабушка Вера.
Некоторое время мы молча смотрим друг на друга, затем она сжимает мои руки.
– Ты могла бы мне звонить иногда? – спрашивает бабушка Вера. – Не в следующем году или месяце, а, скажем, через неделю?
Я киваю в ответ, обнимаю бабушку, и мы прощаемся.
Вэтой истории много интересных моментов и неоднозначности. У бабушки Веры уникальная способность осознанно брать на себя ответственность за свою жизнь и за все происходящее в ней. Случилось не просто абы какое событие, а именно то, что она хотела: «Я живу одна, и я счастлива, я никому не мешаю». При этом Вера любит людей, они ей интересны, она может поговорить по душам и позаботиться о незнакомом человеке. Одиночество не делает ее замкнутой, в ней нет асоциальности или угрюмости, свойственной одиноким людям. Вера осознает свои потребности даже в оценке подарков. Она вежливо, но четко дает понять, что нужно, а что – лишнее: «Ой, куда мне полотенчики?» Вера вроде бы не обижает, но для себя решает: это беру, а это нет, так как мне не нужно. За таким поведением прослеживается очень честное отношение в первую очередь к самой себе, к своему мнению, а значит, выбор в пользу ответственности за свою жизнь.
Родители заложили ей хорошее здоровье, и речь не только о генетике. У нее, по всей видимости, был хорошо образованный отец. Питание по часам, умный выборочный пост. Вполне возможно, что генетические особенности требовали именно такого отношения к ее организму, и Вере это пошло на пользу. Можно сказать, родители сформировали у нее представление о правильном питании с некоторым эффектом плацебо. Так, например, она верит, что для нее очень полезен печеный лук, и активно его ест. Вера не говорит, что безумно любила отца, но ясно оценивает то лучшее, что он смог ей дать. А он дал детям не только хорошее воспитание и задатки крепкого здоровья и здоровых привычек, но смог обеспечить качественное высшее образование и поддерживал их стремление к учебе.
Жизненная история Веры – это эффектная проверка реальности. Так в детстве она пробовала яблоки: вдруг ворованные окажутся вкуснее? Попробовала, выплюнула: поняла, что они по-прежнему кислые. Потом сама же над этим посмеялась. Честность по отношению к себе, сдобренная природным чувством юмора, – серьезный бонус в жизни бабушки Веры.
Вера поддерживала отношения с братьями и сестрами. Родители отправляли ее как младшую к старшим, не возлагая на нее свои надежды, а доверяя ей и предоставляя возможность развиваться самостоятельно. Отец находил в своей нелегкой жизни время и силы возить ее в другую деревню на телеге. А ведь ребенку достаточно всего 15 минут в день искреннего неоценивающего внимания родителя, чтобы не только почувствовать любовь и свою нужность, но и, как следствие, осознавать свое детство счастливым. Благодаря этому у Веры сформировалось ощущение: я была единственной, я была главной, я была лучшей. И это дало ей опору на всю оставшуюся жизнь. Она верит в себя, у нее блестящий аттестат, у нее есть поддержка родителей.
Вера очень бережно относится к воспоминаниям о муже, к моментам и случайностям, связанным с ним. Она прекрасно помнит, может, даже несколько идеализирует отношения с супругом. Она понимает, что самое ценное, что он мог ей дать, – это любовь, поэтому оценивает свою супружескую жизнь как самый счастливый период в жизни. Она живет в семье, где любима сама и где может дарить свою заботу и любовь детям и супругу.
Трагедия – потеря детей и мужа – не сломила Веру. Такова ее жизнь. Она приняла и нашла в себе силы и желание жить дальше. Мне нравится утверждение, что наша жизнь состоит на 10 % из того, что с нами происходит, и на 90 % – из того, как мы к этому относимся. В своем представлении бабушка Вера живет по-прежнему счастливо. И она испытывает важное осознание чувства нужности: я была нужна!
На мой взгляд, Вера, как другие престарелые люди, отчаянно нуждается в близких и семье – и она ищет эту семью. Она уже очень старенькая. Ей тяжело и все сложнее жить без помощи, она одинока, ей требуются забота и поддержка неравнодушных людей.
Бабушка Антонина
РОДИЛАСЬ 14 МАРТА 1922 ГОДА В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ[17].
Хотела бы еще сто лет прожить!
В больницу, где лежит долгожительница, мы едем вместе с волонтером, тоже Ольгой. Я рада, что она взяла меня с собой: Ольга давно знакома с бабушкой, а значит, больше шансов, что разговор действительно будет по душам.
Когда мы встречаемся с Ольгой, я удивляюсь, насколько нарядно она выглядит: голубое платье, туфли, прическа, маникюр. В руках – букет полевых цветов. Я делаю комплимент и интересуюсь, в связи с чем такая красота.
– В этой сельской больнице лежат в основном старички и инвалиды. В их жизни так мало впечатлений, некоторые уже и вовсе не выходят на улицу. Приезд волонтеров для них настоящий праздник, это как окно в мир. Они с такой радостью разглядывают мой наряд, вдыхают аромат духов. Им интересно, что происходит в жизни, в природе, поэтому я стараюсь всегда привозить им цветы.
Бабушки действительно встречают нас с большой радостью. Знакомятся со мной и расспрашивают Ольгу, как у нее дела. Тем временем мы начинаем с Антониной говорить о ее детстве.
– Я в восьми километрах от Рогачево родилась, в деревне Аревское. Дом у нас был деревянный, пятистенок.
Большой, красивый. А сейчас жить-то некому. Приезжайте и живите.
Антонина из тех людей, жизнь которых можно охарактеризовать пословицей «Где родился, там и пригодился». Часто людям кажется, что они находятся не там, где им следовало быть. Они испытывают недовольство или неудовлетворенность, постоянно чего-то ищут, меняют города и страны, но не находят. Однако каждый человек уникален, и его собственное место в мире может быть не за тридевять земель, а гораздо ближе. Например, там, где он находится прямо сейчас…
– Детство было трудное, но в то же время раскованное и свободное. Оно выпало на период НЭПа. Крестьяне имели свою землю, крепкие хозяйства: добрую лошадку, пару коров. Строили хорошие дома. Детей в каждой семье заводили много, мы очень дружили – и мальчики, и девочки – и были предоставлены, можно сказать, самим себе. Мы не устраивали ни потасовок, ни драк, собирались и играли в самые разные детские игры, очень похожие на спорт. «Ручеек», «Гори-гори ясно». Потом начались школьные годы.
В первый год, 1930-й, всего было в изобилии, но уже организовывались колхозы. Не все благоприятно приняли эту организацию. Очень много молодых семей уехали в город. Был большой отток рабочей силы. Механизации никакой, тяжелый ручной труд. И сразу три голодных неурожайных года: 31-й, 32-й, 33-й. Хоть я и маленькая была, восемь лет, а понимала, что говорят взрослые. Осенью сеяли, всходы прекрасные, но весной на квадратный метр один колосок. И так три года подряд. Страшный голод.
Растущие организмы хотят есть постоянно. В лес пойдешь, земляники наберешь – витаминчики. Чего мы только не ели, Оля! Пойдем на поле, наберем хвоща, очис тим стебельки и едим. Даже какие-то сорняки, калган копали. А у него на корнях белые горошинки, сладкие. Мы три года не видели не то что кондитерских изделий – даже хлеба. И вот наедались этими белыми горошинами до того, что живот вздувался, и шли домой. Нас спрашивали: «Что, опять гороха наелись?» Уже когда взрослая стала, узнала, что эти горошины являются лекарственным средством – они вызывают у женщин выкидыш. А мы ели их, потому что они сладкие были. Дети есть дети. Сады были у всех: заберемся на вишню, смолу сдираем, и как ириску, жуем. Три года подряд только об одном и думали: как бы поесть. А потом 34-й год наступил, и урожай собрали неимоверный. На трудодни[18] нам выдали много зерна, и мы с удовольствием ели заварной ржаной хлеб. Досыта!
– Лучшим временем в детстве были школьные годы. Хоть и бедно жили, но весело! Мы тогда веселились без какого-то принуждения: свободно, открыто. Никакого хамства не было, ходили ватагой с тремя гармонями! Кадриль танцевали, вальсы, полечку. С вечера до утра. Я мечтала закончить институт и начать работать. С детства, с самого раннего, хотела быть учителем. Отработала с детьми тридцать семь лет. Я приходила к детям и про все забывала. Дети – это моя помощь. Я очень любила детей, и они мне платили тем же.
– Какими были предвоенные годы?
– В 35-м году в колхоз приехал первый колесный трактор. Сиденье открытое, колеса, бак, выхлопная труба! Все население, даже старики с бородами, прибежали его смотреть. Щупали, охали. Поехал пахать. Все меряют глубину захвата и удивляются: вот это конь! Сразу три плуга тащит! Это было большое достижение в те годы.
Потом отменили карточки, и с 1935 года начался неуклонный подъем жизни. Все стало появляться в магазинах, можно было устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Постановили так: один член семьи работает в колхозе, другой – на производстве. Заводы росли повсеместно. У нас в Рогачеве работала щеточная фабрика. В колхозе появилась конная молотилка, косилка. Женщины на работе только перевязывали снопы. А с работы идут – песни поют.
Был расцвет культуры, в каждом селе появилась самодеятельность. У нас центр – село Покровское. Каждый выходной там собиралась молодежь со всей округи. Смотрели спектакль, который дает сельская самодеятельность, но часто и из Москвы приезжали артисты.
Помню, набивался полный клуб народу, слушали песни «Все хорошо, прекрасная маркиза». Еще тогда популярен был Чарли Чаплин: «Я бедный Чарли Чаплин, не пил, не ел [ни капли], подайте мне копеечку, я песенку спою»[19].
Культура была на высоте. Собирались в клубе – ни одного пьяного, ни одного курящего. Одеты небогато, но аккуратно и чисто. Общались культурно. Нас воспитывал комсомол, большую роль играл в жизни молодежи. «Родина сказала – надо, комсомол ответил – есть!» Обязательной была сдача норм БГТО. Какая гордость, когда на груди значок «Готов к труду и обороне»! В нас воспитывали трудолюбие, скромность и патриотизм. Вот этот патриотизм и помог победить немцев.
Молодежь, наше поколение, проявила свою инициативность, героизм, потому что нас так воспитали. 37-й год – изобилие, 38-й – можно заработать и все, что хочешь, купить. Хочешь ткань на платье – любую бери, готовые вещи – пожалуйста. Обувь только кожаная. Ткани – хлопчатобумажные. В Клину открылся комбинат, везде работали ткацкие фабрики. Штапель, слышали? Вот его и выпускали. 39-й год – культура на высоте, жизненный уровень высочайший, колхозы получали огромные урожаи, скотные дворы были капитальные, скот ухоженный. Машин тогда было мало. В 40-м году вообще театры в Москве открывались, музеи подмосковные, дворянские усадьбы переделывали в музеи. Жизнь била ключом.
– А конфликта поколений не было? Как вы общались со своими родителями?
– Жизнь прожить – не поле перейти. Всякое бывало. Но старались конфликты регулировать. Комсомол нас воспитывал, учителя. И первым делом – скромность. Скромность украшает человека! Был такой лозунг. Приучали к труду.
– Начало войны помните?
– И вот 41-й год. Война. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Добровольцами шли на фронт. Очень много ребят уходило. Все наше поколение в основном погибло. Тяжелый гнет четыре года. Начиная с 42-го стали приходить похороночки одна за другой. Но вот, Оля, война сплотила людей. Все жили как одна дружная семья.
Через нашу деревню наступали немецкие войска в сторону Рогачевского шоссе. Ехали сплошным потоком машины под брезентом. Немецкие солдаты все с автоматами, а наши отступали с винтовочками. Горько было. Пережили очень многое. И бомбежку, и оккупацию – одиннадцать дней. Немцы вошли в дом, огляделись: «Все, матка, здесь будет жить немецкий зольдат». Сидел на сундуке как таракан… Но надо сказать, что насилия над населением не было. И среди немцев, даже молодых, были те, кто признавались, что никакая война им не нужна, откровенно говорили: «Загнали нас за шесть тысяч километров сюда, не знаем, вернемся мы домой или нет». Домой они не вернулись. Отступали пешком, побросали всю технику в наших непроезжих оврагах и на лесных дорогах. Их же потом этой техникой, их же оружием и били.
Конечно, тяжело было, но помогла сплоченность, дружба. Лошадей забрали на фронт, а в 42-м году надо было посевную проводить. Норма для женщины – вскопать на поле шесть соток. Копали, засевали и получали рекордный урожай. Кормили армию: «Все для фронта! Все для победы!»[20] Потом стало полегче, начали урожай со своих участочков собирать, и Бог помог: колхоз получал богатые урожаи пшеницы, ржи и овса. Идешь – рожь стоит стеной. Молотили цепами, ведь лошадей не было, чтобы воспользоваться конной молотилкой. Справлялись. Женщинам надо поставить золотой памятник. Они кормили армию и тыл.
Потом стали приходить отличные сводки: наши наступают, освобождают города. Я работала в школе, нам прислали парты из Москвы: школа имени Радищева взяла шефство над нашей семилеткой. Мы наделали флажков и отмечали на карте линию фронта – от Черного моря до Балтийского. Наступают – хорошо! Вперед, вперед, к границе! Это воодушевляло. Так и пережили войну.
Четыре года одежду и обувку можно было приобрести только на рынке. Ездили в Москву на Тишинский рынок, чтобы сандалии купить или кофточку какую-нибудь. Школьным учителям выдавали пятьсот грамм хлеба в день, и все. В 43-44-м учебном году начали каждый месяц выдавать по бутылке вина. Мы сами его не пили – все шло на какие-то нужды. Например, надо топор поточить или пилу. Мужчин же в доме нет. Бабушка говорила: «Вася приходил, поточил пилу и попросил бутылку вина, одну отдала». А что было делать? Так и жили.
Потом стало легче, появились свои продукты. Начали сажать больше овощей, запасались на целый год, ягоды собирали впрок. Сводки с фронта были хорошие. Между прочим, всю войну почта работала идеально, газеты выходили каждый день, несмотря на то что Подмосковье было оккупировано до канала имени Москвы. Помню, у нас в доме поселились шесть немцев, среди них – начальник штаба армии. Он ездил на машине, а когда намело огромные сугробы, машина застревала, приходилось вытаскивать. И вот он каждый день уезжал в восемь утра. А надо сказать, война много забрала, но и много дала. Немцы пришли одетые с иголочки, укомплектованные новейшим оружием, приборами, техникой, но они не были готовы к нашей зиме: легкие сапоги, шинелька и пилотка на голове. А тут в декабре 41-го морозы под тридцать, они отмораживали ноги, ругали русскую зиму. Настроение у них резко упало, стали горевать. И вот этот штабист уезжал утром, возвращался в три часа. Подъезжала кухня. Если не могла к дому подъехать, то солдаты приносили два термоса. Термосы! У нас их не было, термосов из нержавейки. Они кормили своего начальника, иногда и нас подкармливали. «Матка, ком! – бабушка выходила. – Дай миску!» Нальют гороховый суп, мясо там плавает. А у нас три дня ни крошки во рту. Делили эту миску на порции, ели помаленьку. Растягивали на вечер и утро.
А в другой раз несут десятки кур, уток, гусей. У штабиста был свой адъютант и повар – нас к русской печке не подпускали, мы ничего готовить не могли. И вот этот повар разделывал грудки, окорочка и жарил целый день. Наступил вечер: «Матка, лампу надо». А тогда лампа на керосине была. В Рогачеве лавка закрыта, керосин брать неоткуда. Бабушка говорит: «У меня керосина нет». Тут же немцы притащили ящик – оказалось, генератор. Подключили провода, и лампочка загорелась. Я тогда впервые электрическую лампочку увидела. А когда наши пришли, все забрали. Меня спрашивают, как жили в оккупации. Говорю, ели немецкий суп. А что делать? Голод не тетка!
Жили мы тогда вдвоем с бабушкой: отец за полтора года до войны выстроил новый дом в противоположном конце деревни. Мать там жила, брат и три сестры. Из них только одна сейчас жива.
При отступлении немцы сожгли двадцать восемь лучших домов в деревне. Люди разбрелись кто куда, по две-три семьи поселялись под одной крышей. К нам с бабушкой через сутки пришла родня, стали жить всемером. Бабушка мне помогала учиться. Когда отец уходил на фронт, сказал мне: «Позаботься о моей матери и своей бабушке». Я пошла в сельсовет и оформила опекунство. Ей был восемьдесят один год. Бабушка была мне лучше матери.
– Бабушка в Бога верила?
– Очень. Я с детства крещеная, росла в религиозной семье. Я и сейчас в Бога верю. Он есть! Творец и создатель. Какой-то высокий разум, космический, придумал и создал нас. До 37-го года мы ходили в церковь на все праздники. Потом уже церкви закрыли и нам стали вдалбливать, что это опиум для народа. Но в душе вера оставалась. Дома молились. У нас всегда иконы висели, никто их не трогал: ни комсомольцы, ни немцы, когда оккупировали. А в 43-м году церкви открыли. Говорят, по приказу Сталина.
– Расскажите, как вы узнали, что война закончилась.
– Война закончилась так. Мы пришли на урок. Был теплый солнечный день, семиклассники играли в волейбол – москвичи нам дали мячик. Сумки и рюкзаки свалены в кучу. А ни машин тогда не было, ни телефонов, никакой связи. Гонец прибыл верхом на лошади и закричал: «Все, война закончилась! Вчера подписан мирный договор, а сегодня, 9 мая, объявлен праздничным днем!» Дети хватали сумки и бросали их вверх, крича «ура», радовались вместе со взрослыми. Этот День Победы останется на века, я всегда буду его помнить. Все собрались, вытащили столы прямо на улицу, у кого что есть – на стол, и начали пировать.
После войны стали все восстанавливать: колхозы, предприятия. Наладили движение между Москвой и Рогачевым, ходили по расписанию машины немецкие. Товарный поезд ездил, но медленно, потому что дорога не везде была надежная, кое-где мины попадались. А потом движение по Савеловской дороге восстановили. На товарных поездах приезжали москвичи, ездили по деревням и меняли вещи, мыло или масло подсолнечное на картошечку, что получали по карточкам, потому что в городе картошки не было.
Все ощущали подъем: все будет хорошо. Народ изменился, появилось больше энтузиастов. Трудились, восстанавливали разрушенное. Труд – великое лекарство. Женщины оплакивали потери, конечно, но что делать… Женщины все переживут. Война без потерь не бывает.
– Я работала учительницей. В 40-м году окончила двухгодичный Загорский государственный учительский институт. В 37-м по приказу Сталина храмы и семинарии в Загорске[21] переделали в институты. Потом учителей-мужчин призвали в армию и школы остались без учителей, потому что до войны в школах работали в основном мужчины. Я после института сразу пошла преподавать. Тогда ведь было введено обязательное семилетнее образование, и стали на периферии, во всех крупных населенных пунктах, создаваться семилетние школы.











