Читать онлайн Два луидора Людовика XVI. Иронический детектив
- Автор: Александр Леонидович Горохов
- Жанр: Иронические детективы, Историческая литература, Современные детективы
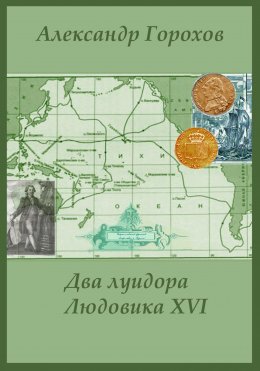
1
Сержанта и убийцу увезли еще ночью. Труп лошади – под утро, часа в четыре. Крови на асфальте почти не было.
За ночь лошадиное дерьмо примерзло к асфальту и не воняло. Человеческое тоже. Петр Романович Ломов сидел на корточках и соображал: «Конная милиция ночью на отморозков напоролась. Ну, напоролась, зачем те стрельбу подняли? Бред какой-то. Майор Стриж попал в бандита! Еще больший бред. Он только ложкой в тарелку без промаха попадает, а тут с первого выстрела уложил наповал. Зачем тут приказал остановиться? Ну ладно, это пусть сами разбирают. Хотя как одно без другого? Не разберешь. Все связано вместе. Жалко сержанта».
Ни за что не стал бы он, еще недавно лучший опер города по кличке Пролом, а теперь частный детектив, заниматься этим делом. Но уж очень просил старый приятель, начальник управления собственной безопасности полковник Кротов.
– Петя, – уговаривал Крот, – помоги, пожалуйста, что-то там нечисто. Кадры у меня, сам знаешь, молодые, опыта никакого. Помоги. Я в долгу не останусь. Подстрахую, когда понадобится. Ты меня знаешь. И работу тебе денежную подкину, и техникой, когда надо, помогу. У меня толстосумы постоянно просят то проследить за кем, то еще какой чепухой заняться. Я тебе кучу таких чепуховых дел подкину. Примешь на работу двух-трех пацанов из юридического института, они справятся. Зарабатывать кучу баксов в месяц будет твоя контора. А ты помоги мне в этом дерьме разобраться.
Зачем просил, что это за дело такое важное, Пролом из разговора не понял, но дружок как в воду глядел. Действительно, с дерьмом пришлось иметь дело. В прямом смысле.
На человеческом бурели капли крови.
– Совсем расхворался майор Стриж, – ехидно сочувствовал он старому сослуживцу. – Геморрой старика замучил. Сколько еще встреч с бандитами предстоит? Так и до пенсии не дотянет.
А было это… – продолжал размышлять Пролом. – До такого цвета кровь доходит часов за пять-шесть. Сейчас восемь двадцать одна. Значит, было это в два-три ночи. Ну, никак не раньше часа. Примерно так они и доложили.
Следы армейских ботинок сорок шестого размера с остатками человеческого добра увели его взгляд влево. В подворотню. Он знал: там, за старой, облезлой кирпичной довоенной постройки стеной из дырявой трубы всегда подтекает вода. И тут все соответствовало. Колыванов вляпался и пошел смывать.
– Эх, Колыванов, Колыванов. Пятьдесят лет прапорщику, а дня не было, чтобы не вляпался. Нету мозгов, считай, калека. «Ничего не видел, мыл ботинки». Чего принесло его в милицию? Ни таланта к сыску, ни ловкости. Только что здоровый, как медведь, – ворчал Петр.
Мартовское солнце наконец проснулось. Лучи пролезли через облака. Оповестили, что началось утро, поглядели на лошадиную кучу. Отразились желтым блеском в глаз Ломова.
– Это что еще такое? – спросил он на этот раз удивленно и вслух.
Там блестела монета. Пролом натянул хирургическую перчатку, двумя пальцами достал, отер о камуфляжную штанину, потом по привычке обнюхал и начал разглядывать.
С монеты индюковато глядел крючконосый, щекасто-зобасто-лобастый профиль Людовика 16-го. Или, как было написано на монете, – LUD XVI. На другой стороне по краю вокруг герба с короной нестройно, как всегда у французов, красовалась надпись из разных слов, разбирать которые бывшему оперу было неохота, и дата 1783.
«Столько лошади не живут», – подумал Пролом, знавший толк в лошадях. Прикинул монету на вес – тянула граммов на пятнадцать.
– Это как же ты сюда вляпалась? – спросил детектив. – Такая красавица – и в дерьме. Прямо как Колыванов.
Монета, естественно, промолчала, а вот помощник Пролома Гена Люков по кличке Глюк кашлянул и предложил:
– Романыч, давайте я к вещдокам приобщу.
– Давай, – строго поднял на него глаза Пролом, спрятал луидор в бумажник и показал пальцем на кучи: – От каждой граммов по сто.
– А эти-то зачем? Я про монету говорил, протянул Глюк с обидой.
– Для анализа, Гена. Исключительно для анализа. – Ломов встал и направился в подворотню.
Глюк вздохнул, брезгливо сморщил нос, отломил короткую ветку от старого вяза и ковырнул. Блеснул второй луидор.
– Боженька на небе сидит и все видит! – повеселел Гена. Вытащил монету, вытер о штанину, как до того сделал шеф, и спрятал в потайной пистончик на поясе брюк.
Потом перековырял каждую кучу, больше монет не было. Отобрал понемногу того, что было приказано, разложил в пакеты, спрятал в пластиковый мешок и, насвистывая «Наша служба и опасна, и трудна», побежал догонять.
А Петр Ломов соображал. Он шел быстрыми шагами по замерзшим лужам, прошлогодним, вдавленным в землю окуркам, клочкам бумаги, листьям и размышлял:
«Во-первых, надо идти в музей и расспросить о монетах. Во-вторых, ненавязчиво зайти к Стрижу и узнать о ночном дозоре. В-третьих, сходить на конюшню поговорить с лошадьми. Отставить с лошадьми. С конюхами. В-четвертых, полный анализ продуктов полураспада, но этим займется Глюк. На сегодня все».
Сзади пыхтел помощник.
– Геннадий, немедленно дуй в лабораторию, и чтобы к обеду все анализы были готовы. Группа крови, что ели, где еда выросла, когда скошена, или собрана, или куплена. И т. д., и т. п. Если хотя бы на один вопрос из этих или любых возможных других не ответишь ― выгоню.
– Петр Романович, да они за месяц на половину не ответят! Лучше я сразу это дерьмо выброшу и в охранники пойду наниматься.
Пролом понял, что перегнул. Взял помощника за локоть и заговорил задушевным голосом:
– Куда же я, Гена, без тебя? Это я так, по привычке, чтобы дело ускорить. А дело, кажется, очень перспективное. Думаю, у нас в городе еще такого не было. Крутое дело. Чтобы из лошадей выпрыгивали золотые монеты, такого я не припомню.
Потом он набрал номер начальника лаборатории по сотовому и долго, упорно, убедительно просил бросить всех экспертов на помощь Глюку.
– Тонечка, – картавя, цитировал Пролом классика, – дело архиважное. Промедление смерти подобно. Или сегодня, или никогда. Или мы их, или они. Третьего не дано. Вся надежда на вас!
– Я тебе не Надежда, – упиралась начальница криминалистов и в ответ цитировала другого классика: – Я простая русская баба, мужем битая, врагами стрелянная, живучая. Нету у меня специалистов, одни недоумки остались.
– Тонечка, помоги Генке, он тебя любит.
– А ты? – игриво кокетничала подполковник Антонина Григорьевна Вихрова по кличке Виагра.
– А уж я-то как люблю, – отвечал детектив, – слов нет описать.
– Что слов нет, это плохо. Пора бы найти слова. Как-никак детектив не из последних. Или врут?
– Стараемся, – скромничал Пролом.
– Ну, ладно, и мы постараемся. Присылай своего помощника.
– Спасибо, родная, – закончил пикировку Петр Романович. – Вперед, Гена. Тебя ждут самые лучшие и, что не менее важно, самые красивые кадры, – направил он помощника, а сам заспешил в музей.
Рост у Петра Романовича невысокий, но никому и никогда не приходило в голову считать его мелким или как-нибудь еще в этом роде. Потому, что был он крепок, коренаст, половину жизни занимался боксом, излучал уверенность и правоту, свойственную только большим людям. Не в смысле длинным, а именно большим. Носил подполковник в отставке Ломов густые, но недлинные усы, волосы ежиком и бакенбарды до кончиков ушей, которые закрывали шрам, полученный в молодости. Петр шрамов стеснялся, считал, что они не украшают, а, наоборот, позорят его как профессионала.
– Значит, не смог переиграть, раз получил по морде ножом. Тут гордиться нечем, – ворчал он иногда.
Хотя шрам получил, когда задерживал один четверых головорезов. Троих уложил. Одного просто отправил в нокаут с первого удара, с двумя другими поступил примерно также, а от четвертого не увернулся. Тот успел достать молоденького лейтенанта бритвой, но далеко не ушел, Петр, обливаясь кровью, почти не видя, на звук выстрелил и наповал уложил бандита.
Была у подполковника жена, та самая подполковник Антонина Григорьевна Вихрова. Фамилию она при замужестве менять не захотела потому, что быть Вихровой ей больше нравилась, чем Ломовой, а Петр не настаивал. Дети выросли, по родительской стезе не пошли. Сын окончил местный мединститут, аспирантуру в Москве, защитился, женился и врачевал заведующим хирургическим отделением в лучшем госпитале столицы.
Дочка тоже удалась. Окончила в университете филфак и работала спецкором московской газеты. Три года назад вышла замуж за тренера областной сборной по восточным единоборствам, родила, сейчас нянчила дочку, но связь с газетой не теряла.
В общем, все у подполковника Ломова складывалось как надо. Да и не могло быть иначе у основательного, спокойного профессионала. И быть бы ему полковником, но рухнул СССР, появились «горячие точки», и в командировке получил он очередь из автомата в спину. Вылечили, но отправили на пенсию. Деятельной натуре на пенсии было скучно. Так он и стал в сорок девять частным детективом собственного агентства, а в помощники к нему напросился сосед по палате, тоже пенсионер-оперативник не из последних, тридцативосьмилетний капитан в отставке Геннадий Люков. Работали они вдвоем, да друзья помогали.
2
Тяжеленная трехметровая дубовая дверь музея скрипела, качалась, но не пускала. Пролом тащил на себя за бронзовую ручку. Ржавые шурупы дергались, стукались огромными выпуклыми позолоченными головками о глазницы львов, в которые были вкручены, вроде как сочувственно моргали, но дверь не открывалась. Подполковник хотел призвать Господа, поднял голову, увидел звонок, спрятанный в углу от дождя под куском велосипедной камеры. Позвонил. Через минуту дверь шелохнулась, но не открылась. – Помогите! – крикнули оттуда.
Ломов уперся ногой в стену. Потянул. Дверь поддалась, появилась щель. Ломов тянул, оттуда толкали. Дверь упиралась, цеплялась за гранитный пол. Когда образовалась щель, выглянула старушка, заполнила худеньким телом проем, резко наклонилась, толкнула задом, и дверь открылась.
– Заходь, сынок, – разрешила она. – Ныне в музей никого не заманишь, а ты сам пришел. Никак нужда есть?
– Есть, мать, нужда. Кто у вас тут старинными монетами занимается?
– Занимается! – обрадовалась старушка. – Нумизматикой профессор Плейшнер занимается! – Знакомая фамилия! ― обрадовался Пролом.
– Знакомая, милый, еще бы не знакомая. Это мы его так прозвали. Похож очень на Евстигнеева, а на самом деле он профессор Винярский Виконтий Львович. Знаток редкостный. С ним из Москвы приезжают советоваться. Знает все. От антика до Китая. Иди за мной.
По деревянным ступеням она провела подполковника на второй этаж, постучала в низенькую, с овальным верхом дверь, глянула в щелку, поднесла палец к губам и замерла. За дверью заскрипел пол, послышались шаги. Вышел Евстигнеев-Плейшнер.
– Виконтий Львович, это гражданин к вам. Опять еле дверь открыли. Вы уж директору скажите, нас он не слушает.
– Скажу, Варвара Тихоновна, обязательно скажу. Только вы мне напомните.
Привратница ушла.
– Проходите. Чем могу? – спросил Винярский и пошел назад к столу с разложенными бумагами, включенным компьютером. Было заметно, что он в той работе и отрываться от нее не хочет. ― Присаживайтесь. Подождите, пожалуйста, минутку, а то мысль убежит. Потом не вернешь. Мне осталось строк пять написать.
Ломов знал, что такое убегающая мысль. Понимающе кивнул. Стал разглядывать кабинет.
Выбеленная обычной известкой небольшая комната со сводчатым потолком походила на келью, в которую притащили десяток книжных шкафов, расставили вдоль стен с фотографиями монет и медалей, в угол впихнули продавленный диван, обтянутый коричневой кожей, протертой лет за шестьдесят каждодневного сидения. В безликой мебели выделялся стол. Большой, темный, украшенный инкрустацией из светлого дерева. С зеленым сукном поверху. Столешницу держали на плечах львы с когтистыми лапами. Удивительно, но компьютер не делал его современным. Наоборот, монитор казался не нынешним, а оттуда, из башни Мерлина или еще какого средневекового колдуна.
– Прошу еще раз извинить, уважаемый Петр Романович, я вас внимательно слушаю.
Пролома редко чем удавалось удивить, Плейшнеру удалось. Он думал, что профессор начнет нести наукообразную бредятину, закатывать глаза, рассказывать о бескорыстности и высоком назначении науки, а этот неизвестно откуда знает его.
– Да вы не удивляйтесь. Лет двадцать пять тому вы заходили к нам. Тогда нас ограбили. Украли иконы, кортик времен Павла. Вы осматривали окна, витрины. Потом нашли воров. Возвратили все в музей, говорили речь. Мы хлопали, благодарили. Вам было не до младшего научного сотрудника из отдела орденов и монет. А я вас запомнил.
– Да? – Петр Романович пытался вспомнить. Действительно припомнил про ограбление, но при всей своей уникальной зрительной памяти Винярского вспомнить не мог.
– Да я из длинноволосого выпускника университета с тех пор стал лысым ветераном музейного движения. Стал, как тут коллеги шепчутся, Плейшнером, – засмеялся профессор. – И не пытайтесь вспомнить, не выйдет. Однако слушаю вас внимательно.
Ломов достал из бумажника луидор, протянул хозяину кабинета:
– Чем больше вы мне про него расскажете, тем проще мне будет работать дальше.
Винярский взял монету, но не как берут сдачу в магазине, а по-особенному. Профессионально, с любовью и нежностью. Так хороший хирург берет инструмент на операции. Твердо и бережно одновременно. Через большое увеличительное стекло он долго рассматривал по очереди обе стороны, торцы монеты. Бормотал себе под нос нечто непонятное. Потом вернул монету и заговорил.
– Это двойной луидор Людовика Шестнадцатого. Монета золотая, редкая, дорогая. Но не настолько, чтобы из-за нее людей убивать. Состояние хорошее, хотя есть небольшие непрочеканы. Весить должна 15,5 грамма, но поистерлась и сейчас весит, наверное, на четверть грамма поменьше. Стоит…
«Начнет сейчас городить про бесценность музейных экспонатов», – поморщился Пролом. Но профессор, помолчав с минуту, сказал:
– На недавнем аукционе в Москве за подобную монету давали двадцать две тысячи рублей.
– Всего-то, – задумчиво протянул подполковник.
– За подобную! – Профессор поднял указательный палец вверх. – Вряд ли кто вам скажет про эту монету больше. У нас в городе никто. В стране, пожалуй, найдется несколько профессионалов.
– Я вас внимательно слушаю, профессор. – Петр Романович почуял, что не зря пришел в музей.
– Среди профессионалов ходит легенда. – Виконтий Львович встал из-за стола, подошел к спрятанному за шторой холодильнику, достал бутылку с минеральной водой, два стакана. В один налил себе, в другой подполковнику. Выпил. Снова сел в кресло. Было видно, что он волнуется.
– Вы, конечно, обратили внимание на дату, выбитую на монете. 1783. Это ровно за десять лет до казни того, кто на ней изображен. Но не это главное. Говорят, что весной того года он посетил монетный двор. Осмотрел хранилище и взял наугад из сундука две монеты. Посмотрел на них. Побледнел. Спрятал за отворот рукава и спешно ушел.
Что короля потрясло, никто точно не знал.
Говорят, он после этого несколько ночей не мог уснуть, потом для успокоения нервов пил опий, лечился, в конце концов о монетах вроде бы забыл. Но стал вялым в делах, со всем соглашался, что, вероятно, в конечном итоге ускорило его собственную гибель. Когда началась революция, Людовик переехал из Версаля в Париж, тайно, по наущению женушки, готовил вступление войск Австрии и Пруссии во Францию. В 1791 году вместе с семьей бежал, но был опознан, схвачен и в 1793 году гильотинирован. Заметьте, ровно через десять лет после той даты, которая стоит на монете. Эти события знают все, в том числе и вы, а если запамятовали, можете прочесть в любом учебнике истории в главе о французской революции.
Редко знают вот что. В 1791 году Людовик 16-й с семьей бежал из Парижа. В июне добрался почти до границы и, может быть, успешно перебрался бы через нее, но подвела случайность. А может быть, совсем не случайность, а то, что давно было предрешено. В местечке Варенн надо было заплатить за какую-то чепуху. Жена с большим кошелем, спрятанным там же, где прячут женщины деньги и теперь, дремала. Людовик не захотел ее будить, поискал, нашел двойной луидор в рукаве, облегченно вздохнул и отдал. Луидор показался фальшивым. На щите не было трех лилий, а крест на короне над двумя щитами был наклонен. Завязалась перебранка. В спор вмешался почтовый чиновник по фамилии Друэ, стал внимательно рассматривать и понял, что профиль на монете такой же, как у господина, давшего ее. Узнал сбежавшего короля. Поднялся шум. Людовика схватили и, уже как пленника, вернули в Париж.
– Вы хотите сказать, – вступил Петр Романович, – что эта монета была именно той бракованной, без лилий на щите и согнутым крестом на короне, из монетного двора. Что она напугала Людовика Шестнадцатого тогда, как предзнаменование.
– Именно.
Детектив поглядел на луидор, найденный утром. Лилий не было. Крест над двумя щитами согнут.
– Да, – согласился он, – действительно дурное предзнаменование. Но не смертельное.
– Смертельное на другом луидоре! – воскликнул профессор.
– На второй монете через всю шею пролегает черта. То ли волос со щетки попал на форму, то ли еще что, но сами понимаете. Если смотреть на монеты по очереди, то получается, что сначала гибель короны, сиречь революция, а затем гильотина. Что и произошло через четыре года.
– После такого поверишь в предсказания, – согласился Пролом.
– Поздравляю. У вас в руках монета, которая стоит в тысячи раз больше аукционной. Украшение любой коллекции, – завершил Виконтий Львович. Потом взглянул на подполковника и добавил: – Считалось, что эти две монеты потеряны. Потом появились в России во времена Павла. Ходили слухи, что он велел их переплавить, чтобы не накликать беду на себя, но не успел – убили. Потом появлялись при Александре Втором, вы знаете, его взорвал бомбист Гриневицкий. Говорят, что после смерти остались монеты у его второй жены – княгини Долгорукой, которая спрятала их во дворце и со страху забыла где. Якобы через много лет сын Николая Второго царевич Алексей случайно нашел. Что было потом, вы тоже знаете.
– Знаю, знаю. Все знают, – задумчиво проговорил Петр Романович.
– Дозвольте полюбопытствовать, – все-таки решился спросить Винярский, – а вторая монета вам не попадалась?
– Пока нет, но все возможно, – рассеяно проговорил детектив.
– Вы знаете, я с этими железячками почти всю жизнь. – Виконтий Львович пододвинул кресло вплотную к подполковнику и полушепотом быстро начал говорить: – Вот что я скажу. Это не просто серебряные или золотые кругляшки или квадратики. Это нечто большее. Вспомните тридцать сребреников Иуды. Вспомните разные таланты, оболы и прочее. Думаю, вы не просто так пришли ко мне. Думаю, вас ведет судьба. Доведите это дело до конца. А не то может быть большая беда.
Подполковник поднялся. Пожал профессору руку, поблагодарил и покинул кабинет. Винярский закрыл за сыщиком дверь. Хмыкнул, махнул рукой, подумал: «Ох, и нагородил я этому подполковнику чуши! Ну да ладно. По сути-то примерно так и было. А что ему до того, что Друэ встретил карету не в Варенне, что узнали Людовика по портрету, а не по монете, какая разница? А все-таки, чего меня понесло на беллетристику? Ну да ладно». Винярский снова махнул рукой, сел в кресло, взял ручку и продолжил править статью.
Ноги вели Ломова в отделение конной милиции.
– Вот тебе и монетка в дерьме. Тут самому бы, как прапорщику Колыванову, не вляпаться.
На душе у него стало тоскливо. Простое дело обрастало мистикой и смертями.
– Ладно, разберемся. Виновные будут наказаны в соответствии со всей строгостью закона, ― подбодрил себя Пролом любимой присказкой.
3
Глюк краснел, бледнел под напором женских издевок в лаборатории криминалистики, но дело свое делал.
С удивлением он узнал, что майор Стриж, который всегда ходит в потертом, старом мундире и жалуется на безденежье, любит закусывать французский коньяк десятилетней выдержки черной икрой и делает это раза три в день.
– То-то его, оборотня, кровит, – позлорадствовал Глюк.
А вот прапорщик Колыванов предпочитает пироги с капустой. Ему Геннадий всегда симпатизировал. Простой, безотказный, невезучий служака, побольше бы таких.
Много о чем еще узнал Глюк в лаборатории и про людей, и о лошадях.
Кормили тех не по норме, нерегулярно.
– От такой еды золотые монеты, как курочка ряба, нести не станут, – размышлял отставной капитан и просил жену своего шефа постараться разгадать, как у лошади в брюхе, а потом в навозе монеты оказались.
Та отмахивалась. Говорила, что и так все ясно.
– Не, ничего не ясно! – настаивал Глюк и добил криминалистов.
В конце концов, Антонину Григорьевну осенило. Она собственноручно села за недавно полученный в качестве гуманитарной помощи от швейцарских криминалистов прибор, и после двухчасовой ворожбы иностранная техника, помноженная на ее смекалку и опыт, дала ответ.
– Вот что я вам, Геннадий, скажу. Монета ваша в лошадиное, извините, дерьмо попала не из лошадиной задницы и тем более не из лошадиного брюха! – озвучила этот ответ подполковник от криминалистики.
– А откуда? – оживился Глюк. Он почти знал, что должен быть такой ответ. Надеялся на него, и вот, техника не подвела.
– От верблюда! – разозлилась Антонина. Она-то думала, что Глюк восхитится умом и умением, а этот мужлан обидел ее, сразу брякнув: «Откуда?»
– Там верблюжьего не было! – уверенно ответил внимательный капитан.
– Эх, Глюк, ты и есть Глюк! Композитор без оркестра. – Антонина покрутила у виска пальцем.
– Не понял? – Гена моргал глазами, потом сообразил и в ответ тоже съязвил: – Верблюда – это вы в том смысле, что не знаете откуда.
– Верблюда – это в том смысле, что ты, Гена, мог бы и восхититься техникой и тем, как я на ней работаю, сколько сил на твое дерьмо потратила. А ты как козел заблеял: «Откуда, откуда!» – С возрастом Антонина Григорьевна стала немного обидчивой и немного сентиментальной. На глазах у нее выступили слезы.
Геннадий понял свою психологическую оплошность, поцеловал подполковнице руку и закатил речь о ее гениальности и талантах. Извинения были приняты, и Виагра рассказала, что провела послойный томографо-спектральный анализ, из которого выяснила следующее:
– В одном из слоев присутствуют следы переваренного в желудке лошади овса и сена, – это понятно.
Глюк кивнул головой и сказал:
– Так!
– В следующем слое частицы хлопка, окрашенного в цвет хаки. – Виагра поглядела на штаны Глюка и вздохнула.
– Так! – Глюк тоже поглядел на свои грязноватые полувоенные штаны.
– Далее отпечатки твоих немытых лап, – продолжала Антонина Григорьевна. – Они у меня есть в картотеке, да я и без этого их давно наизусть помню.
– Так, – снова кивнул Глюк.
– А вот дальше, Геннадий Петрович, самое интересное. Слушай внимательно, повторять не стану. – Виагра начала говорить, как будто читала протокол: – На ближних к золотой поверхности монеты слоях обнаружены фрагменты отпечатков пальцев, принадлежащих четырем мужчинам. Один неизвестный, сорока девяти лет, имеет нарушения обменных процессов, по которым можно сделать вывод, что его вес значительно больше среднего.
Второй: тридцать семь лет, рост один метр семьдесят восемь сантиметров. Мускулистый, спортивного вида, волосы темно-русые, глаза зеленовато-карие, вместо левого верхнего клыка золотая фикса.
– Это все прибор? – Глюк пораженно ткнул пальцем в ящик с дисплеем.
– Это все я, – гордо ответила Виагра. – А прибор дал фрагменты отпечатков двух его пальцев. Большого с одной стороны монеты и указательного – с другой. Причем эти отпечатки послойно до и после отпечатков толстяка с разницей минут в пять. Как будто он показывал тому монету. Эти отпечатки в нашей картотеке есть. Принадлежат очень скользкому типу, Лужину Виктору Валерьевичу. Лужин проходил по пяти делам, и ни разу не смогли привлечь. Не хватало доказательств. Пальцев еще двух мужчин в нашей картотеке нет. Но могу сказать, что держали монету они не более чем месяц назад.
А вот следов лошадиного брюха на монетах нет.
Глюк присвистнул.
– Не свисти, денег не будет.
– А это! – Глюк показал на золотой луидор.
– Это для музея, а не для гастронома. Ты его, кстати, уже можешь взять. Наверное, дорогущий, – предположила Антонина Григорьевна.
– Шеф как раз это узнает, – ответил Геннадий, – в нашем музее.
– Ну-ну, – скептически хмыкнула Виагра, имевшая несколько раз дело с местными учеными. – Хотя там есть один корифей.
Геннадий говорил последние фразы рассеянно. Он был потрясен возможностями техники и ее хозяйки. С минуту потоптался около прибора, сказал «спасибо» и направился к выходу.
– Геночка, – ласково окликнула его напоследок Виагра, – вот тебе портрет и адрес Лужина по прошлогодним данным, а заодно результаты экспертизы. Удачи.
Она протянула Геннадию несколько листов в пластиковом пакете. Глюк сказал очередное «спасибо», поклонился ученой женщине и, потрясенный, вышел. Но через минуту холодный ветер привел его в чувства, он повеселел, зашагал бодрей, а еще через минуту стал насвистывать в ритме марша любимую песню про службу, которая, как вам уже известно, и опасна, и трудна.
4
Стрижа и Колыванова Ломов на службе не застал. Дежурный рассказал, что они выпили за сержанта и разошлись.
– Жалко парня, совсем молоденький был. – Пролому всегда становилось муторно, когда гибли из-за каких-то сволочей люди. Даже незнакомые – Да он жив, – сказал дежурный. – Да, а мне сказали, убит.
– Не, без сознания. Не знают, выживет ли. Но живой. Будем надеяться.
Пролом повеселел, хмыкнул о всегдашней неразберихе и пустомельстве и стал расспрашивать дежурного о подробностях.
Узнал, что Стриж орал и валил все на Колыванова, а тот угрюмо оправдывался. Узнал, что майор Стриж в последнее время был дерганым, ко всем придирался, а Колыванова съедал со свету. Собственно, ни Стриж, ни Колыванов ему особенно были не нужны. Пролом не очень-то верил в их причастность к убийству третьего патрульного. А тут оказывалось, что того, к счастью, не убили. Поэтому продолжал разговор скорее по привычке выполнять все намеченное. Так сказать, для галочки в собственном плане. Он с начальником отделения выпил за здоровье сержанта, чтобы тот выжил.
– Выжил и дал показания, а то от этой парочки ничего не добьешься, – пожаловался начальник на Колыванова и Стрижа.
Потом они пили чай. Ломов слушал последние новости милицейской жизни. Начальник сказал, что завтра возьмет с Колыванова и Стрижа рапорты. Добавил, что сержант, Бог даст, выживет, попрощался и уехал в управление.
Петр Романович остался. Сидел на диване, слушал дежурного по отделению о том, что сержант был совсем молодой, только отслужил в армии, что еще не успел жениться. Хотя теперь это вроде бы и неплохо – хуже было бы, если б остались дети-сироты.
– Ты это брось, парень еще живой! – возмутился Ломов.
– Наши медики и здорового угрохают, а этот в коме.
Такие разговоры Пролом слышал каждый раз, когда плохое случалось с кем-нибудь из своих. Разговоры, что лучше и что хуже, были нелепыми по сути, но Ломов понимал – говорили про худшее, чтобы не спугнуть надежду. Чтобы черт, который подслушивает, не добил раненого. Да и просто людям надо выговориться, поэтому сочувственно кивал, соглашался. Пил вместе с другими, но всегда было тоскливо, муторно на сердце и любые слова злили.
«Уж лучше бы молчали», – думал Пролом, но обычай есть обычай. Каждый в таких делах примеривает и ранение, и смерть на себя и не зарекается от нее, как от сумы и от тюрьмы.
Позвонил Глюк, доложил о сногсшибающей информации и предложил немедленно увидеться.
Время было обеденное, и Ломов, чтобы снять злость на бандита, хоть и мертвого, убитого Стрижом, успокоиться, сосредоточиться на деле и подсластить жизнь, назначил встречу в кафе «Лакомка».
Страсть к сладкому была одной из немногих слабостей подполковника. Он не упускал случая, чтобы не съесть бисквит с кремом из смеси каких-нибудь личи и киви, запить его кружечкой экзотического чая и закусить суфле с необычной орехово-коричной или какой другой начинкой.
На этот раз знакомый шеф-повар предложил песочное печенье со взбитыми белками, миндалем и кешью. Сделано все это было как корзиночка, внутри которой колебалось желе и горкой громоздились маленькие алые клюквинки с одной ярко-желтой морошкой посредине. Чай был обычный, черный, но с какой-то нежной и ароматной травой. Ломов думал о происшедшем, горячий чай согревал, успокаивал, отвлекал. Он начал гадать, что за трава была в заварке, пил третью чашку. Название крутилось, но не отгадывалось.
– Приятного аппетита, шеф. – Глюк плюхнулся в кресло напротив и подозвал официанта.
Ему тут же принесли здоровенный эскалоп с жареной картошкой и кружку пива.
– Извините шеф, что за столом передаю вам такое, но дело не терпит отлагательств. – Люков не склонен был к сентиментальным философствованиям о жизни и смерти. Гордость от добытых сведений переполняла. Он растянул рот в улыбке, выложил перед Проломом первый листок, в котором было описано, чем питались их бывшие коллеги, и погрузился в трапезу.
Подполковник прочитал. Покраснел. Перечитал снова, потом смял листок и засунул в карман.
– А я с этой сволочью столько лет служил бок о бок, – мрачно подытожил он. Потом повеселел и продолжил: – А вот Колыванов-то молодец. Наш человек. Не продался за рюмку коньяка. Надо будет этого Стрижа прокачать как следует. Народ в отделении говорит, что он Колыванова сжирает. Если что, возьмем мужика к себе.
– Возьмем, нам хорошие люди нужны, – согласился Глюк и спросил: – А как в музее?
– А в музее вот что. – Подполковник перешел на шепот и рассказал помощнику все, о чем поведал Винярский. – Так что, Гена, чует мое сердце, должна объявиться еще одна монета.
Глюк подмигнул шефу, вытащил из пистончика монету и с размаху, как доминошкой, шлепнул ею по столу:
– А вот и она!
Потом достал из пакета остальные листы экспертизы и также звонко, будто играл в карты, шлепнул ими по столу.
Пролом изучил шею Людовика на монете, покачал головой, поцокал языком, чего с ним раньше не случалось, внимательно прочитал остальные листы и заключил:
– Геннадий Петрович, я тобой горжусь. Где же ты отыскал вторую монету?
– Да там же, где и первая была, только поглубже. Извините еще раз, не за столом будет сказано.
– Да какой уж тут стол! – Петр Романович был потрясен. – Ген, Тоня говорила, что им технику новую по гуманитарной помощи завезли, но чтобы такое! Я никогда бы не поверил. Вот империалисты! Но ты, Геннадий Петрович, еще больший молодец. Нашел второй луидор да еще сообразил передать для анализа! Молодец!
Ломов заказал два коньяка. Коллеги чокнулись, выпили за неизвестного им сержанта, потом за технический прогресс и приступили к обсуждению дальнейших действий.
– Итак, милиция занимается убитым бандитом. Данных о нем пока нет. Когда появятся, Кротов сообщит. А у нас на первое место выходит Витек Лужин, – говорил Пролом. – Вообще-то портрет оставь себе, я его и без портрета знаю. Надо идти к нему. Если повезет, застанем самого, а нет, так дома пошерстим, авось чего и отыщем.
Ломов помолчал и, как бы самому себе, пробормотал:
– Боюсь, что у него найдутся защитнички. – Помолчал и закончил: – И не только шахматные.
Потом, не принимая возражения Глюка, расплатился за все, что было на столе, и они отправились по адресу, указанному в Антонининой справке.
5
Квартира Лужина была на третьем этаже кирпичной «хрущевки». Железная грязно-коричневая дверь. Два простеньких замка. Пластмассовая ручка. Звонок. На звонок, конечно, никто не вышел.
Ломов вытащил из кармана отмычку, покрутил в руках. Представил, как проскрипит металлическая дверь. Как потом он откроет обшарпанную деревянную. Как они войдут в коридор. Увидят старое трюмо, вешалку с четырьмя крючками, осенним пальто или курткой, зонт, внизу будут валяться стоптанные ботинки, драные тапочки. Как услышат в углу урчание холодильника. Заглянут в туалет, совмещенный с ванной. Там будут ржавые, покрашенные лет сорок назад голубой краской трубы, капающие краны. Возле стены наискось будет стоять деревянная дырка для унитаза.
Подполковник вспомнил, что в семидесятых, когда сам жил в такой квартире, это совмещение юмористы называли гавванной. Вспомнил, как они с Тоней были рады первой собственной квартире. Как покупали после каждой получки сперва раскладной диван, потом холодильник, потом еще что-то. Куда это потом девалось? Как ломалось, заменялось на новое?
Он знал, что в комнате будет стоять шифоньер и сервант из ДСП. Криво прикрученные дверки, того гляди, отвалятся, потому что шурупы не держатся в таких древесно-стружечных плитах. Знал, что под бельем или в старой женской сумочке среди квитанций за квартиру, газ, свет найдутся какие-нибудь документы и немного денег, рублей триста.











