Читать онлайн Призванные, избранные и верные
- Автор: Валерия Алфеева
- Жанр: Книги о путешествиях, Паломничество
Размер шрифта: 15
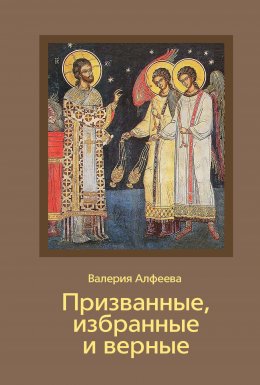
…Вы – род избранный, царственное священство,
народ святой, люди взятые в удел,
дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы
в чудный Свой свет.
1 Петра 2:9
© Алфеева В. А., текст, 2024
© Издательский дом «Познание», оформление, 2024
Пасха та́инственная
Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.
Послание к Римлянам 6:8–9
Продолжить чтение











