Читать онлайн Горная хижина
- Автор: Сайгё
- Жанр: Стихи и поэзия, Зарубежная классика, Зарубежная поэзия, Зарубежная старинная литература
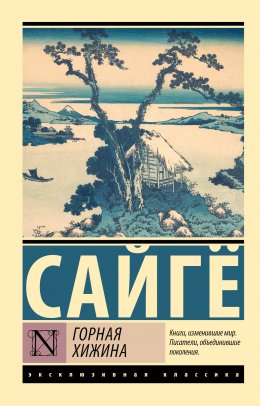
© Перевод. В. Маркова, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие
По дороге странствий волей или неволей кочевали многие поэты. Как вечные странники остались в памяти людей китайский поэт Ду Фу, таджикский поэт Саади. Дорога служила источником вдохновения. В стихах Саади звучат караванные колокольчики[1].
Посох в руке, изголовье из травы, узкая тропа через горы – так странствовали японские поэты. Впервые образ поэта-скитальца создал в Японии Сайгё.
Человек необычной судьбы, Сайгё оставил дворец ради горной хижины.
Книга его стихов «Горная хижина» прославлена в японской поэзии. О нем уже вскоре после его смерти стали создавать легенды. Художники в сюитах картин на свитках изображали его странствия. К местам, некогда им воспетым, совершались паломничества. И даже теперь, спустя восемь веков, Сайгё четко и ясно выступает из глубин Средневековья. Так навечно запечатлен орлиный профиль Данте. И так же, как Данте, Сайгё до сих пор остается загадкой, несмотря на кропотливые изыскания многих исследователей.
Поэзия его кристально ясна и проста, но вмещает в себе сложнейший мир мыслей и чувств. Буддийский монах, он был влюблен в красоту природы до одержимости. Натура страстная, мятущаяся, он стремился к спокойному созерцанию, но исторические бури постоянно мешали этому. Певец печали, сумерек, одиночества – писал стихи о детских играх.
Бежал от людей и тянулся к ним. Воин по происхождению – ненавидел войну. Изобразил мучения буддийского ада, а по существу – бедствия своего времени. Но Сайгё не мог бы написать на вратах ада: «Оставь надежду навсегда». Он верил, что даже на дно геенны может сойти милосердие, несущее свет.
Сайгё – поэт мысли, но, даже достигая больших философских глубин, равнодушно мыслить он не может. Его картины природы, в сущности, – «пейзаж души». Скорбь Сайгё пронзительна, радость постижения красоты обжигает болью. Но даже доведенное до предела напряжение чувств разрешается в стройной гармонии, классически уравновешенной.
Японская лирика достигла в XII веке высокой степени совершенства. Поэтическая мода того времени требовала изощренного искусства версификации, «техницизма». Стихотворец, подобно атлету, должен был как бы напрягать свои мускулы: сложнее, еще сложнее!
Сайгё противопоставил моде простоту, очень непростую. Стихи его словно выливаются из сердца, естественно, с внутренней свободой, им не нужны украшения, призванные замаскировать подражательность и пустоту.
«Сайгё творил стихи, а другие их сочиняли», – сказал о нем его младший современник, знаток поэзии и сам замечательный поэт Фудзивара-но Садаиэ (1162–1241).
«Он не искал словесных украс, но говорил ясно и точно, вот почему так легко слушать его стихи». Эти слова высокой похвалы принадлежат Дзюнтокуин, поэту, жившему веком позже.
Творчество Сайгё питало собой всю последующую японскую поэзию. Многие талантливейшие поэты считали себя его учениками. А быть учеником Сайгё не значило подражать ему, для этого Сайгё слишком неповторимо самобытен. Это значило – жить для поэзии.
Двенадцатый век – «смутное время» Японии, переломное и бедственное. Сайгё «посетил сей мир в его минуты роковые».
В стране шла борьба за власть между старой родовой знатью и военными феодалами. Военные феодалы тоже разделились на два противоборствующих лагеря.
Оплотом аристократии был старый культурный центр страны с блещущей великолепием столицей Хэйан (ныне г. Киото). Главным оплотом военных феодалов – Северо-восток. Грубые и боевитые самураи в глазах утонченных аристократов – «восточные варвары». Но именно на этих «восточных варваров» работали силы истории. Крестьяне, задавленные непосильными поборами, бросали свои наделы и вливались в самурайские дружины.
Стремительно шла к закату прославленная в истории японской культуры хэйанская эпоха (IX–XII вв.). Конец ее отнюдь не мирный, прошлое уходило в судорогах и крови.
В пламени пожаров и междоусобиц гибнут дворцы, наполненные сокровищами искусства, зарастают травой, потому что хозяева скрылись неведомо где. Вместо раззолоченного экипажа ценится конь под седлом: он поможет в бою, бегстве и скитаниях. Высшие сановники, князья церкви, даже императоры узнали тяготы жизни: бесприютность, ссылку, забвение.
Ужасны народные бедствия: огонь и меч, голод, моровые поветрия косили людей. Земля дрожит, море выплескивается на берег, словно все стихии ополчились на человека.
Аристократический род Фудзивара, долгое время правивший Японией, теряет политическое влияние. Еще в XI веке главари этого рода были на вершине славы и могущества. В XII – им осталось оплакивать былое.
На арену вышли два воинственных феодальных рода, Тайра и Минамото, и схватились между собой в яростной борьбе на взаимное уничтожение. Эпизоды этой междоусобицы живут в народном эпосе, на подмостках театров Но и Кабуки, в романах, а в наши дни – во многих кинофильмах.
Сайгё (1118–1190) родился в один год с будущим диктатором Японии Киёмори из рода Тайра. Сайгё, или Сайгё-хоси (хоси – монашеское звание) – прозвище поэта, означает оно «К западу идущий». На западе, согласно учению некоторых буддийских сект, помещается рай будды Амида (санскр.: Амитабха). Огонь закатного солнца казался отблеском этого рая.
Подлинное имя поэта – Норикиё. Он принадлежал к знатному воинскому роду Сато, который числил своим предком одного из представителей северной ветви Фудзивара. Мать Сайгё происходила из рода Минамото.
Семья поэта сохранила наследственные связи с военными феодалами и в то же время была тесно спаяна со старой придворной служилой аристократией. Такое межеумочное положение было очень характерно для того переходного времени.
Биография Сайгё окружена дымкой легенд, лучше всего он сам рассказал о себе в своей поэзии. Он рос в Хэйане (Киото), когда будущая трагедия этой столицы только еще подспудно назревала. Хэйан для него навсегда «старое селенье», любимый, родной город.
Сайгё с малых лет учили владеть оружием. Он был, как рассказывают, силен и ловок, отличался в игре с ножным мячом, метко стрелял в цель. В то же время изучение китайской классики (истории, философии, поэзии) было обязательным для каждого знатного юноши. Каждый умел сложить при случае пятистишие-танка, это входило в светский обиход и, в общем, не слишком затрудняло: существовал набор стереотипов. На низшем уровне танка превратилась в аксессуар придворного быта, но она продолжала жить как высокая поэзия.
Сайгё рано осознал свое поэтическое призвание как единственно для него возможное. Для творчества нужна духовная свобода, но разорвать феодальные узы вассальной службы не так-то легко. Система феодализма с самого рождения намертво закрепляла человека на уготованном для него месте.
В юности Сайгё принадлежал к «воинам северной стороны», то есть к гвардии, охранявшей императорский дворец, – должность не столько боевая, сколько церемониально-декоративная. Служил он экс-императору Тоба (годы жизни: 1103–1156), человеку нелегкой судьбы.
Феодальные властители Японии предпочитали видеть на троне детей, которые были в их руках послушными марионетками. В возрасте двадцати лет император Тоба был вынужден отречься от престола и принять монашеский чин. Впрочем, иноческому искусу он не предавался и продолжал вести светский образ жизни.
Любовь к японской поэзии (танка) традиционно культивировалась при императорском дворе. Устраивались поэтические состязания. Каждый император хотел, чтобы в его время появилась особо замечательная антология и, увековечив его имя, способствовала блеску царствования. Некоторые императоры сами были выдающимися поэтами. Просвещенный государь старался привлечь к своему двору талантливых поэтов, тем самым неизбежно превращая их в царедворцев. Вот почему многие поэты стремились творить в отдалении от двора.
Танка – буквально «короткая песня». Как песня, зародилась она в недрах народного мелоса, но когда – на этот вопрос нелегко ответить. Трудно даже назвать столетие. В первых дошедших до нас записях, датированных VIII веком, уже можно выделить очень древние и старинные песни, где слышится звучание хора. Вначале танка – общее достояние народа. Даже когда поэт говорил о своем, он говорил для всех. Единственное и неповторимое шло из общего источника и к нему возвращалось.
Поэтому так богата и многоцветна первая поэтическая антология «Манъёсю» («Собрание мириад листьев», VIII в.). В ней собраны не только танка, но и «длинные песни», не ограниченные размером.
Глубина чувства, искренность и простота роднят Сайгё с поэтами «Манъёсю».
Выделение литературной танка из песенной стихии совершалось очень медленно. Ее до сих пор читают напевно, следуя определенной мелодии. С танка тесно связан момент импровизации, поэтического наития, она словно сама рождалась на гребне эмоции.
Танка – долгожитель в мире поэзии, по сравнению с ней европейский сонет совсем молод. Ее структура выверена веками: в танка сказано немного, но как раз столько, сколько нужно.
Метрическая система предельно проста. Японская поэзия силлабична. Танка состоит из пяти стихов. В первом и третьем пять слогов, в каждом из остальных по семи: для танка характерен нечет.
И, как следствие этого, постоянно возникает то легкое отклонение от кристально-уравновешенной симметрии, которое так любимо в японском искусстве.
Ни само стихотворение в целом и ни один из составляющих его стихов не могут быть рассечены на две равновеликие половины.
Гармония танка держится на неустойчивом и очень подвижном равновесии. Это один из главных законов ее структуры, и возник он далеко не случайно.
В старинной поэзии, как россыпь драгоценных камней, которые можно было поместить в любую оправу, хранилось великое множество постоянных эпитетов и устойчивых метафор. Метафора привязывает душевное состояние к знакомому предмету или явлению и тем самым сообщает зримую, осязаемую конкретность и словно останавливает во времени.
Слезы трансформируются в жемчуга или багряные листья («кровавые слезы»). Тоска разлуки ассоциируется с влажным от слез рукавом. Печаль об уходящей юности персонифицируется в старом дереве вишни…
В маленьком стихотворении каждое слово, каждый образ – на счету, они приобретают особую весомость, значимость. Поэтому очень важна была символика – знакомый всем «язык чувств».
Унаследовав огромное богатство народного творчества, танка перешла в литературную поэзию. Танка стали шлифовать и гранить многоопытные мастера, знакомые с китайской классической поэзией. Стихи великих китайских поэтов эпохи Тан – Бо Цзюй-и, Ду Фу не были просто модной новинкой, но вошли в плоть и кровь японской литературы.
Танка – маленькая модель мира. Стихотворение разомкнуто во времени и пространстве, поэтическая мысль наделена протяженностью. Достигается это разными способами: читатель должен сам договорить, додумать, «дочувствовать».
У танка историческое прошлое, она как бы перекликается с веками, но великие поэты, как Сайгё, всегда говорят по-новому. Стихи Сайгё уходят в будущее. Поэзия всегда ощущалась в старой Японии как связь времен, и даже более того: ее наделяли божественной жизнетворной силой.
Конечной рифмы танка не знает, но недаром ее по-прежнему зовут «песней»; она превращает человеческую речь в музыку.
Уже в IX веке были созданы поэтические каноны, непререкаемые образцы высокого искусства.
Особой славой пользовалась антология «Кокинсю» («Собрание старых и новых песен», 905 г.). Сайгё в свои преклонные годы советовал молодым поэтам изучать «Кокинсю».
В «Кокинсю» были установлены и закреплены поэтические темы. Архитектоника ее очень стройна. Каждая танка самоценна, но, следуя друг за другом, они как бы получают дополнительные цвета. Расположены стихи по тематическим разделам.
Главное место занимает лирика природы и любви. В разделах «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» создана движущаяся панорама времен года от первого и до последнего дня. Человек неотделим от природы, он живет в ее ритме, а природа – зримый образ его душевного мира.
В «Кокинсю» есть и другие разделы: «Славословия», «Разлука», «Путешествия», «Плачи». Мощно звучит тема любви.
В сборном цикле «Разные песни» открывались для поэта большие возможности: он мог говорить о многом.
В хэйанскую эпоху сложился и достиг полной зрелости классический стиль в искусстве. Возникшие ранее в Японии или занесенные в нее из-за моря разнородные элементы искусства подчинились единой художественно-эстетической системе и могли сочетаться между собой, не нарушая стройной гармонии. Стиль хэйанской эпохи уникален, он узнается сразу в поэзии и прозе, живописи и архитектуре.
Продуманная и уравновешенная гармония, чувство меры, утонченное изящество, плавные линии и мягкая гамма цветов, полутона и оттенки – вот что ценил хэйанец. Таков декор хэйанских дворцов и садов, рисунки на свитках. Ничего кричащего, резкого, неброская красота с легким привкусом меланхолии, «печальное очарование вещей» («моно-но аварэ»). Красота эфемерна. Все пройдет в этом иллюзорном мире и потому не имеет ценности – так учит буддизм, – но парадоксальным образом быстро преходящее обретало особую ценность. Надо спешить налюбоваться прекрасным, потому что все явления мира, и в том числе жизнь человека, – не более чем пузырьки пены на морском песке.
Даже в дикой природе пейзажи выбирались, словно картины для тонкого ценителя, призванные разбудить поэтическое чувство. Самое название местности, прославленной своей красотой, – уже поэзия. Цветущие вишни на горах Ёсино, багряная парча осенних листьев на реке Тацута, снежная равнина Сано, – поэт рисует их легким прикосновением кисти. Одна-две детали дают толчок воображению.
В поэзии прочно установились нормативная эстетика, отбор и фиксация, столь характерные для классицизма. Найдены и подчинены единому стилю темы, образы, художественные приемы, психологическая разработка, конструкция антологий. Составлены списки лучших поэтов: «шесть бессмертных», «тридцать шесть бессмертных».
Дорога проторена, по ней легко идти эпигону – и трудно самобытному поэту.
В XII веке наступает эпоха позднего классицизма. Прошла золотая пора Хэйана, и печальная красота «моно-но аварэ» уже не способна выразить трагическое мироощущение, когда грозит «полная гибель всерьез».
Танка приближается к жизни, в ней начинает звучать сильный и достоверный голос человеческой боли. Поэты в изгнании пишут «tristia». Рамки изображаемого раздвигаются, условно-декоративный классический пейзаж становится более реальным. Конечно, нет недостатка и в сладких перепевах, и в «элегических куку» подражателей, но появляется плеяда даровитых поэтов, которым дано сказать новое слово в японской лирике.
Поэт Фудзивара-но Тосинари (Сюндзэй; 1114–1204) немного старше своего друга Сайгё. Он происходил из семьи, где японская поэзия была своего рода культом. Законодатель поэтической моды, Тосинари обогатил искусство танка, но в отличие от Сайгё был, что называется, «кабинетным поэтом».
Как бы далеко ни уходил Сайгё в своих скитаниях, он всегда посылал ему свои стихи. Тосинари высоко ценил их, собирал и многое из них включил в составленную им официальную антологию «Сэндзайсю» (1183 г.). Попасть в такой изборник считалось высшей честью для поэта. Любовь к поэзии Сайгё, заботу о ней он передал своему сыну – поэту Фудзивара-но Садаиэ.
Тосинари, Сайгё и высокоодаренная поэтесса Сикиси-найсинно (1151?—1201) наиболее глубоко воплотили в поэзии конца хэйанской эпохи принцип «югэн». Скоро он сделался основным и ведущим в системе средневековой японской эстетики. «Югэнизм» оказал сильнейшее воздействие на поэзию танка и рэнга («сцепленные строфы»), на театр Но, живопись, керамику, садовое искусство.
«Югэн» (буквально: сокровенное и темное) был вначале философским термином китайского происхождения и означал извечное начало, скрытое в явлениях бытия. В японском искусстве «югэн» сокровенная красота, не до конца явленная взору. К ней можно указать дорогу, как залом ветки отмечает тропу в горах. Для этого довольно очень немногого: намека, подсказа, штриха. «Югэн» может таиться и в том, что на первый взгляд безобразно, – как цветы прячутся в расщелинах темной скалы.
Такая красота требует неспешного сосредоточенного созерцания, отрешенности от мира суеты, зовет к одиночеству и покою. В человеческом сердце, как учит буддизм, живет высшее начало, и поэтому «югэн» взывает прямо к сердцу.
Это квинтэссенция возвышенного и печального поэтического чувства. Нелегко выразить его словами, и потому поэт прибегает к языку символов.
Облетающие цветы, листья, росинки, дым погребального костра – символы непрочности бытия. Луна, лунный свет – символ запредельного света и неземной чистоты. Символы стары, но чувство каждый раз как бы рождается заново, разбудить его – дело поэта.
Сайгё был верующим буддистом, как большинство людей его времени. Среди хэйанцев большим влиянием пользовалась необуддийская эзотерическая секта Сингон. Вероучение этой секты содержало элементы оккультной магии и мистицизма. Единственным спасителем признавался будда Дайнити (санскр.: Махавайрочана). Магия и шаманство глубоко вросли в быт, они практиковались и в исконной японской религии – синтоизме. Так, болезни лечили магическими средствами.
Гора Коя (в нынешней префектуре Вакаяма) почиталась священной у последователей Сингон, там находились чтимые храмы и подвизались отшельники.
Искать в природе таинственное, неизреченное, говорящее только сердцу, – разве не к тому же звала поэзия той эпохи, не в этом ли был смысл «югэн»?
В пятнадцатый день десятой луны 1140 года, двадцати лет от роду, Сайгё пошел на решительный шаг, требовавший большой силы воли. Он постригся в монахи, оставив вассальную службу и, по некоторым сведениям, семью: жену и маленькую дочь. Годы спустя Сайгё, как рассказывают, увидел свою жену, тоже принявшую постриг, и пролил слезы.
Уходя, он сложил прощальную песню:
- Жалеешь о нем…
- Но сожалений не стоит
- Наш суетный мир.
- Себя самого отринув,
- Быть может, себя спасешь.
Последние строки допускают двоякое толкование: и религиозное, и житейское. Бежал ли Сайгё от опасности? Пережил ли какую-то личную драму, или душный мирок придворных ему опротивел? Мы этого не знаем. Вернее всего поэзия увлекла его в монашество.
Лирический герой «Горной хижины» – поэт-философ, влюбленный в красоту мира, добровольно избравший уединение, где он творит, «звуков и смятенья полн». Для Сайгё жизнь и поэзия нераздельны. Другие могли воспевать природу и одиночество во дворце столицы, только не он.
Пятьдесят лет прожил Сайгё в монашестве, но, по слухам, не пользовался особой славой как знаток священного писания и религиозный учитель. Его буддийские стихи не дидактичны. Мир для Сайгё полон грустной прелести и обаяния, он не в силах отринуть прекрасное. «Неразумное сердце» поэта улетает вслед за облаком, похожим на цветущие вишни.
Среди многих рассказов о Сайгё есть и такой.
Высокочтимый Монгаку, вероучитель секты Сингон, в свое время пользовавшийся большой славой, возненавидел Сайгё.
«Дурной монах! – говорил он про Сайгё своим ученикам. – Покинув мир, должно идти по прямому пути будды, как подобает подвижнику, он же из любви к стихам блуждает повсюду, сочиняя небылицы. Попадется мне на глаза – разобью ему голову посохом».
Однажды весной Сайгё пришел в монастырь и, полюбовавшись цветущими вишнями, попросился на ночлег. Монгаку пристально на него посматривал, к ужасу учеников, словно задумал что-то недоброе, но в конце концов, оказав ему вежливый прием, отпустил с миром.
Ученики полюбопытствовали, почему он так кротко обошелся с ненавистным Сайгё.
«Глупцы! – отвечал Монгаку. – Взгляните на его лицо. Ударить такого? Как бы он сам не хватил посохом меня, Монгаку».
В легендах Сайгё всегда выступает как человек, исполненный достоинства и силы. Когда феодальный вождь Минамото-но Ёритомо подарил ему серебряную курильницу в виде кошки, Сайгё бросил ее детям на дороге: «Вот вам игрушка!» Он не просто бродячий монах, он ведет себя как власть имеющий, и эта власть над людьми дарована ему поэзией.
Вечным скитальцем вошел Сайгё в поэзию и легенду. Так его изображает, например, знаменитый художник Сотацу (XVII в.): вот Сайгё глядит на гору Фудзи, вот он бредет под осенним бесконечным дождем…
Первые лет семь после своего пострижения Сайгё провел невдалеке от столицы. Хэйан (Киото) лежит в окружении гор. На горах Западных, Восточных, Северных стояли в самых живописных местах знаменитые буддийские храмы-монастыри. Сайгё переходил из одного в другой, видимо, не подчиняясь монастырскому уставу, как свободный гость. Следует отметить, что во времена междоусобиц монастыри были хранителями культуры.











