Читать онлайн Почему птицы чëрные?
- Автор: Соломея Лютова
- Жанр: Современная русская литература
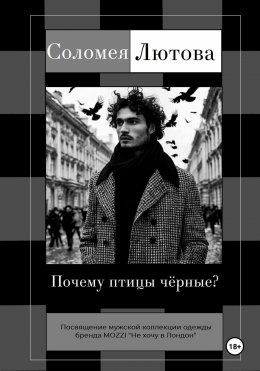
I
Полдень. Аскольд лежал, скрючившись, под пледом на диване. Через полуоткрытые занавески виднелся сероватый петербургский октябрь.
Диван окружали коробки, сумки, не распакованные после переезда. Всё было наставлено кое-как, везде в квартире валялись скомканные шмотки.
Аскольд проснулся, заглянул в просвет между занавесками и, не открывая их, лёг обратно на диван.
– Так, надо собираться на плэнер в Москву, – сказал он сам себе и закрыл глаза, а потом, минуты две полежав, взял телефон, написал жене Анжеле: "Доброе утро, милая, как ты там? Как там Сонька с Веркой?" – и снова устроился под пледом.
Она пока не отвечала.
Телефон завибрировал. Звонила агент по продаже картин и его старая подруга Галка. Они были знакомы ещё со времён художественного форума, который проходил у черноморского побережья лет шесть назад. Теперь, когда пробивная Галка переехала из Омска в Питер, Аскольд подрабатывал в её агентстве, писал картины для заказчиков.
– Привет, как твои дела? – спросила Галка.
– Ну, это… ничего так, – бесцветным голосом ответил он. – Норм, вроде. Ты как?
– А я болею, – начала Галка, – плохо. Бедро болит, здоровья нету, голова тяжёлая… Тошнит. Прямо очень тяжело в крайние дни, – Аскольд устало вздохнул, услышав, как опять вместо "последний" используется не к месту слово "крайний". Но промолчал.
– М-м. А ты лекарство прими, – в таких случаях, когда ему начинали жаловаться, он не знал, что отвечать.
– Да я уже и так приняла… – дальше начались перечисления названий препаратов, которые тут же вылетали из головы.
Выслушав весь список, он спросил:
– А ты по какому поводу звонишь?
– Заказчику не нравится эта картина, – сказала Галка. – Приезжай ко мне, обсудим…
Когда Аскольд нажал на красную кнопку завершения вызова, он хмуро осмотрелся вокруг. В голове стало мутно. Он прибил моль, кружившую над его диваном, и с отвращением стряхнул её с руки. Хотелось ему этого или нет, а надо было выбираться в сырость, ехать к Галке на съёмную квартиру через весь Питер.
Галка ходила по квартире в хлопковых трусах и домашней чёрной майке. Всё её тело напоминало подушку, набитую шариками. Аскольд посмотрел на её ноги, подёрнутые венозной сеткой, и зевнул. Дом Галки представлялся клеткой, в которой он потеряет сегодня целый день. Не успев войти и снять обувь, он тут же подошёл к окну в кухне и стал смотреть на высотки вдалеке.
Хотелось поскорее всё закончить и вернуться домой. "Нет, не успею взять камеру и поехать в парк наблюдать за птицами, уже потемнеет", – горько подумал он.
От жены Аскольду пришлось недавно переехать к отцу. Пока его отец был на даче, он лежал – и спал, и не спал одновременно, не чувствуя смены дня и ночи, думал, пытаясь найти хотя бы след упущенного вдохновения. Но после звонка Галки след потерялся окончательно. Ещё потом дня три ему придётся валяться без движения под пледом, стараясь забыть этот дрянной день, и уже теперь он не прижмётся к жене и не почувствует тепла её рук.
Жена занималась мужской фотографией. Снимала не только простые портреты и снэпы для актёрского или модельного портфолио, но и натурщиков. Она постоянно общалась с заказчиками, флиртовала с ними, называя "красавчиками" и "симпатягами", и многие думали, что их общение перейдёт во что-то большее, скидывали ей свои фото в трусах и без них. Но это была просто рабочая модель поведения, и если Анжела замечала, что заказчики перегибают палку, просто блокировала их.
Аскольд видел мужские фото в трусах и комплименты его жены, иногда случайно заглядывая в её чаты. Он никогда не лез в её сообщения и чаты, пока она не видела, зная, что ему будет больно, если он начнёт читать её переписки с разными мужчинами. Однажды его чуть не вывел из себя один начинающий актёришка, с которым Анжела общалась уже долго, провела с ним несколько съёмок, а потом заблокировала его, когда он начал требовать слишком много. Актёришка разыскал в соцсетях Аскольда, начал писать ему длинные сообщения с просьбой повлиять "как муж" на ситуацию, а Аскольд только трясся от злости, вспоминая его фото в сообщениях жены.
– Сдались они мне все, что в трусах, что без трусов! – сказала она Аскольду, когда он показал ей сообщения от заблокированного актёришки. – Подумаешь, какая важная персона. Платить не хочет, а съёмки ему как на сто тысяч делай, ага.
Она почти ни минуты не могла обойтись без общения с кем-нибудь. Аскольд чувствовал, что он один, молчаливый, не может заменить ей всех – ей надо больше общения, но её все вокруг игнорировали или набивались к ней в друзья, чтобы она их бесплатно снимала.
В фотографии она звёзд с неба не хватала, композицию не умела выстроить, ломала ракурсы. Когда Аскольд как художник и просто искушённый зритель ей намекал, что надо бы учиться мастерски снимать для привлечения хороших клиентов, а не собирать везде студентов актёрских вузов и немолодых менеджеров второй категории, она обижалась, ныла, что она уже десять лет в фото, и у неё своё видение. Начинала бичевать себя нарочито, утыкалась лицом в диван – это вызывало у Аскольда ещё большее раздражение, чем студенты, желающие съёмку как в Голливуде за уши от дохлого осла, или пожилые спортсмены, с которыми она флиртовала в переписках. Она специально закатывала эту сцену, чтобы Аскольд начал её успокаивать, а он мрачно уходил на кухню или закрывался в своей комнате с холстами.
Работать она больше нигде не хотела, кроме сферы фото и жаловалась, что не её не возьмут никуда в её тридцать пять с медицинским образованием, потому что у неё мало практического опыта. Когда-то вместо работы в районной больнице они с подругой по вузу сначала открыли бизнес – медицинскую клинику, а потом, когда всё пошло не так, Анжела решила заняться фотографией, чтобы доказать всему миру, что она творческая личность. В мире фотографов она не прижилась – не выдержала конкуренции, да и учиться чему-то новому ей не хотелось.
Больше всего ей нравилось просто вертеться в красивых платьях с камерой среди вип-персон, крутить романы с моделями, стилистами и дизайнерами, но к тридцати двум годам жизнь выбросила её на обочину – она оказалась снова в квартире в Сестрорецке с пожилым отцом, роднёй и без денег. Её старшая сестра давно вышла замуж, открыла бизнес и уехала в Петербург, а Анжеле разрешала пока жить в другой квартирке, которая досталась ей в наследство от покойной матери. Но Анжела до встречи с Аскольдом не торопилась переезжать в сестрину квартиру, потому что всё ещё не сепарировалась от отца – после всех жизненных приключений она не могла никак взять в толк, что детство давно закончилось.
Аскольд принимал Анжелу, такую как она есть, любил родной запах еë коротких волос, мягкие руки, которые гладили по ночам его тело, серые, очень грустные, строгие глаза. Она говорила, что в прошлом её все предавали. Она всё время вспоминала о прошлом. Иногда она проверяла страницы своих бывших в социальных сетях, как будто до сих пор была им нужна. Аскольд постоянно слушал рассказы о том, как она до института служила в медсанчасти в военном городке, о её бывших пассиях из мира моды и кино, о покойной матери, которая была лётчицей во время войны, о собаке, с которой они гуляли на пустыре.
Он часто уходил от Анжелы в кухню, читал какие-нибудь статьи о птицах, книги, переписывался с друзьями и кидал им мемы. Он притягивал интересных людей, в основном женщин, и очень талантливых тоже, фотографов и художниц. Одна из них, Ася, даже подарила ему дагерротип с его портретом – отпечаток на медной пластине. Она хорошо снимала и на "цифру", и на "дедовскую" плёнку, и любила создавать что-то уникальное, как и он. Они иногда устраивали творческие встречи, где Ася работала над изготовлением очередного отпечатка.
Анжела обижалась на Аскольда, думая, что он просто хочет от неё отдохнуть, она его раздражает, но ему надо было посидеть и подумать. Он был неотъемлемой частью созданного им мира с множеством птиц и животных, каждая мелочь оживала там, играла свою роль как в мультфильмах Миядзаки. Каждый день, выходя из дома, он видел микромир – шмеля на кончике цветка в клумбе, капельку росы на листке, наблюдал, как ворона тащит в клюве какую-то круглую деталь и пытается её расклевать, думая, что это орех. Он собирал все эти моменты – и они были преддверием в его сложный мир, который он строил много лет. Это был своеобразный ковчег, где он прятался от тревог, неурядиц и несовершенств реальности.
Жена не понимала, почему он такой тихий. Когда он уходил, она включала музыку в комнате. Она слушала метал-группы.
– Ты, наверно, не воспринимаешь такое музло, которое я слушаю. Это же трэш, – как-то сказала она.
– Я вообще не люблю музыку. Слушай её в наушниках, пожалуйста, – ответил он.
– А я устала от тишины. Когда я жила с отцом, там было не так тихо. Ты постоянно молчишь. Ты постоянно мрачный. Я не могу так…
Он болезненно взглянул на неё. Музыку он слушал только в такие моменты своей жизни, когда заживлял травмы, принимал её как лекарство, микстуру, – а разве нравится просто так пить эту микстуру, не заболев ничем? Может быть, есть где-то и такие любители, но он был не в их числе. У него был свой плейлист на такие случаи, разностильный, музыка под настроение, песни с осмысленными текстами… Одну композицию он вообще услышал в мультфильме про андерсеновскую девочку со спичками, которая помогала ему переживать боль, она была созвучна с его состоянием, сочувствовала ему, пока не кончалась композиция, – и тогда можно было включить её заново, слушать… и дышать этой музыкой.
Из всего того, что слушала жена, он выбрал два направления – фолк и депрессивный блэк-метал, – жена пугала его, что если слушать последнее, то можно, как она выражалась, "уехать кукухой". Нет, ничего такого ему не хотелось. Просто в каждой этой композиции кружили стаи чëрных воронов, а на пустыре сидел какой-то мрачный подросток в чёрном капюшоне, смотрел вдаль остекленевшими глазами.
Ему всегда казалось, что он не дотягивает до какого-то особенного осознания музыки – она для него была явно не тем, чем являлась для его жены и для всего остального мира, когда "вся жизнь под музыку". Он с трудом представлял, как это – вычеркнуть из мира все звуки, пение птиц, карканье вороны, ор дерущихся котов, перебранку таксистов, звон трамваев, крики детей, лëгкое шуршание зелëных листьев, треск крыльев стрекозы, громкий женский спор по телефону, плеск лужи, в которую кто-то только что наступил, воркование и кваканье голубей на какие-то другие звуки. Он пробовал так делать, и всегда наступал момент, когда на него начинало накатывать тревожное чувство отсутствия в мире. Он начинал бояться, что сейчас потеряется, потому что не слышно, как гудит автобус, как воробьи чирикают в кустах около дома: в ушах звучали искусственные звуки, непохожие на живые. Он не мог лишить этот мир его естественных звуков, – из них ткалось очень тонкое, изящное кружево композиции, которая только в его голове и существовала.
Никакая другая музыка не пьянила его больше, чем та, которая медленно создавалась в его собственном мозгу, она затрагивала, наполняла… И была только в том мире, который сосуществовал с этой реальностью в особенной гармонии, эту связь никак нельзя было разорвать – звуки повседневности были одной из связующих нитей этих двух миров.
При слове "жила с отцом" у него скрипнули зубы. У неё постоянно её отец был на словах, они переписывались по несколько раз в день, отец звонил и противным голосом требовал, чтобы она приехала к нему, сделала что-то по дому, позвонила бабушке, съездила с ним на рынок, в Павловск на квартиру их деда… А она соглашалась. Бывало, они планировали выходные вдвоëм, покататься на велосипедах в парке, погулять по городу, а она отвечала:
– У меня дела, высшее руководство вызывает, – именно так она полушутя называла своего отца. – На выходные на меня не рассчитывай.
И уезжала. А он оставался один. Можно было спать сколько угодно, смотреть фильмы на диване и занимать его весь, а если погода хорошая – бросить всё, вскакивать на велосипед и мчаться по парковым дорожкам. Или сесть в электричку, ехать за город, лазить по заброшенным усадьбам, снимать себя со штатива на камеру, ловить в объектив интересные моменты, птиц и бабочек. Он всегда ждал лета, когда появятся эти хрупкие прекрасные создания. Дедушка, когда ему было десять, подарил ему справочник-определитель бабочек, и он там помечал виды, которые находил в природе.
Но тут возвращалась жена с продуктовыми сумками, которые насовал ей отец, её абсолютно не волновало, что он чувствовал в эти выходные, что видел, какие идеи у него появились. С собачьей радостью она раскрывала эти сумки, вытаскивала всё содержимое оттуда, любовно кладя в холодильник, а он ждал, что она спросит, как он провел выходные. Но вместо этого она рассказывала про себя, как они с отцом застряли в пробке на шоссе или о чëм разговаривали с соседкой. А он слушал и потом нежно обнимал её, гладил по голове, а она фыркала:
– Хватит трогать мои волосы… Не люблю такое.
Он огорчался, уходил в другую комнату и долго смотрел в окно. А там – птицы лазали по раскидистому дереву, пушинка пролетала мимо, облака зависали на штилевом небе, белые голуби грелись на солнышке, и ему становилось легче.
II
Галка вернула его в реальность. Перед ним – картина, на ней ягоды рябины, южный портовый город с морем вдалеке, грачи на ветках…
– Почему птицы чëрные и погода такая мрачная? – допытывалась Галка.
В это время написала жена: "Всё хорошо, я просто с отцом в Павловск еду, тут связь плохая, Соня с Верой остались у бабушки". Её отец водил машину, которую она купила ему, пока вела бизнес. На вопрос Аскольда, не хочет ли она сама водить, уклончиво отвечала что-то вроде: "У меня прав нет, а получать сложно".
Её отец передвигался с костылëм, но это не мешало ему ковырять грядки на даче, окучивать яблони.
Всё посаженное было натыкано на их дачном участке, куда иногда звала его жена. Отдых на даче он представлял в медлительном темпе, в гамаке или кресле-качалке на выстриженном газоне, под сенью уютной липы, под клетчатым пледом – как в фильмах про Англию.
А тут… Грядки, всё тесно, крохотный участок, на котором ютятся помидоры и постройки, огорожен от внешнего мира забором, а все общие территории СНТ – железной оградой с кодовым замком. Через час на даче ему хотелось выть, и пока жена ковыряла клумбы, он побежал прочь из этого ужасного тесного места на дорогу, которую только открывали, и по ней не ездили машины. Жене сказал, что подождёт её на улице.
– Почему? Тебе не нравится?
Ещё дня два потом он не мог писать заказную картину и спал на диване в их квартире в Сестрорецке. Жена лежала рядом с ноутбуком, редактировала видео для своего блога и обрабатывала портреты для заказчика. Она погладила его по голове.
– Неважно себя чувствуешь?
– Неважно. После твоей дачи пропало всё вдохновение.
– Ой, ну, ладно тебе…
– Это правда.
– Почему птицы чëрные? Я хочу знать. Заказчик же просил радостную картину, повесить в кухне на самое светлое место, – продолжала Галка. – Понимаешь, – пустилась она в рассуждения, ну, это должно быть искусство. Ты же художественный вуз закончил… И чему вас там учили?
– А это, по-твоему, не искусство? – ответил Аскольд на вопрос вопросом.
–Тут должно было быть красиво, штрихи светлые, радостные тона, понимаешь, как у Левитана или у Шишкина… Солнечные пейзажи ты же видел?
Когда она включала искусствоведа, это раздражало ещё больше, чем её расспросы и утренние звонки по телефону, чтобы пожаловаться на болезни и вывалить все свои эмоциональные помои на его несчастную голову, ещё не оправившуюся толком от сна.
Он вытащил телефон и стал писать жене.
– Кому ты там всё пишешь? А, Анжеле. Напиши, что ты работаешь…
– Ладно, хорошо, это не искусство, – сказал он, наконец.
"Мы нормально дотараканили, – писала жена. – Сегодня с погодой не везёт".
"Хорошо, любимая, – ответил он. – А я вот у Галки сижу, заказчик опять недоволен картиной".
" А, ну, удачи… "
– Не искусство, – повторил он. – А коммерческая живопись. А нас в институте учили создавать настоящее искусство. А не вот это.
– У тебя поэтому не идёт ничего, что такое отношение.
– Слушай, я отдаю своё авторство. Практически за кукиш. Заказчик будет выдавать это за своё. Мою работу. Тебе вот так не обидно было бы? Особенно если за это не миллионы платят. И даже материалы я сам оплачиваю.
– Вот, посмотри, это моя картина, – Галка подвела его к окну, открыла штору и показала безыскусный портрет какой-то деловой леди в пиджаке.
– Кто это?
– А ты не знаешь?
– Смутно припоминаю. Она, вроде, из тех… да? – он показал пальцем вверх.
– Да. Очаровательная женщина. Очень влиятельная, умная. Но она болеет неизлечимо. А я уже написала ей две картины и будет ещё. Я хорошо с ней знакома. Это так круто! В будущем я буду посвящать картины еë деятельности. Выставку открою. Конечно, это портрет в подарок.
Она говорила о женщине с портрета с восхищением, но это "в будущем" было уже произнесено как-то гадко: Аскольд не подал виду.
Безжизненные глаза, искусственное лицо, явно скопированное с фотографии – изображение на портрете ни о чём ему не говорило. Ни о её болезни, ни о богатстве и влиянии. Сотни таких художников в интернете предлагают услуги по написанию портрета, но люди, которые получаются на картинах, как будто из мира кукол. Он боялся этой кукольности, нарочито ярких цветов и поддельной красочности. Это его отторгало – техника отточена, но художественного наполнения никакого.
– И как ты это делаешь?
– Да по технологии. Я в своей мастерской делаю с проектором. Цвета потом мне помощница подбирает.
– Понятно. Главное, чтобы самому человеку нравилось.
– Ну, скажи, красиво же? – Галка всегда зачем-то напрашивалась на одобрение.
– Нормально. Вообще это больше просто фото.
– Ну, я хоть в художественных вузах не училась, но тоже кое-что умею, – ответила Галка, надеясь получить комплимент.
– Ну, да, – ответил Аскольд и снова уткнулся в телефон. Листал соцсети, открыл аккаунт со своим творчеством, где публиковал работы под псевдонимом Бартоломеу Торо. Его картину с летящими над озером лебедями, которую он написал на прошлом плэнере, лайкнули уже почти сто человек. Это его хотя бы немного вдохновляло, но надо было писать для заказчика, который хотел забрать его авторство. Заказчик полгода назад в мессенджере показал свои кривульки-наброски и описал идею, хотя и размыто – портовый город, птицы на деревьях, море, чтобы чувствовалась атмосфера. В сообщениях заказчика, которые ему пересылала Галка, не говорилось ничего про радость и белых птиц.
– Ты хоть читала сама те его сообщения с набросками?
– Читала. Но я не помню уже.
– Там не было ничего про солнце и белых птиц. Откуда мне было знать.
– Это интерьерная картина. Воздушность должна быть. Простор. Свобода. У тебя что? Тоска какая-то.
– А это ты уточняла у него про белых птиц? Про радость?
– Понимаешь, я чувствую людей… Я знаю, чего они хотят. Этот такой радостный, улыбается, медитирует, дзен ловит. Южанин. Ну, какие ему чëрные птицы в пасмурную погоду. Вот ему и не нравится.
– Он сам так сказал?
– Нет. Ему просто не нравится, но я пробую понять, что именно. И я, посмотрев на твою картину, понимаю.











