Читать онлайн Паломничество с оруженосцем
- Автор: Тимофей Юргелов
- Жанр: Современная русская литература
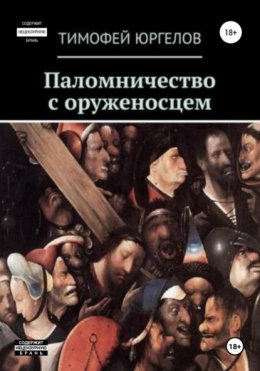
Пάροικος έν τ̂η γ̂η καί παρεπίδημος έγώ ε΄ιμι μεθ΄ ύμω̂ν.
Βασιλείδης
(Странник я на этой земле и чужак среди вас.
Василид).
Часть первая
Глава первая
Все началось с возвращения в свою квартиру странного жильца.
Хотя сразу, конечно, никто ничего не заметил: ну что могло быть необычного в Андрее Зубове, которого все знали с детства? Потом он, правда, надолго пропал: поступил в военное училище, затем где-то служил, воевал, сидел, говорят, в тюрьме – и вот вернулся домой, сорокапятилетним и поседевшим. Вернулся он один, без семьи. В каком-то покоробленном пиджаке, с вытертой сумкой через плечо. Его тут же узнали по вьющемуся чубу, по усам, по раздвоенному утолщению на кончике носа, по черным наивным глазам, однако поздороваться из-за обычного замешательства никто не решился. И пока в сидевших за доминошным столом металась неуверенность: точно он?.. конечно, он… или не он?.. – Андрей молча прошел мимо, задержался еще перед входом в подъезд, отыскивая что-то в сумке, поднялся на второй этаж и заперся у себя в двух комнатах, доставшихся ему в наследство от бабки с дедом.
Дом наш и двор ничем особенным никогда не выделялись: такое же обывательское болото, как большинство дворов и домов на свете. Вся тихая улица застроена ветхими, похожими друг на друга, окрашенными охрой двухэтажками, с окнами-фонарями, с белеными проемами и сухариком под карнизом, с нелепыми завитушками пузатых балконов. Тому, кто попал сюда с шумного проспекта, на задворках которого мы живем, она покажется, скорее, чистой, чем грязной; уютной, чем унылой. Приятно пройтись по тротуару с побеленными бордюрами и кленами, услышать чью-то игру на баяне, позвякивание посуды – особенно тихим вечером, когда за тюлем и штофом зажигаются люстры и телевизоры.
Сначала все решили: ну вот, еще одного жизнь угомонила, привела в родную гавань. Наверно, Андрей и сам так думал, потому что сразу занялся тем, чем и должен был заняться: стал наводить порядок в квартире. Из его окон доносился стук молотка и другие звуки, подтверждавшие, что там идет ремонт. Бабки сдержанно ворчали: вот, мол, еще один «стукатун» завелся. Во двор он выходил только для того, чтобы вынести на помойку тряпье и рухлядь, оставшуюся после стариков. Иногда останавливался покурить с друзьями детства, но был немногословен: больше слушал, чем говорил. О себе ничего не рассказывал, на все расспросы отшучивался или пропускал их мимо ушей. И вообще уносился куда-то мыслями: засмеется вместе со всеми, а потом спросит, о чем речь. Или прямо посреди разговора повернется и уходит, ускоряя шаг. Видно, здорово его жизнь шандарахнула, думали друзья детства, выпуская ему в след струйки дыма.
Вскоре он совсем исчез, и стук прекратился. Заходивший к нему по-соседски Сява рассказывал, что он лежит на диване и читает "старинные книги" – целая груда их навалена у него посреди комнаты. Видимо, начал разгребать стариковские залежи (кто-то вспомнил, что он интересовался: принимают сейчас книги в буке или нет) – и зачитался. Зарос щетиной, на столе в кухне грязная посуда, засохшие лужицы чифира, горки пересушенной заварки, мирно пасущиеся тараканы. "У самого глаза, как у бешеного таракана, и усы торчком", – рассказывал Сява. "А что за книжки он читает?" – спрашивали у него. "А я х… его знает! – мура какая-то, и написано по-старинному". – "Божественные?" – "Да нет вроде – хрен поймешь! По ходу, у него того… – И Сява стучал себя по темечку, раскрыв рот, чтобы получился «пустой» звук: – Хи-хи, га-га – гуси летят"… – "Может, его на войне контузило?" – предположил кто-то. – "Нет, в зоне дубинка по чану прилетела. Видали шрам на лбу? Спрашиваю: откуда? Да в зоне, говорит, дубинкой от контролера прилетело". – "А за что сидел, не рассказывает?" – "Не-а. Что-то у него с женой вышло. Крутит-вертит: "за черепки", говорит, посадили". – "За "черепки" столько не дают". Словом, все еще больше запуталось.
Андрей уже успел привыкнуть к родной квартире после первого, похожего на шок, впечатления, когда все показалось микроскопическим и убогим. Дома у Андрея в далеком детстве перебывал почти весь двор, и с тех пор тут мало что изменилось. Темная прихожая с вешалкой из рогов вела в комнату, центр которой занимал круглый стол под абажуром. Облезлое трюмо в простенке, будто затянутое изморозью, отражало обстановку парящей над полом, в более светлых тонах, чем в действительности, ─ таков был оптический эффект. Бабушка говорила, что это – "венецианское стекло, дорогая вещь", даже сейчас Андрей, глядя в него, чувствовал смутное благоговение. Здесь же находился комод с висячими ручками, которые когда-то притягивали, как магнитом. Собственно, притягивали не они, а то, что хранилось в запертых от него ящиках, ручки же словно вобрали в себя отсвет загадочного содержимого и хотя бы отчасти заменяли обладание им. Их бряцание действовало дедушке на нервы, и это, возможно, была еще одна, тайная, цель его упорства. "Ну что, нашла коса на камень?" – смеялась бабушка, глядя, как возвращается зареванный внук к комоду, там затихает и, посмотрев испытующе на деда, начинает поднимать и отпускать литые, узорчатые подковки. Теперь на комоде пылились шкатулки, пудреницы, коробки из-под конфет, склеенная фарфоровая балерина, пожелтевшая вышивка (то, что казалось когда-то таким заманчивым и значительным) – все очень ветхое и мизерное – уже ничье. (Всякий раз при взгляде на эти осколки чьих-то смешных привязанностей у Андрея начинало тупо, словно от удушья, ныть сердце.) Здесь были так же фотографии погибших родителей; дед в буденовке и шинели до пят, с деревянной кобурой на боку; он же с бабушкой, молодые и старые; снимки Андрея, детские и в курсантской форме. Эти, в рамках, стояли там всегда, но появились и новые. Очевидно, Андрей нашел их в альбоме, когда разбирал книжный шкаф. С твердых карточек смотрели военные, в эполетах, с закрученными кверху усами: дамы в шляпках и кружевах – они были без рамок.
В зале также находились синее кресло с рыжим следом от утюга; "новый" диван ("новый", потому что был куплен лет тридцать назад, когда он вырос из детской кровати); сервант, вытертый до основы ковер и неисправный телевизор. В спальне, с изъеденными молью до прозрачности портьерами, стоял секретер, железная кровать, на которой умерла бабушка, и тот самый книжный шкаф, почему-то пустой: вся их небольшая библиотека исчезла – осталась только кипа старых журналов, книги по фортификации да несколько потрепанных романов. Вообще, из квартиры пропало много знакомых с детства вещей, не нашел Андрей орденов деда, его серебряный портсигар, фотоаппарат. Словно кто-то чужой залез, переворошил, разорил родной уклад, – возможно, этим чужаком и была смерть.
В последние годы бабушка жила на одну пенсию и, вероятно, все продала (оказавшись в заключении, Андрей больше не имел возможности помогать ей). На это намекала и тучная соседка, с кислым, холодным, как из могилы, дыханием. Она словно принадлежала к другой породе людей: ненамного выше Андрея, но крупнее его в два раза. Это соотношение сохранялось во всем: нос крупнее в два раза обычного носа, пальцы толще обычных пальцев. Даже волосы, кустом росшие из похожей на чернослив, бородавки под носом, напоминали, скорее, карликовое дерево, чем волосы. Ее муж, с хитрыми, трусливо-веселыми глазками, с прилипшими к потной лысине прядями, был не так велик: всего раза в полтора больше Андрея. Зато дети обещали во всем превзойти родителей: рядом с их шестнадцатилетней дочкой Андрей уже выглядел, как ребенок.
Андрей зашел к соседке за ключом от подвала. "А мы уж не чаяли: вернется али нет хозяин. Хоть кто-то теперяча за стенкой будет шебуршать! Бабулечка тихая была, я ей каженый день то за лекарствами, то за молочком… Купишь, бывалоча, а денег не возьмешь. А то просто зайдешь попроведать: Григорьевна, как здоровье?.." – "Андреевна", – поправил Андрей. – "Ну а я что, не знаю, что ли? Это у меня свекровка – Григорьевна, тоже старушечка, вот я их и путаю запостоянку. Я первая и запах учуяла. Своему говорю: никак мышь под полом издохла? Нет, говорит, это в подъезде воняет. Понюхали – от вас! Батюшки, – всплеснула великанша без всякого выражения. – Открыли: а она – господи Иисусе! – зелененькая, как огурчик, и не раздулась совсем: сухонькая была старушечка да и… Ну что говорить". Великанша приложила кулак к глазам. Андрей поблагодарил за заботу и спросил, где похоронили бабушку. "Деньги гробовые она мне отдала – все чин чинарем исделали", – заверила его соседка. Вернувшись домой, он вспомнил, что точно такое собрание в желтом переплете, как за стеклом видневшейся из зала великанов стенки, было раньше и у них. Когда он снова зашел, чтобы вернуть ключ, книг на месте уже не оказалось. Впрочем, Андрей был рад и тому, что осталось.
Замок на двери чуланчика (каждый жилец имел свой чулан в подвале) был сорван, внутри все перевернуто вверх дном. На полках в пыли рядом с кружками от донышек (по-видимому, там стояли банки) можно было различить следы чьих-то огромных лап, тоже уже затянутые пылью. Кроме мешка с высохшей картошкой, связок газет и журналов, в сколоченном из досок ларе Андрей нашел старые книги. Сначала он хотел выбросить их вместе с другим хламом: большинство было испорчено плесенью и мышами, – но решил просмотреть. Открыл наугад одну – ни название, ни автор ничего ему не говорили. Держа подальше от глаз, прочел абзац, захлопнул и бросил назад в рундук. Подумал… Сложил книги в два мешка и отнес домой, там свалил возле дивана. Достал другую книгу, тоже раскрыл на середине – отложил, сходил за найденными в комоде очками, по всей вероятности, бабушкиными, в мутно-розовой оправе, почти детскими. Привязал к ним резинку, так как дужки не доставали до ушей, натянул на затылок. Снова уселся с прямой спиной, с книгой на коленях и – зачитался.
Перелистнув назад, взглянул на титульный лист и усмехнулся: "Марк Аврелий – не еврей ли?" Затем снова открыл и стал читать уже с начала.
Прочитав одну книгу, он принялся за другую. Очевидно, библиотека подбиралась кем-то по определенному плану, тут были: Платон и Сенека, Ларошфуко и Паскаль, Менцзы и Торо, Федоров и Толстой, десятка два книжек "Единения" и "Посредника" – всего около полусотни книг. Было здесь несколько томов "Естественной истории", а также Брем и Фабр.
Желтые, шершавые страницы отдавали сладковатым запахом тленья. Все издания начала века, с "ерами" и "ятями", что затрудняло чтение: казалось, они написаны на каком-то смягченном диалекте: "твердые знаки" в позиции мягких, на конце слов, заставляли спинку языка выгибаться к небу. Попалось несколько книг по-французски. Много было испорченных: покоробленных, с ссохшимися страницами. Их он отложил для починки.
Кому принадлежали книги? Деда трудно было заподозрить в интересе к литературе такого сорта; бабушка, пока совсем не состарилась, читала только романы. Андрей решил, что они остались от двоюродного прадеда, младшего из братьев бабкиного отца: он один в семье не служил, все прочие были офицерами. Его маленькая карточка, единственная сохранившаяся, тоже лежала в шкафу среди других фотографий. С нее смотрел молодой человек в косоворотке, бородка клином. Лицо его было несимметрично, с выраженными фамильными чертами, свойственными этой ветви их рода: раздвоенный кончик носа, удивленные брови, выдающиеся скулы, грустные черные глаза. Андрей вспомнил, как бабушка рассказывала, будто у него была богатая невеста, но он ее бросил, оставил университет и приехал сюда к своему брату, ее отцу, – подальше от гнева родителей. Было это незадолго до революции. "В семье не без урода", – вставлял обычно, резкий в суждениях, дед. После разгрома Колчака он поселился в одной из коммун духовных христиан на Алтае, дальше его след теряется. Как книги оказались в их семье, почему сохранялись в ней (хотя не слишком бережно: скорее всего, это дед сослал "баптистскую" литературу в подвал). Возможно, он был вынужден срочно уехать и бросил их здесь. Однако это были лишь предположения, Андрей даже не знал его имени, вернее, забыл, так как бабушка рассказывала, кого и как звали в семье. После ее смерти выяснить о нем что-либо еще было, по-видимому, невозможно.
Ничего похожего он до сих пор не читал. Андрей вдруг увидел другой, незнакомый мир, в котором все очевидные истины были не очевидны, и даже, напротив, – вовсе не истинны. Большинство статей было не лишено проницательности и ума, а главное – искренности: они будто обращались к нему, Андрею Зубову, и его собственное "я" начинало звучать в унисон им. Казалось, это он сам открывает совершенно новый, до него неизвестный, взгляд на вещи. И еще: только он брал в руки книгу и прочитывал первую фразу, внутри все отрадно замирало, на душу спускалась тишина: смолкала тревога, жгучие воспоминания и все безумие прошедших лет. Он словно окончательно возвращался домой, к самому себе, в то радостное детское состояние, которого давно уже не было, – и вновь чувствовал себя чистым, великодушным, готовым любить и прощать, но любить уже той новой любовью, о которой писалось в этих книгах. Порой он поднимал лицо к потолку, чтобы сдержать слезы, особенно когда говорилось о смирении и самопожертвовании, – как человек с непомерным самолюбием он оказался очень чувствительным к подобным вещам, – например, на разговоре Франциска Ассизского с братом Львом или в сцене суда и казни Сократа. Добравшись же до какого-нибудь обличительного места, он вспыхивал, мысли его неслись, Андрей не успевал додумывать их до конца, в груди звучал набат (удвоенный крепким чаем) – он начинал размахивать руками, бросая отрывистые, невнятные фразы в сторону зеркала, за которым ему виделся – пока еще туманно – какой-то новый противник. И вот он уже представлял себя не то странствующим учителем истины, окруженным толпой учеников, не то духовным борцом, победно всходящим на костер. Непременно как-нибудь так должно было окончиться его подвижничество. Впрочем, спроси его, за что и с кем он собирается сражаться, он вряд ли смог бы ответить, так как все это было «одно брожение неопределенности», как позже выразился известный в городе ученый.
Если страницы были испорчены, он прилагал старание, чтобы восстановить текст: отпаривал над чайником, пробовал разные составы (вычитанные в найденном там же "Домоводстве"), осторожно губкой сводил плесень – и, напевая, отбивал на столе пальцами чечетку, когда книгу удавалось спасти. Иногда он не понимал, о чем там говорится, несмотря на то, что текст не был испорчен. Например, он никак не мог взять в толк, почему окружающий мир – это наше представление, и что означает утверждение, будто люди "разделены лишь телами". В таких случаях он поступал, как все новообращенные: считал темное место иносказанием. И так всегда: с чем он был солидарен, то понимал буквально; если же разногласие с его опытом и здравым смыслом заходило слишком далеко, значит, это – иносказание, непонятное ему, скорее всего, в силу личной серости. И тут же противоречие как бы переставало существовать, он просто не замечал его, хотя легкий след беспокойства все же оставался. Напротив, наткнувшись на показавшееся ему глубоким высказывание, старался его запомнить, а потом стал выписывать в выцветшую тетрадку, которую нашел в письменном столе. Тетрадь была наполовину заполнена бабушкиным почерком, он перевернул ее и начал писать с конца.
Во дворе окончательно решили, что он «съехал». Даже те, кто раньше заступался за него, теперь с улыбкой, недоуменно пожимали плечами. Его продолжали по старой привычке уважать за феноменальную физическую силу, однако признаки помешательства становились все более очевидными. Сначала он только выскакивал на балкон, с всклокоченными волосами и невидящим взором, устремленным куда-то в просвет между домами, лихорадочно курил и снова исчезал в глубине комнаты – хватался, наверное, за книги. Потом начал выходить во двор и заводить "философские разговоры". На первых порах его слушали. "Он же десантура, – пытались объяснить произошедшую с ним перемену одни, – может быть, в небе что-нибудь такое увидел?" – "На дне стакана он увидел!" – безапелляционно возражали другие. Вскоре, однако, своей категоричностью он настроил против себя даже защитников и нажил двух непримиримых оппонентов.
Оба были отъявленные негодяи: первый – скупщик краденного и ростовщик, второй – сутенер. Происходило все следующим образом. Андрей выходил во двор, садился с краю на скамейку, и словно ждал, когда последует вызов. Первым начинал обычно Виталик, скупщик краденого – он закончил ветинститут и слыл эрудитом. И вот подмигнув остальным, он произносил рассудительным тоном: "Вся философия придумана ущербными людьми, кому с бабами не свезло. И, вообще, они были неполноценные, поэтому недополоучили чего-то от жизни. И вот, чтобы как-то самоутвердиться, они писали трактаты: заняли, короче, свою нишу. А нормальному человеку вся эта философия на хрен не надо". – "Ну да, конечно, Платон и Аврелий неполноценные – а вы полноценные! – загорался мгновенно Андрей. – Их потому, наверно, и помнят две тысячи лет, что они убогие". – "Такие же убогие и помнят. А мне оно на хрен не надо. Я нормальный, зачем мне этой мурой голову забивать". – "Какой-нибудь бык, нормальный, тоже, наверно, счастлив без философии!" – "Лучше быть быком и иметь стадо телок, чем каким-нибудь Аристотелем и дрочить в кулачок". – "В принципе, вы уже недалеки от идеала"… И т.д. и т.п. Они уже не говорили, а кричали друг на друга; удивленные жильцы высовывались из своих окон и с недоумением смотрели на двух наполовину седых мужчин, один из которых был с большим брюшком и живописно жестикулировал, брызжа слюной, а второй стоял, бледный, как мел, стискивая кулаки за спиной. "Наверно, Виталик опять зажал бабки и не возвращает", – думали жильцы. Вдруг Андрей умолкал и среди спора уходил домой. Виталик выразительно стучал себя по лбу, слушатели понимающе улыбались. Дома Андрей давал себе слово не поддаваться больше на провокации, но проходил день-другой, и все повторялось сначала. Споры становились ожесточеннее – это были уже не споры, а сплошная ругань. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы наступившие холода не разогнали компанию по домам.
На что он существовал, никто не знает. На работу его не брали – поговаривали, будто, несмотря на судимость, ему удалось выбить какую-то пенсию. И почти всю ее он тратил на книги, потому что с новой книгой под мышкой его видели часто, а куртка на нем была, кажется, еще школьная, болоньевая, совсем не по сибирской зиме, – все, что осталось от его прежнего гардероба. На голову он натягивал одну на другую две вязаные шапки. Отпустил бороду и волосы до плеч: так теплее – и экономия на лезвиях, объяснял он любопытствующим. Впрочем, им никто уже не интересовался: к нему успели привыкнуть как к дворовому дурачку.
Всю зиму он просидел затворником и появился во дворе снова лишь в начале апреля. Бороду и усы он к лету все-таки сбрил, а волнистая грива осталась. Ее он стал забирать в хвост на затылке.
Однажды великанша приняла его за вора. "Вы хто?" – напустилась она на Андрея, столкнувшись с ним на площадке. – "Сосед ваш", – отвечал Андрей, пытаясь открыть заевший замок. – "Нет, я жильца отседова знаю – вы не он… Сашка! – закричала она и вцепилась Андрею в плечо. – Звони в милицию!" – "Как это я не он… то есть не я? – опешил Андрей. – Вы, наверно, меня без бороды и усов не узнали?" Насилу все разъяснилось. "Ох, – жаловалась она сплетницам, – и соседа же бог послал: то с бородой, то с косой!.. Шлындает целыми днями по комнате: тудым-сюдым, тудым-сюдым! И все бормочет чё-то – ничё не разберешь… А то как возопит-возопит: вы де гробы крашеные! – и чем-то так и шваркнет об пол. Может, он наркоша какой или извращенец? Цельный день у него на плите чайник кипит. Не ровен час квартиру спалит или еще чего хуже учудит – такой друг"…
За зиму Андрей только утвердился в своем помешательстве, однако все увидели, что хотя "крыша у него съехала и адреса не оставила", но в вопросах, которые не касались "философии", он сохранил трезвость суждения. Виталик как человек, сведущий в медицине, и тут все разъяснил: "Так обычно и бывает у психов: рвет у них крышак на чем-то одном, конкретном, а в остальном они вполне нормальные люди".
Однако Андрей и сам начал замечать за собой странности в последнее время. С ним стало случаться нечто из ряда вон выходящее, что-то вроде припадков, пугавшее его самого. Это были минуты необычайной остроты не то мысли, не то зрения (потому что и мыслей никаких особенных не было): все окружающее представало вдруг в странном свете – и не свете даже, а в каком-то отсутствие значения. А скорее, в новом скрытом значении, которое говорило об отсутствие старого. "Припадок" мог застигнуть его на улице, и тогда он останавливался среди снующей толпы, словно пораженный чем-то. (Вероятно, кто-нибудь из знакомых видел его в этот момент и рассказал во дворе, потому что репутация сумасшедшего за ним закрепилась как раз с того времени). И сразу привычные с детства предметы – троллейбусы, пешеходы, дома – все такое обычное, простое, нормальное, что и думать об этом не стоит, иными словами, такое несомненное, самое что ни на есть очевидное, что иного и быть не может, – все это вдруг утрачивало именно значение нормальности и самоочевидности. А без него оно становились пустой оболочкой, собственно говоря, ничем – странным и страшным. Например, руководствуясь своими новыми убеждениями, он считал, что нет ничего совершеннее человека с его телом и разумом – навстречу же ему бежали прямоходящие ящеры, с круглой головой и щупальцами на конечностях. Нос – недоразвитый хобот; рот, вообще, что-то отвратительное: красное, плотоядное, вооруженное плохими зубами… Хотя, думал он, если приглядеться, любое животное может показаться необычным – взять зайца или слона. Но хуже всего был человек… Может быть, меня нечистый соблазняет, думал иногда Андрей, но тут же с усмешкой прогонял нелепую мысль. Мгновения эти настораживали (и в то же время приподнимали над обыденностью), они вступали в противоречие с новыми взглядами, почерпнутыми в основном из книг, и он не мог уже не замечать этого внутреннего разлада, – словом, все это надо было как-то разъяснить.
От деда Андрею досталась ржавая "победа", пылившаяся в железном гараже под окнами. И вот ему пришла мысль навестить своего школьного товарища Валеру Козырчикова, который жил в деревне. Во-первых, чтобы разъяснить мучившее его противоречие, во-вторых, ради какой-то жажды духовной общения и, в-третьих, просто потому что погода стояла необычайно теплая и хотелось поскорей вырваться из пыльного, загазованного города. Про Козырчикова рассказывали, будто он стал чем-то вроде гуру, к нему ездят разные кришнаиты и йоги со всей области, приезжают даже из других городов. Как его найти, объяснил ему одноклассник Миша Сладков (с Валерой же они учились в параллельных классах).
– А удобно вот так, ни с того ни с сего, заявиться? – спросил Андрей у Миши.
– Почему нет? Все туда ездят… К тому же вы с ним в один зал ходили… – в своей невозмутимой, успокаивающей манере отвечал тот.
– Ну что я там ходил, – возразил Андрей (имелся в виду спортивный зал).
Поселился гуру в трехстах километрах от города, на границе тайги и лесостепи, в деревне с названием Ершовка – он справился по карте, – расположенной на берегу извилистой, похожей на кардиограмму, речушки, что разделяла две природные зоны.
И вот ярким майским утром он вышел во двор в дедовском галифе, в красной майке и в домашних шлепанцах, с перетянутым на затылке хвостом. Замок на гараже был вроде бы целый – сам он туда так и не наведался: как засел за книги, так про все забыл. Вспомнил вновь о машине, когда засобирался в деревню.
Из глубины сараев раздался хриплый вопль петуха. Гаражи примыкали к лабиринту сараев и голубятен, сколоченных из досок, ржавой жести, агитационных щитов. Кроме петушиного крика, оттуда доносилось кудахтанье, воркованье, хрюканье и тяжеловесная возня, от которой сотрясались стены других строений, а характерная непереносимая вонь подтверждала, что там обитает также крупное животное.
Андрей отпер гараж и вытолкал из него синюю "победу". Обошел вокруг, провел пальцем по пыльной двери, остановился перед пустой фарой, присел заглянул под бампер. Покурил. Открыл салон и стал выкидывать сваленный туда хлам. Затем достал из-под капота аккумулятор и поставил рядом с кучей старья. Со скамейки поднялись трое парней и, захватив початую полторашку, подошли к гаражу.
– Хлебнешь пивка? – предложил один из них, протягивая пластиковую бутылку. Андрей отказался, а тот продолжал: – Майор! Есть почти новый аккумулятор как раз для вашего "порша". Недорого.
Андрей почесал плечо и сказал:
– Ну, тащи – если не ворованный…
Один из пивунов за его спиной постучал себя по лбу.
Ближе к вечеру горбатое чудище выпустило облако черного дыма и затарахтело к удивлению всего двора. Пивуны снова окружили машину, но ничего не сказали: слившимися со щеками пунцовыми глазками они заворожено следили за сотрясающимся мотором. Андрей, похожий уже на мавра, в черной с красным оттенком майке, вылез из-за руля, прикурил сигарету, оставив на ней масляные отпечатки, ― зажал ее между двумя спичками. Отступил на шаг и присоединился к созерцателям, в глазах его отразилось мрачное торжество. Затем он попросил одного парня сесть за руль и выжать несколько раз педаль газа – "победа" надтреснуто взревела. Сам же вытер о тряпку указательный палец (из черного тот стал сизым), сунул в выхлопную трубу – и сдвинул озабоченно брови.
Продавец аккумулятора, покачиваясь, сказал:
– Давай напишем здесь: би эм дабл-ю, – И он на пыльном капоте неверным пальцем вывел “BMW”, потом закричал: – Где дядя Толя?
Местного художника "дядей Толей" по какой-то еще детской привычке называли все, выросшие во дворе, – даже те, кому было уже за сорок. Сейчас он спал в палисаднике под елочкой, повесив на ветку очки. Кто-то пошел за ним, надел ему очки на нос и привел к гаражу.
– Нет, – сказал другой любитель пива, – пусть это будет "мерс" – нарисуй звезду, как на мерине…
– Напиши здесь "молния", – показал Андрей на дверь, вытирая руки тряпкой.
– Ну что это за название! – огорчились "пивуны".
– Нормальное название.
Тут же в гаражах нашли у кого-то баночку с белой краской и кисточку. Дядя Толя, который отхлебнул ярко-желтой жидкости и хотя говорить еще не начал, однако уже мог понимать, что говорят другие, нетвердым, но размашистым мазком молниевидно вывел вдоль одного и второго борта заказанное слово. После этого ему дали еще раз приложиться к "полторашке", он зашел за сараи и больше не возвращался. «Талант не пропьешь!» ─ сказали парни и отправились за пивом.
Мимо проходили девушки в коротких юбках и шортах, с маленькими рюкзачками за спиной. Одна из них, дочка того самого одноклассника Миши Сладкова Даша, поздоровалась и с расширенными глазами спросила:
– Дядя Андрей, это что, ваша машина?!
Подружки ее захихикали, оглядываясь на перепачканные бицепсы.
– Это не машина – молния! – пробормотал, краснея под слоем моторного масла, Андрей.
– Какой ужас! – воскликнула Даша, они снова засмеялись и прошли мимо.
"Молния… Вот болван! А… нам все равно: наступать или отступать – лишь бы кровь лилась",– такая поговорка у майора была. Он провожал глазами длинные, белые, сверкающие на солнце ноги. Даша была гибкой и тонкой, но развита уже, как взрослая женщина. Черные глаза, словно две пытливые изюмины, глядели внимательно и насмешливо.
А на улице – весна. Она повсюду: в дрожащих зеркальцах молодой листвы, в горьком запахе тополиного клея, в ослепительных одуванчиках, в мелькании двух желтых капустниц, гоняющихся друг за другом. Только из убитой, отравленной на метр в глубину машинным маслом земли под ногами не пробивается ни травинки. "Молодой перебесится – старый никогда. У самого дети в институтах учатся – а тебя вона куда потянуло…" – ворчал под нос Андрей, собираясь домой.
Она жила напротив, и он мог видеть ее в окне чуть ли не каждый день. Порой, когда никого не было дома, Даша ходила по квартире нагишом. Она танцевала, разглядывала в зеркале, приподнявшись на цыпочки, свой зад; выделывала балетные "па" или тянулась к носку, закинув ногу на пианино, – и все это на глазах у Андрея. И часто в тот самый момент, когда он обдумывал какую-нибудь сентенцию, вычитанную у моралистов. Сентенция тут же вылетала из головы и никак не хотела туда возвращаться. Он с минуту следил за девушкой, затем, словно очнувшись, хватал две двухпудовые гири, приседал с ними и уходил в ванную обливаться холодной водой.
"Если правое око соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; и если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя… А если и то и другое соблазняет одновременно? – размышлял Андрей, обтираясь перед зеркалом полотенцем. – С чего начать?.."
Отъезд он наметил на следующее утро, в воскресенье.
Глава вторая
Перед постом гаи Андрей свернул в дачный поселок, сделал по грунтовке круг километра три – в машине сразу запахло пылью, ноздри будто разбухли, на зубах он ощутил мягкий налет – и выскочил на шоссе метрах в ста с другой стороны от поста. За городом дорога до самой перспективы была пуста, небо затянуто ровной, белесой пеленой.
Через полчаса пелена стала рваться. Сначала он увидел вдали одну, словно облитую желтой краской березу. "Неужто высохла", – удивился Андрей, но тут же пошли желтеть соседние деревья – он поднял глаза: на другом конце гигантского облака сквозь голубую прореху косо падал на рощу сноп света. Таких окон с падающим на пашню, на перелески, на дорогу под разными углами солнцем становилось все больше. Он въехал в столб огня, и будто попал в другое время года, такой разительной была перемена. Вдруг снова все погасло, но уже не надолго. "Однако будет жарко", – подумал Андрей, глядя на первый встреченный им грузовик с быками, чьи мокрые, блестящие морды виднелись между набитых на борта, свежих горбылей.
Впереди у обочины стояли две девушки, в фиолетовой и зеленой кофте, с разноцветными, словно конфетти, блестками. При его приближении они подняли руку, но тут же опустили, как только разглядели машину. Андрей все-таки остановился, девушки отвернулись, увидев за рулем человека с косой.
Обе широкоскулые, с густо накрашенными глазами и не то нарумяненными, не то обветренными щеками. Та, что выше ростом, была в брюках; другая, толстая и маленькая, – в длинной юбке с разрезом до пояса. Вид у обеих помятый: краска размазана, одежда в пуху и складках. У высокой в руках сумочка, у толстой ─ пакет. Андрей оперся о пассажирское сиденье и спросил: «Далёко едем?» Девушки переглянулись, словно решая отвечать или нет. Высокая назвала деревню, расположенную рядом с той, куда ехал майор.
– Садитесь, а то долго ждать придется. Ну… Я не съем… – Девушки еще раз переглянулись и сели на заднее сиденье: очевидно, последний довод оказался решающим. В машине запахло приторной смесью дешевых духов и аммиака. Какое-то время они ехали молча.
По сторонам шоссе все чаще стали попадаться ярко-зеленые болотины, утыканные, словно костями, торчащими из осоки обломками берез. Иногда из-за леса выезжала черная деревня с пустыми окнами и провалами в крышах.
Неожиданно толстая девушка осведомилась:
– А музыки у вас нету?
– Нет, дамы, эта машина без музыки…
Не успел он закончить, как высокая тут же спросила:
– Закурить не найдется?
Андрей протянул назад пачку "примы", и они вытащили – он почувствовал – по две или три сигареты. Щелкнули несколько раз зажигалкой, вперед повалил вонючий дым.
– Вы домой или в гости? – спросил Андрей, открывая форточку.
– В гости, – ответила высокая.
– Ну, может, все равно знаете… В Ершовке есть такой Валера Козырчиков ─ не слыхали?
– Это не Насоновых племянник? – посмотрели девушки друг на друга: – Ты че, он еще сидит. Может, мафиозник, что недавно дом построил?
– Нет, он давно там живет. Должны знать: к нему много народу приезжает.
– Нет, не знаем.
Помолчали. Через минуту Андрей спросил: к кому они едут? Так, к родственникам. Чем занимаются в городе: учатся или работают? – Да нет ─ работают. – Ну а что деревня? как там живется? – Да никак: работы нет, денег не платят, пьют все… "Не очень разговорчивые, – подумал Андрей, – ну и ладно"…
Проехав половину пути, он выбрал рощу поживописнее и, съезжая на обочину, объявил:
– Девочки – направо, мальчики – налево?
Когда спускался с насыпи, вспугнул двух уток. Впереди закрякал и полетел из-за куста зеленоголовый селезень с красноватой грудью и синими зеркальцами на крыльях, за ним – пестро-коричневая утица. Он остановился, глядя на лес за канавой, полной бурой, прозрачной воды, вздохнул всей грудью: "Эх, воздух – ёлкин дух!" И усмехнулся: и вправду – ёлкин: к березам и осинам примешались уже сосны и ели.
Вернувшись к машине, Андрей достал из багажника канистру и сумку.
– Пора подкрепиться. Ну-ка, полейте на руки, потом я ─ вам.
Из сумки он выложил на газету хлеб, яйца, картошку в мундирах.
Толстая девушка с жадностью запихала в рот целое яйцо, высокая откусывала небольшими кусочками, вывернув кверху ладонь с отставленным мизинцем. Затем они закурили.
– Отдохнуть не желаете? – спросила вдруг высокая и вызывающе посмотрела на Андрея. – Недорого…
– Мы и так отдыхаем… – не понял Андрей.
– Нет… поразвлечься с девушкой. – Она покраснела, однако глаз не отвела.
– С какой девушкой? – теперь он начал краснеть – и рассердился на себя.
– С какой хочите: хоть с ней, хоть со мной.
– И сколько? – спросил он с усмешкой.
– Сколько будет стоить? – переспросила девушка. – В зависимости от услуги…
– А как насчет… в счет… платы за проезд?.. Нет, всё!.. – Не выдержал – рассмеялся Андрей. – Садимся – поехали…
Высокая пожала плечом и посмотрела вдаль на дорогу, отрясая крошки с брюк.
Он быстро собрал остатки завтрака, захлопнул багажник и остановился, держась за дверь, потому что девушки продолжали стоять.
– Ну? что случилось? Садитесь – довезу, раз взялся. Сейчас все равно работы не будет. – Девушки, видимо, обиделись – сели с каменными лицами, глядя мимо Андрея.
"Надо же, – думал он, когда немного успокоился, – в зоне, бывало, полжизни отдал за какую-нибудь самую завалящую… А тут целых две – и не то, что нет желания, а даже противно…" Дорога становилась все хуже, и это прибавляло злых мыслей. Незаметно для себя он начал выстраивать доказательство против продажной и, вообще, какой бы то ни было любви, представляя в качестве оппонента Виталю, скупщика краденого. Придумывал возражения на его мнимые доводы и так увлекся, что чуть не проехал заправку.
Березы и осины, чем дальше на север, становились кряжистее, выше; и вот на одном из подъемов они увидели черный, как бархат с зеленым отливом, холмистый горизонт – впереди была тайга. Шоссе пошло под уклон – и бархат, с различимыми уже волнистыми верхушками, стал разворачиваться полого вниз, вероятно, к реке.
Зарябили белые столбики; вспыхнула, словно ее включили, черно-белая полоса ограждения и потом так же неожиданно погасла. Они переехали какую-то речушку с татарским названием, очевидно, приток той реки. За посаженными рядами соснами показались красные и белые крыши – они въезжали в большое село.
Девушки попросили высадить их на площади, где были магазины, шашлычная и пивная. Объяснили Андрею, как ехать дальше, и направились к грохочущему, точно молотилка, вишневому джипу – внутри бухал включенный на полную мощность магнитофон.
От районного центра до деревни, в которой жил гуру было еще километров тридцать. Дорога стала уже, она петляла по увалам, держась поодаль от реки. Положение последней он мог определить по границе между черно-хвойным откосом и свежей зеленью березняка, сбегавших друг другу навстречу. Андрей миновал еще две деревни, прежде чем приблизился к цели своего путешествия.
Ершовка, словно карусель с поставленными на нее домами, заброшенными коровниками и красноватыми скелетами комбайнов, с косогором и проржавевшим током, разворачивалась ему навстречу, пока он объезжал ее, не находя поворота. Водителю уже начало казаться, что он проскочил его, когда вынырнул долгожданный знак "перекресток".
Андрей проехал почти всю деревню и никого не встретил. Наконец увидел у колонки женщину, в домашнем халате и чунях. Она оперлась на рычаг, выгнув руку, подняв плечо, и не спускала прищуренных глаз с машины, пока Андрей, объезжая рытвины, пробирался по улице. Он открыл дверцу, объяснил, кого ищет. Женщина махнула свободной рукой:
– Как доедешь до магазина, повернешь налево. Там увидишь: сосна в ограде и слон… – Но тут вода из фляги начала переливаться ей под ноги, и она с неожиданно звонким взвизгом отпрыгнула, а потом наклонила тележку, чтобы вылить лишнее.
Он не стал выяснять, при чем тут "слон", поехал в указанном направлении, повернул налево и почти сразу увидел кирпичный дом за высоким синим забором. На шелушащихся воротах был нарисован белый слон и что-то написано, – видимо, на санскрите. В глубине двора росла раскидистая сосна, на толстом суку спиной к улице сидел человек в противогазе. Он производил руками непонятные пассы, как будто зашивал что-то гигантской иглой.
Андрей толкнул калитку, она оказалась незапертой, и переступил высокий порог. Во дворе никого не было, у самых ворот стояла бежевая "девятка". Человек на сосне даже не оглянулся на стук задвижки.
Майор собрался уже окликнуть его, как вдруг в застекленных сенях раздался топот заплетающихся ног, пьяное рычание – и дверь распахнулась. На крыльцо вывалились две простоволосые девушки ─ одна в шортах и майке, другая завернулась в простыню, ─ они вели под руки толстого, волосатого мужчину. Толстяк был абсолютно голый: в черноте, под огромным трясущимся брюхом, – эта деталь сразу бросалась в глаза – подпрыгивало некое подобие шарика для пинг-понга. Девушки при виде Андрея попятились, как если бы хотели вернуться в дом, но туша по инерции продолжала двигаться вперед и увлекла их за собой. Толстяк, сотрясаясь заросшим телом, запнулся о собственные ноги и грохнулся на четвереньки, показав обрамленную лысину, – девушки отпустили его. Та, что была в простыне, потеряв равновесие, села на ступеньку. Простыня спала, обнажив маленький, розовый сосок, красавица поглядела выразительно на Андрея и натянула покрывало на плечо.
Мужчину вырвало, в подставленный второй девушкой таз. Он весь посинел, почернел, шея стала толще головы, виски вздулись, рот со щеками вытянулся вперед, и из него начали вываливаться свекольного цвета куски. Расторопная девушка склонилась над ним и, упираясь рукой в его загривок, приговаривала:
– Вот так, молодец ─ еще поблюй.
Толстяк сел на верхней ступеньке, весь в слезах и поту.
– Что вы мне дали, гадины? – протянул он плачущим голосом.
– Узвар, очищающий, – сказала старшая, в шортах.
– Смерти моей хотите! Я же компотику просил, дуры.
– Ничего, потом спасибо скажешь.
Толстяк продолжал охать и отдуваться в то время, как девушка обтирала ему рот и все лицо полотенцем. Под каштановой шерстью проступил румянец, губы налились, будто спелые вишни. Андрей наблюдал за ним, не скрывая усмешки, и тут взоры их встретились.
– Ты что же ругаешься, как собакоед? – сказал Андрей. Он окончательно узнал Валерку Козырчикова по слабому страбизму широко расставленных глаз, который даже сейчас придавал его взгляду мечтательное выражение. (И все равно не верил своим глазам: неужели этот волосатый боров и есть Валерка Козырь, которого он помнил маленьким и худым, с набитыми на кулаках мозолями. Тот еще в школе увлекался восточными единоборствами, распускал слухи о своих победах и пользовался славой великого бойца, хотя подрался всего один раз и то был бит. Впрочем, сколько он его не видел? Лет двадцать, а то и больше? Все течет, все изменяется…)
Толстяк смотрел мимо него расходящимися глазами внимательно и тупо, словно стараясь разглядеть, кто прячется у Андрея за спиной.
– Почему калитка не закрыта? – проговорил он уже без капризных ноток, – сколько вас учить, чтобы все запирали. Я тут организм чищу, – продолжал он, обращаясь к Андрею, и поморщился, как если бы из утробы поднялась тяжелая отрыжка, которую он подавил: – Это особый вид сура-терапии, известный еще с «Пуран».
В глазах его мелькнул осмысленный огонек, они на минуту заняли нормальное положение: очевидно, гуру сообразил, что перед ним кто-то знакомый, но кто именно – вспомнить не мог. Перегаром от него несло за версту.
– Не признал, что ли? – усмехнулся Андрей. Девушки во время их разговора неуверенно улыбались, не зная, как себя вести. Светловолосая, что упала вместе с гуру, уже поднялась и куталась в простыню, словно в тогу. Валерику накинули на пояс полотенце.
– Ты кто, брат? – спросил гуру. Андрей почувствовал себя неловко как человек, которого не узнают. На мгновение ему показалось, что он вообще утратил индивидуальность, имя и почти перестал существовать.
– Андрея Зубова помнишь? – поспешил он возобновить утраченное "я" и добавил с сомнением: – Был такой…
– Так это ты, что ли?.. – не то облегчение, не то разочарование промелькнули в неопределенных глазах гуру. Он попытался приподняться навстречу, но лишь закряхтел и протянул руку. – Когда я тебя… в последний раз видел? Курсантиком еще, неоперившимся, – а сейчас заматерел: коса, волосы до плеч…
– Экономия на парикмахерской…
– А мы только глаза продрали, не успели еще себя в порядок привести… – Он поднял голову и посмотрел на спутанные волосы девушек. – Это мои Матанга с Сидхайкой, верные спутницы, – шасанадеваты, короче говоря… – представил гуру дам.
Повисла неловкая пауза, во время которой все улыбались и усиленно соображали, что бы такое сказать не очень глупое. Вдруг Андрей вспомнил, о чем хотел спросить:
– Что за человек там, на сосне?
– А – это… Дигамбар один, – ответил, даже не оглянувшись, Валера. – Медитирует.
– Почему в противогазе?
– Плоть умерщвляет – аскет! – произнес гуру, расширив со значением глаза.
– Не упадет?
– Не-ет!.. Он же как кошка: владеет боевой йогой – моя школа. Пойдем в дом. – Гуру поднялся с помощью деват и продолжал рассказывать, проходя в сени: – Мы тут с даосами второй день квасим, у меня там два даоса сидят. Даосы эти – пьяницы ужасные, я бы и не пил совсем, если б не даосы…
Попав из сеней в темную прихожую, Андрей на какое-то время ослеп и шел держась за руку одной из девушек.
– Осторожно, здесь ступенька, – сказал Валерик.
Он все равно запнулся, наткнулся на умывальник, но тут слева открылась дверь, ведущая на кухню, и Андрей снова начал видеть. Ему указали туда, сами провожатые исчезли за другой дверью, напротив.
Посреди просторной кухни за столом сидели две худощавые фигуры в одинаковых футболках и шортах. Вероятно, это и были даосы. Оба при его появлении сделали вид, что привстали в плетеных креслах, чтобы пожать руку. "Гена", – произнес на южнорусский манер долговязый, костистый, с маленькой головой и длинным, раздвоенным носом даос. У него были рыжие усы, торчком, и скошенный подбородок, что делало их обладателя похожим на осетра. "Володя", – представился другой, невысокий, с очень белой кожей и сочными, красными губами. Редкая челка едва прикрывала глубокие залысины на огромном лбу. Говорил он тихо и загадочно. Его пальцы и шею украшали толстая печатка и цепь. Он тут же пересел как-то боком и продолжил играть цепью.
Перед Геной стоял высокий бокал с выдохшимся пивом, дальше – тарелки с вчерашними закусками, винегрет, пиала с медом, черствый хлеб. Геннадию, по всей видимости, не здоровилось и пиво ему не помогало. Володя выглядел свежо, как после утренней пробежки.
Через минуту вошел голый по пояс Валера в белых штанах, препоясанных под большим, шерстистым животом веревочкой. Остатки длинных волос на голове были схвачены ремешком.
– А что водки у нас не осталось? – спросил, провожая его глазами, Гена.
– Должна остаться, – сказал бодро хозяин. Он протиснулся между холодильником и креслом, в котором сидел Володя, – при этом его живот желеобразно перекатился за спиной даоса – и заглянул в угол, где стояли пустые бутылки. Пальцем сверху пересчитал их.
– Где-то еще одна должна оставаться… – подсказал Гена.
– Если, конечно, не разбили, – пробормотал хозяин озабоченно.
Все, привстав, заглянули в ведро около печки, потом под свои кресла, под газовую плиту.
– Матанга!.. – закричал Валерик, но тут же хлопнул себя по лбу и воскликнул: – Я же ее в морозилку убрал!..
Он распахнул холодильник, раздался треск, будто что-то отодрали ото льда, и окрыленным тоном сообщил:
– Замерзла бедная!
Заиндевелая, с ореолом льда на боку бутылка казалась игрушечной в его пухлой лапе. В этот момент Валерик напоминал волосатого ребенка-великана. Вилкой сковырнул пробку ─ и из горлышка в хрустальные стопки потекла густая прозрачная струя. Кто-то задвигал под столом ногами.
– Загустела, тянется… – сказал Валера.
– Замерзла, хе-хе-хе,– захехекал, поджав по-осетриному губы и не спуская глаз с бутылки, Геннадий.
– Ну, что как неродной? – посмотрел Валера на Андрея, который остался стоять у печки, сложив на груди руки. – Давай поближе…
– Спасибо, я не пью, – сказал майор.
– Как не пьешь? – Гуру развернулся и указал бутылкой на кого-то, вошедшего на кухню. – У нас аскеты и те пьют.
Это был человек с сосны. Андрей узнал его по рваным джинсам – надетую на голое тело ветровку он снял и бросил на газовый баллон. Расширяющийся книзу, лишенный мускулатуры торс аскета был изжелта-смугл. Круглая и седая голова коротко острижена, подбородок и грудь без следов растительности. На левом плече выколота русалка в купальнике, с поднятыми локотками, и под ней какое-то изречение. Белки карих, больных, словно заключенных в зеркальную оболочку, глаз были тоже желты. "Борисыч, у тебя желтки побелели, – наверно, уже где-то поправился", – сказал Валерик. "Где бы я поправился!" – с раздражением ответил аскет. Он с осуждением посмотрел на Андрея и протянул ему руку – в этот момент майору удалось прочитать следующую за изгибом хвоста русалки надпись: "Берегите любовь!".
– Саня, – мрачно проговорил аскет, глядя уже не на Андрея, а на Валерика. – Ну что, по соточке?
– Тебе нельзя, – сказал строго гуру и наполнил поставленную Андрею рюмку.
– Нет, я не буду, – запротестовал майор и отодвинул ее. – Вон, и Володя не пьет…
– Володя… Володя – особый случай. А за встречу? – за встречу надо выпить! – настаивал Валера.
– За меня Саша выпьет! – Андрей быстро протянул свою стопку аскету. Валера рта не успел раскрыть, как тот подхватил ее, отставив округло мизинец, и вздохнул.
– Борисыч, ты же знаешь: тебе нельзя! – закричал гуру.
– Одну можно… чтоб сосуды расширить.
– Тогда неси еще рюмку, – буркнул Валера.
Эта перепалка сопровождалась шумной неразберихой, суетливой жестикуляцией и хаотичными перемещениями: Гена пересел на табурет, Валерик развалился в его кресле (кресел было два). Появились девушки. Темноволосая Матанга принесла стул Андрею, Борисыч остановился у него за спиной.
Выпили. Андрей лишь пригубил, уступая требованиям хозяина. Геннадий опрокинул и замер, выпрямившись верхом на табурете, растянул рот в деревянной улыбке – и только потом крякнул, как бы ставя восклицательный знак с отточием. Кончик носа у него покраснел, на лице появилось выражение блаженства. Саня не спускал больных, блестящих глаз со стола, макал через Андрея хлеб в мед и сосредоточенно жевал, словно стараясь понять, что это такое. Один Володя не пил.
– Опять упустил? – спросил Валера аскета, закусывая заветренной колбасой.
– Поймал – они на ашоку сели.
– Точно поймал?
– Ну что, еще по соточке, чего душу томить? – Их разговор заинтриговал Андрея. Он подумал, что некоторые слова здесь следует толковать иносказательно.
– Как медитация прошла? – спросил он осторожно, повернувшись к Борисычу.
– Нормально, – ответил невозмутимо аскет, но, по-видимому, не понял, о чем речь. Валера воззрился на Андрея с недоумением и вдруг закричал, размахивая маринованной волнушкой на вилке:
– Ха!.. Я же пошутил – сказал, что ты на ашоке медитацией занимаешься! Он рой с перепою упустил – вот и полез туда за роем! А ты думал: мы совсем тут съехали! Одно для меня непостижимо, как он… – гуру ткнул грибом в Борисыча, – как он не боится с похмелья к ним подходить. Даже я никогда к пчелам с перегаром не подойду, а он может!
– Я дыхание на полчаса задержал, – сказал так же хмуро аскет.
– А-а, ну если дыхание – это другое дело. Если дыхание, то и я могу!
– Ну что врете, – вмешалась Матанга, взбивавшая что-то мутовкой у плиты. – Мы же видели: он в противогазе был.
– Жено, что общего между тобой и мной! – с пафосом возвестил гуру. Борисыч даже бровью не повел – сосредоточенно смотрел на стол, не то с сознанием женского несовершенства, не то потому что "соточка" опять откладывалась.
После второй "за знакомство" всех охватил яркий, радостный подъем единения – когда спрыснешь на старые дрожжи: все заговорили одновременно, наперебой, но, казалось, к месту и остроумно. Даже деваты, стучавшие ножами у разделочного стола, принимали участие в этой глоссолалии. Матанга беседовала с Володей, Гена и Борисыч доказывали что-то самодовольно кивавшему Валерию, белокурая Сидхайка, надевшая выцветшую футболку и юбку, вставляла реплики и поглядывала на Андрея.
– Как вы тут живете, городские? – спросил майор, когда словесный поток иссяк.
– Дело не в месте, а в человеке. Когда в тебе мир – миры! – какая разница, где жить…
– Ну а с местными какие отношения?
– Ой, эти деревенские задолбали совсем! – воскликнула радостно Сидхайка. – Шепчутся за спиной, сплетни распускают: кто с кем пошел…
– Особенно после того, как они голые в магазин сходили, – закричал Валерий.
– Как голые? – удивился Андрей.
– Это я виноват, – гуру указал на аскета, – пожурил его по пьяне: мол, какой же ты дигамбар: в штанах ходишь. Дигамбар значит "одетый ветром". Ну Борисыч и отправился в магазин в чем мать родила.
Тут аскет с готовностью взялся за молнию на штанах.
– Нет, Борисыч! Мы верим – не надо! – закричал Валерик.
– Так у Любастры челюсть отвисла, – продолжала, сияя, Сидхайка. – Говорит: «Голым не отпускаю (Голос у нее стал гнусавым и гадким, каким был, вероятно, у испуганной продавщицы.), приходите одетые». А Саша ей – нет, я не смогу повторить, какой ужас!.. «Чтоб у тебя член на лбу вырос!» – только он на букву "хэ" сказал.
– Борисыч – прост, аки голуби, раньше таксистом был…
Неожиданно бутылка опустела, все сразу задумались, погрустнели.
– Всё, – сказал Гена. – Надо за водкой ехать.
– Сегодня магазин в деревне не работает, только в райцентре можно взять, – проговорил гуру с озабоченностью хозяина, у которого закончилась выпивка. – Самогонка есть, но ее пить нельзя. Нет, ни в коем случае! – добавил он категорично.
По лицам Борисыча и Геннадия пробежала светлая тень сомнения, что такой случай когда-нибудь может все-таки наступить.
– Нет-нет, – запротестовал Валерий, – это отрава! К тому же она мне для дела нужна. А ты не привез? – обратился он к Андрею, и все присутствующие посмотрели на гостя.
– Да нет, я думал, вы не пьете, – почувствовал вину Андрей.
– Ну-у, не пьем… – протянул мрачно гуру.
– Мы съездим, – поднялся Володя, за ним Геннадий. С даосами вызвался ехать и Борисыч. Андрей тоже "скинулся" на водку.
Закрыв за "девяткой" ворота, они с Валерием сели покурить на крыльце: гуру уперся руками в верхнюю ступеньку, будто собираясь отжаться, потом с трудом повернулся и сел.
– Хорошо здесь – тихо, – сказал Андрей. Где-то вдалеке взревел трактор, и тут же с противоположной стороны отозвалось эхо.
– Тихо! – иронично поднял палец Валера. – Хотел удалиться от мира ради достижения абсолютного знания – и вот, удалился!
– Здесь каждый звук отдельно, а в городе сплошной гул, – пояснил Андрей. – Все равно отдыхаешь. Воздух – сам в легкие льется, не надо дышать. Вот бы еще не курить…
– А что это за "молния" у тебя на машине написана?
– Так верблюда у Магомета звали.
– М-м, респект, – сказал Валера с одышкой, доставая из-за уха сигарету, которую ему оставил Геннадий.
– Да, лучше водку пить, чем курить… – задумчиво согласился он. – Я только, когда выпью, курю.
Солнце горячим потоком било прямо в лицо, они смотрели себе под ноги: поднять глаза не было никакой возможности.
– Опять, наверное, лето засушливое будет, – проговорил гуру.
По двору важно вышагивал маленький петушок – поднял ногу и, свесив гребень, покосился на двух курильщиков.
– Это из джунглей петух – банкивский. Мне его один индус привез.
– А я думал: не удался просто.
– Ну да, не удался! – воскликнул Валера. – Злой, как черт, – всех петухов в округе перевел. Мужиков терпеть не может: нападает сзади и бьет шпорами. Ты, когда в сортир пойдешь, поглядывай назад. Леху Зернова помнишь? С тобой в одном классе учился…
– Помню, конечно.
– Когда у меня тут гостил, он ему так саданул – у того очки слетели! Хотел здесь дом купить – не нашел. Сейчас в тайге живет, учительствует в школе. Еще дальше, в самый урман, забрался. Деревня Халдеевкой называется. Тоже человек брадатый и лохматый, в манихейство ударился.
– Это что такое?
– Ересь древняя: у них и люди не люди, и бог не бог – а черт. Если хочешь, я тебе по карте покажу. Потом еще раз заезжал, адрес оставил… Хотя какой там адрес? – первый дом от околицы.
– А они кто, эти ребята? – спросил Андрей.
– Кто? Володя? "Черный пояс" по каратэ-до, известный в городе каратэг, а Гена… так, при нем. Уличный боец, «смертельный кулак», экстремал. Вместе начинали когда-то, Володя дальше пошел, а Гена остановился на достигнутом. У них симбиоз, друг друга дополняют. Володя что-то пытается в Гену вложить, ну а тот слушает…
– Я думал даосы мяса не едят, – вспомнил Андрей свое удивление при виде того, как последователи Лао-цзы уплетали сало и колбасу.
– Воинам разрешается, – не без важности ответил Валера.
– Они что, воины?
– Ну-у… можно так сказать, – проговорил гуру.
– А Борисыч?..
– Борисыч – тяжелый случай. У него рак мозга был…
– Рак?! И что, сейчас – нет?
– Нет: я его исцелил. – У Валерика глаза закатились под веки. – В раджа-йоге есть целая система упражнений, с помощью которых даже рак можно вылечить, если в начальной стадии. Плюс мадхувидья, медовая терапия…
Вдруг задергалась, запертая на засов, калитка.
– Кого еще черт несет? – Валера кряхтя встал, подошел и заглянул в щелку. – Что тебе, Семен?
– Отвори-ка, – послышалось с улицы.
– Без денег не дам. – Гуру взялся за ручку, но не открыл.
– Ну а ты отвори, – может, я принес.
В окно высунулась Матанга.
– Посмотри, сколько нам Семен должен, – сказал Валерик, отпирая засов.
В открывшемся проеме выросла худая, растрепанная фигура: рубашка навыпуск, лицо светится блаженной улыбкой, глаза запойные. На голове с одной стороны волосы торчком, с другой примяты, отчего кажется: не хватает полушария, – видимо, Семен на том боку спал.
– Покажи деньги, – сказал гуру. Мужик разжал руку со смятыми бумажками. Валера выглядел слегка растерянным.
Матанга снова показалась в окне и, подозвав его, что-то сказала вполголоса. Семен прошел в калитку (он был в домашних тапочках), заметил Андрея, кивнул как знакомому. Тем временем Валера вернулся к Семену, и тут между ними произошла заминка. Семен протянул руку, чтобы поздороваться, а Валерик – за деньгами ладонью вверх. Увидел, что бумажки еще зажаты в кулаке, начал опускать руку, но передумал и погнался за правой рукой Семена, которую тот уже убрал, и стал протягивать левую с бумажками. Гуру, однако, догнал правую, несколько раз тряхнул ее и только после этого взял деньги. Он развернул их и замер, словно не зная, что с ними делать. Семен тоже тупо уставился на деньги. Валерий поднял свои мечтательные глаза и проговорил с укоризной:
– Тут не всё, Семен. А за прошлые разы?
– Как не всё! – удивился Семен, заглядывая в раскрытую ладонь, почесал в голове: – Ну, Валерк…там всяко… ты ж меня знашь.
Валерик вздохнул, изобразил на лице крайнюю степень досады и сказал Матанге:
– Ну, принеси одну. Сколько там осталось?
– Одна и осталась. – Она тут же протянула бутылку с мутной жидкостью, как будто держала ее под подоконником.
– Вот народ! – смущенно негодовал Валерик, когда Семен ушел. – Знает же, что не хватает, – еще надуть хочет…
– Ты что, самогонку продаешь? – спросил Андрей.
– Джайнам разрешается… Всё, что не причиняет вреда живому – даже деньги в рост можно давать.
– Ты же сам говорил, что это ─ отрава.
– Для кого – отрава, а для кого – чудодейственный бальзам… Они сами еще хуже гонят. Я, может, его спас, а то взял бы у Евлампьевны и ласты завернул! Мертвый это народ, мертвый, – всё!..
– То есть как мертвый? – удивился Андрей.
– Мертвый значит – неживой. Разжижение мозгов и синдром Дауна, закрепленный в наследственности. А что ты хотел, если почти сто лет шел планомерный отбор имбецилов. И вот они – расплодились… – Он развел руками.
– Нет, все равно что-то должно остаться…
– Ну, выйди посмотри! Нет, ты выйди за ворота и посмотри! Выйди-выйди. Ну, пошли вместе выйдем. – Тянул Валерий Андрея за рукав.
– Да я был там… – привстал Андрей и снова сел.
– Нет, пошли – ничего ты не видел. На детей их посмотри. Пойдем-пойдем…
– Они детей специально головой об стену колотят, чтобы они были такие же тупые, как их родители, – сказала, свесившись из окна, Сидхайка: – Суп готов, можно садиться.
– Ну, пойдем выйдем, – уступил Андрей.
– Заодно и покурим, – добавил гуру. – Нет, это – все, конец. Еще лет десять и ничего не останется.
– Что-нибудь да останется.
– Да ничего – кагалык-магалык останется, татарин один останется… А нет… китайцы все займут!
Они вышли за ворота. В ту и в другую сторону улица была пуста. Вдалеке поджарая свинья гонялась за лохматой собакой, та лаяла на нее и тут же отскакивала. Они молча закурили, наблюдая за животными. Наконец Валерик проговорил:
– Ну вот – национальный колорит!.. Пойдем, ладно, суп есть… Суп у них специальный – ведический. – "Все у него специальное, особенное, – подумал Андрей. – Ничего обыкновенного".
– Суп у нас вегетарианский. Вы едите вегетарианское? – спросила Матанга, разливая суп по пиалам.
– Очень даже ем, – сказал Андрей, почувствовав зверский аппетит.
– А я медовухи выпью, а то как-то иссяк духовно,– сказал Валера, доставая из шкафа бутыль, похожую на оплывшую свечу, в темно-янтарных подтеках. – Ты будешь? – Андрей поблагодарил и отказался.
Девушки тоже подсели к столу со своими пиалами и стаканчиками. "Ну, налей и нам", – сказала Матанга. У нее были темно-каштановые волосы (точно такие же попадались в супе – Андрей внимательно осматривал каждую ложку и незаметно складывал их возле тарелки), круглое лицо, острый нос, широкая кость. По виду старше Сидхайки лет на десять. Сидхайка была стройной, гибкой, с детским выражением овального лица и янтарных глаз. Ее светлые волосы попадались в салате ("Это – особый тантрический салат", – сказал Валерик.) Она села через угол от Андрея и касалась его под столом коленом. При этом он снова видел ее с выпрыгнувшим из простыни розовым соском, устремленным к небу, – и у него жаром наливалось внизу живота. Он отодвинул свое колено, но через какое-то время ее нога снова оказалась рядом с его.
– У меня Танга по супам, а Хайка по пирожкам – специалистки, – говорил Валера, склоняясь над большой тарелкой. – Ох, люблю я эти пирожки медовы! – подмигнул он игриво.
"Да-а, – подумал Андрей, – попал…"
Съев тарелку, Валерик откинулся в кресле и погладил себя по животу:
– Лет пять назад я таким не был: с вегетарианской пищи несет – на одних овощах да кашках… А женщинам нравится! – Перешел он, поглаживая, на широкую, волосатую грудь и подмигнул самодовольно в сторону девушек: – Мужчина должен быть большой…
– У мужчины должен быть большой! – вставила Матанга, и Сидхайка чуть не подавилась: поперхнулась, слезы брызнули из глаз. Валера растерянно завозился в кресле, вцепился в подлокотники.
– А у меня что, для вас маленький? – спросил он обиженно.
– Нет, – закричал Сидхайка, – у него просто "зеркальная болезнь" – из-за живота не видать!..
Андрей испугался за Валерика: он посерел, поджал губы, на глаза навернулись слезы. Девушки тоже заметили эту перемену и притихли.
– Что у тебя за рисунки на стенах? – спросил Андрей, чтобы отвлечь гуру.
– Это янтры, энергетическая живопись… – нехотя, как если бы каждое слово давалось ему с большим трудом, проговорил Валерик. – Специально для медитации. Им соответствуют мудры и мантры, которые нужно знать, чтобы найти вход в янтру… Но это для продвинутых – тебе это не к чему. – С каждой сказанной фразой он, казалось, еще больше впадал в амбицию: речь его замедлялась и становилась тише. – В общих чертах… Дело в том, что энергетика человека соответствует энергетике космоса… Как говорят тантрики: что есть в тебе, то есть и там; а чего нет в тебе, нет и там… Так как человеческое тело заключает в себе все силы космоса, они концентрируются в центрах, которые расположены вдоль всего позвоночного столба и имеют форму лотоса… Вот, например, на этой, – Валера указал на одну из картинок, – квадрат с четырьмя выступами означает четырехлепестковый лотос, который соответствует самой грубой материи, расположенной в районе гениталий… – Вдруг он развернулся к Матанге и почти закричал: – У твоего бывшего, наверно, больше был?! Он-то уж точно весь в корень пошел! Метр с кепкой!..
– Ты что, рыбка! Рядом с тобой никакого сравнения, – начала гладить его по плечу Матанга. – Ты самый большой, самый умный…
– И потом дело же не в размере, а в умении, – внесла свою лепту Хайка. – Мал золотник… – Матанга толкнула ее под столом – Андрей почувствовал, как толчок передался его ноге.
– Пойдем покурим, – предложил он Валерику. Тот молча встал, и они вышли во двор.
– Что-то долго их нету, – сказал Валера отрешенно. Он открыл калитку, переступил порог, Андрей последовал за ним. – А, легки на помине. – И правда, в начале улицы показалась пылящая "девятка", из окна неслась музыка и торчали чьи-то голые ноги.
– Шлюх деревенских сняли… – Валера прищурился, вглядываясь в людей, сидящих в машине. – Ну, точно! Нельзя Борисыча с Геной отпускать!
"Девятка" юзом повернула к дому, подняв волну песка, – внутри завизжали, заглушив магнитофон, – и стала как вкопанная в метре от ворот. Из нее выпали Гена, Борисыч и… две сегодняшние попутчицы, обе уже пьяные. Увидев Андрея, они хихикнули и поздоровались. Гена сгреб их в охапку с самодовольной, деревянной улыбкой и начал таскать кругами, но чуть не уронил . Толстая вырвалась, а вторую, высокую, он не отпустил.
Володя сдал назад, чтобы заехать в ворота, но открывать никто не спешил.
– На хрена вы их притащили! У меня что тут, постоялый двор! – выговаривал вполголоса в стороне Валера Борисычу. Тот оправдывался. Гена с бутылкой пива в одной руке и с девушкой в другой что-то кричал Володе, стараясь перекрыть хлопающую, как выбивалка по ковру, музыку. Валера посмотрел на них и махнул рукой. Толстая девушка осталась одна, она сосредоточенно курила, запивая дым пивом. Андрей пошел открывать ворота. На крыльце стояла Матанга, чернее тучи.
– Давай и твою загоним… – сказал Валера, думая о чем-то другом.
– Пусть там стоит, кому она нужна.
– Ты не знаешь – тут война! Угнать не угонят, а какую-нибудь пакость сделают. Вон, видишь: уже на стекло плюнули.
На боковом стекле, и правда, появился какой-то белесый подтек.
– Может, то корова лизнула?
– Корова!.. – проговорил с горькой усмешкой гуру.
Володя достал из багажника сумку с водкой.
Андрей загнал "молнию" и поставил рядом с "девяткой", подошел к Валерику.
– Зачем он их привез? – он же трезвый: разве не понимает, что они этого терпеть не могут! И не выгонишь: обидится, – пожаловался гуру майору.
– Пойду пройдусь по лесу, – сказал Андрей.
– Куда ты-то уходишь! Что я тут один буду делать?
– Где же один – вон вас сколько!
– А!.. – Валера махнул двумя руками. – Только не заблудись, у нас тут заблудиться – раз плюнуть. – Он стал объяснять, как спуститься к реке.
Но Андрей выбрал другую дорогу, через деревню. Ноги сами несли под гору. Ему встретились дети, они замерли, с одинаково бессмысленным выражением под выгоревшими ресницами. И пока он не скрылся из виду, их расплывчатые от размазанной грязи лица поворачивались за ним, как локаторы. На другой улице валялся пьяный мужик в нескольких шагах от калитки. "Может быть, он прав: и деревня действительно вырождается", – думал Андрей. Он повернул в проулок, и там ему попался старик, ведущий под уздцы тяжеловоза, черно-пегого с рыжей гривой, с лохматыми ногами. Сам вожатый был под стать коню: рослый, грудь как каток, заломленная кепка едва держится на широком, седом затылке, на ногах юсовые сапоги. Во дворе дома, ворота которого были открыты, дородная старуха в заношенном халате развешивала белье, седые пряди выбились из пышной копны и растрепались по ветру. Она подняла руки, чтобы прищепить ветхую ночную рубашку, движением исполненным спокойной грации в бесформенном уже теле. Две лохматые, широколобые собаки лежали в воротах и без всякого выражения смотрели на прохожего. И дети уже не казались ему слабоумными: у них обветренные, неправильные, но красивые лица, от которых веет какой-то первозданной свежестью, – чистые, хоть и грязные, думал Андрей.
Выйдя из деревни, он прошел немного по дороге и свернул в бор. Было уже жарко. Он шел по бору, как по пустому залу. Солнце опоясывало чешуйчатые колонны сосен, стлалось по рыжей от игл земле, путалось клубком огня и черноты в кустах, слепило, словно зеркальный пол, отражаясь от листьев папоротника. Пахло горячей хвоей. Паутина горела переливчатыми лоскутами, за ними лес тонул, как в зазеркалье. Большинство нитей были невидимы, и Андрей в который раз начинал отмахиваться и сдирать сухую, липкую гадость с лица, ругая пауков и себя за то, что опять потерял бдительность.
Приятно было тонуть в ковре из игл, наступать на шишки и чувствовать под ногой упругое, круглое. Большой черный дятел пропорхнул долотом над самой его головой, сел где-то в глубине леса и гулко застучал по клавише ксилофона. В другом месте Андрей увидел на ветке большущую сову, не спускавшую с него желтых глаз. Он остановился, с минуту они смотрели друг на друга. Сова моргнула и отвернулась, словно недовольная чем-то, и снова уставилась на Андрея. Он подавил желание запустить в нее палкой. Сова замерла, как столб, и продолжала гипнотизировать незваного гостя. "Во репа! – подумал ликующе Андрей, рассматривая ее широкую, плоскую голову. – Какое здесь все большое, крепкое… головастое! – не сразу подобрал он эпитет. – Даже пауки… – при воспоминании о них его передернуло: – Хотя пауки, скорее, жопастые".
Андрей набрел на небольшую лужайку с поднявшейся уже травой и прошлогодним репейником. И сразу его окатило жаром: не было ни ветерка, ни малейшего дуновения. Пахло горячим соком растущих трав. Кузнечики садились на рубашку, Андрея сопровождал лениво звенящий рой паразитов. Откуда-то прилетел размером с шершня, полосатый овод с зелеными глазами и стал с гудением, от которого мурашки пробегали по спине, описывать круги во всю поляну. Даже комары здесь были в два раза больше обычных и тоже зеленоглазые, как стрекозы. Андрей лег в тени деревьев. Вершины сосен плыли навстречу друг другу, их движение завораживало. Хотелось обдумать что-то важное, что накопилось за этот день – месяц, год, ─ но мысли разбежались. Впрочем, и без них было как-то исчерпывающе значительно. "Вот так и жить, – решил он про себя. – Купить дом в деревне – и просто жить, как эта трава, деревья. Что меня постоянно куда-то заносит! Всё хватит – пора остановиться…» Вдруг кто-то впился ему в шею. Он привстал на локте и достал из-за ворота рыжего муравья. Стараясь не причинить вреда, сжал его двумя пальцами, но так, чтобы тот мог дотянуться челюстями до ногтя. Крепкое, маленькое тело пыталось вырваться из гигантских тисков и прокусить твердый заусенец. Ему радостно стало от ощущения силы в этом комочке. Андрей любовался его матовым блеском, надломленными книзу сяжками, черными, будто нарисованными глазками. Он отпустил муравья, и тот сразу стал бегать, останавливаться, шевелить усами, – очевидно, в поисках врага. "Вот так и жить"… – подумал еще раз Андрей, встал и двинулся в сторону, где по его расчетам должна быть река.
Он вышел на крутой, высокий берег. Внизу под глинистым обрывом в извилистом русле быстро неслась, крутя водовороты, желтая вода. Из нее то там, то тут торчали черные коряги. На другом берегу опять стеной вставал бор. Прямо под ногами был небольшой пляж: здесь намыло гору мелкого, ослепительно белого песка. "Ну что, пора открыть купальный сезон?" – решил про себя Андрей и, держась за корни висящей сосны, начал спускаться вниз.
Раздевшись, он подошел к воде. Ноги через твердый слой песка ушли в холодный ил, просочившийся между пальцами. Андрей бросился в воду, это было как ожог всего тела – ледяная стремнина несла его на коряги… Размашисто погреб к другому берегу. Выскочил, ухватившись за ивовый куст. Скользя по мокрой глине, поднялся наверх, увидел, что его сильно снесло, и верхом пошел назад. Остановился напротив того места, где заходил в воду, ощущая всей кожей яркую, жгучую свежесть после купания. Подумал, что, если сейчас кто-нибудь возьмет его одежду на том берегу, то он не успеет доплыть и догнать вора. Андрей представил себе лица йогов, когда он заявится без штанов, – потянулся, нежась на солнце, хрустнул всеми суставами.
Зашел выше по течению и оттуда переплыл на свой берег. Пошел побродить по нему. За поворотом открылся чудесный вид. Солнце мягкими, искрящимися серебром бликами качалось на воде, на листьях ив и осоки; ласково слепило из промоин в песке. За спиной журчал ручей, выбегавший из уступа по прорытому в глине руслу. На том берегу бегали дымчатые кулички, высоко над водой пролетели две пепельно-розовые горлицы. Андрей остановился по колено в воде, дно здесь было глинистое твердое, и увидел свои синевато-бледные, уменьшенные слоем прозрачной воды, словно чужие, ноги. Особенно поразили его пальцы на ногах – все разной формы: одни пузатые, другие головастые – странные. И кулички показались ему странными: носатыми, кургузыми демонами, бегающими на спицах. И сосны были уже не сосны, а какие-то грибы или полипы с другой планеты. Сейчас все выглядело смешным и нелепым, без пугающего, холодного выражения пустоты, как раньше, – по крайней мере, что-то за всем этим было, не совсем, правда, то к чему привык, и чего хотелось, но и не враждебная бездна.
Он вышел на берег и простоял там, хлопая на себе паутов и вглядываясь в это что-то, чуть не до самого вечера. И все так же безрезультатно. Надежда разъяснить свои "припадки" у Валеры становилась все слабее, и он уже начал сомневаться, что ему вообще удастся поговорить с ним о чем-то серьезно.
Глава третья
В деревню он возвращался уже в сумерках. Лесная дорога вывела с пляжа на профиль. У синих домов освещены были только скаты крыш, обращенные в сторону лилового свечения на месте угасшего заката. Лес тонул в голубоватой дымке. В деревне лопалась и пузырилась далекая музыка. Вокруг же было тихо, словно все звуки замерли в ползущем на поля тумане. И в то же время в воздухе чувствовалось какое-то дрожание. Сначала он не понял, что это такое, и только, когда проходил мимо заросшей камышом лужи, узнал крики лягушек, которые сливались в то нарастающий, то стихающий вой. Прямо над головой бесшумно пролетел на зарю тетерев, за ним, вытянув шею, – другой… Андрей ощутил в себе ту тягостно-волнующую силу, что пробуждалась в природе с наступлением темноты. "Может, это и все, что там есть, за всем этим, – думал опять Андрей, – и только?"
Повернув в свою улицу, он понял, что не ошибся: музыка неслась из дома гуру. Во дворе Андрей застал следующую сцену: в центре стоял козлоногий стол, за ним в глубине догорал костер. На столе в завязанной под грудью ковбойке исполняла танец живота Матанга. Скорее, это был танец грудей, грозивших вот-вот выпрыгнуть из рубашки. На нее снизу вверх с ненавистью смотрел Борисыч и поднимал падавшие рюмки. Сам хозяин сидел во главе стола, развалившись в кресле, сейчас он напоминал фиолетового индийского божка: голова ушла в плечи, живот переместился кверху и едва не подпирал зоб, через плечо была накинута какая-то занавеска, один глаз закатился под верхнее веко, другой свалился к виску. Левой рукой он крепко обнимал Сидхайку, сидевшую на подлокотнике. Лицо его выражало благодушие. Над переносицей была нарисована тика в белом ореоле, который Андрей принял за третий глаз. При его появлении Володя, выставивший из машины ногу, убавил громкость. Матанга неуклюже соскочила на стул, а потом на землю. Борисыч воспрянул духом и закричал: "Штрафную!" – но налил и выпил сам. Все расселись на табуретках и стульях вокруг стола.
– А где Геннадий? – спросил Андрей, оглядываясь. Его посадили рядом с Валерой.
– Спать пошел – сейчас придет, – ответил тот, кивая головой и словно с чем-то соглашаясь.
Андрея удивило, почему Гена должен вернуться, если ушел спать, поэтому он спросил на всякий случай:
– А девушки, что с ним были?..
– Сбежали, как только увидели, что они тут вытворяют, – радостно выпалила заплетающимся языком Сидхайка. Валерик сразу ее повалил на себя, не давая говорить, но она, уперлась руками ему в грудь, опять села и, глядя прямо в глаза Андрею, продолжала протяжно: – Все равно скажу: пусть вам стыдно будет! Они, дураки, тут членами начали мериться: у кого больше… – Но договорить ей не дали, Валерик снова повалил ее и заткнул рот долгим поцелуем.
– Ну что, где был? – спросил он, оторвавшись от Сидхайки.
Андрей описал пляж, на котором провел всю вторую половину дня. Матанга налила ему холодного супу.
– Знаю: хорошее место. Завтра поедем туда купаться, – сказал Валера.
– Почему завтра? Давайте сегодня! – закричала Сидхайка.
– Нет, сегодня мы уже никуда не поедем, – возразил гуру. – Раньше я сам любил гулять, доходил аж до Сигаевки, в сорока километрах отсюда. Но теперь мне это ни к чему…
– А левитацией будем заниматься? – спросила Сидхайка.
В это время открылась дверь, и из дому вышел Гена. Усы у него топорщились, а прическа напоминала взрыв. Он молча прошел к столу, кивнул Андрею и сел рядом.
– Завтра… всё – завтра, – ответил с запозданием Валера, так как следил за пробудившимся даосом. Борисыч тут же поставил перед Геной рюмку и наполнил ее. Тот выпил, потер колени, крякнул и окаменел. Затем втянул сквозь стиснутые зубы воздух, закрыл глаза, согнул руки, уперев локти в живот, сжал кулаки и громко выдохнул. В такой позе он оставался с полминуты, – очевидно, погрузился в медитацию, – наконец, открыл глаза, откусил соленый огурец и спросил:
– Андрей еще не возвращался?
Все растерянно посмотрели на Андрея. Он тоже стал озираться: кого не хватает.
– Шутки-то плохие, – продолжал Гена, хрустя огурцом. – Тайга кругом – надо идти искать.
Володя, качая коленом, проговорил негромко из машины:
– Да ладно, Гена: сейчас лето – выйдет к реке, сделает плот и сплавится до первой деревни.
– Как же он себе плот свяжет без топора? Он же топор не взял. Без топора в лесу смерть, – возразил сурово Геннадий.
– Значит, у него судьба такая – от судьбы не убежишь, – присоединился к разговору Валерик: – Погибоша, аки обри…
– Все надо идти: ночь уже… Фонарь есть? – Гена сделал движение, собираясь встать, но тут Андрей дотронулся до его рукава:
– Ты не меня случайно потерял?
Гена вытаращил на него глаза, словно не узнавая, деревянно улыбнулся, мотнул головой и крепко пожал ему руку.
– За спасение, – провозгласил тост Борисыч.
Вокруг поднялся визг и топот: все что-то кричали, вскакивали с мест, чокались за чудесное спасение.
– Погибоша, аки обри!.. – повторил несколько раз сдавленным голосом, всхлипывая, Валерик. Один Гена был невозмутим, опрокинул стопку и, не говоря ни слова, ушел в дом.
– Обиделся, наверно? – сказал Андрей.
– Да ну, спать пошел, – с трудом выговорил Валерий, – через полчаса вернется, можешь время засечь. Он – как метроном: туда-сюда ходит…
– Пожарник, экстремал: ему постоянно надо кого-то спасать… – сказал Володя. Неожиданно из машины грянула музыка – он прибавил громкость. Тут же вскочили, схватившись за руки, деваты – пошли танцевать.
– Он что, правда, пожарник? – крикнул Андрей Валере.
– Сначала матросом работал,– закричал тот в ответ, – выгнали за то, что штурвал спер. Сейчас в пожарники подался.
– Зачем ему штурвал?
– Спроси! Говорит, на стену хотел повесить. Эстет!
Борисыч с рюмкой пустился отплясывать канкан. Гуру весь перевернулся в кресле, чтобы видеть танцующих. Володя включил фары, и в их свете девушки начали раздеваться. Первой сбросила рубашку Матанга, за ней стянула футболку Сидхайка. Подняв вверх руки, они водили бедрами, едва не касаясь друг друга сосками. Володя выскочил из машины, снял майку и пристроился сбоку. Борисыч пустился в боевой танец: он скакал на полусогнутых по кругу. Володя тем временем втерся между танцовщицами, взял за талию Сидхайку. Андрей уткнулся в пиалу с супом.
– Ну-ка, оденьтесь! – пронзительно закричал Валерик. – Тут чужие, – может, ему не приятно… – Он с неожиданным проворством вскочил, натянул Сидхайке на голову футболку и отвел за стол. Володя, как ни в чем не бывало, обнял за талию Матангу и продолжал танцевать с ней. Она высвободилась и тоже оделась.
Борисыч бросился, петляя, к столу, схватил полную рюмку и провозгласил:
– За дживу и адживу! – Но никто не поддержал тост. Валерик не отпускал от себя Сидхайку, они о чем-то горячо спорили.
Из дома вышел Гена. Он сел напротив Андрея, налил себе водки – и в точности повторил всю "водочную церемонию". На этот раз ничего не сказал, закрыл глаза и застыл в анабиозе. Веселье пошло на убыль.
– Гена, иди спать, – толкнула его Матанга. Он встал, направился было к крыльцу, но вернулся, пожал Андрею руку и спросил:
– Как оно, все нормально? Хе-хе…
Володя выключил фары, двор освещал лишь догоравший костер. В черный, небольшой купол высыпали тысячи две звезд, и люди во дворе висели над ним вниз головами, как летучие мыши.
– В городе столько звезд не бывает, – сказал Валера. Все подняли глаза кверху. – Нет ничего удивительнее, чем звездное небо над головой… – проговорил задумчиво гуру.
– Как в планетарии, – сказал Борисыч.
– А знаешь, это – Венера? – с вдохновением воскликнул Валерик, держа за руку Сидхайку. – Вон смотри, видишь на западе самую яркую звездочку? У меня и труба на чердаке есть: я же раньше астрологией занимался …
– Тантрической? – спросил Андрей.
– Да… Индус смотрел мои гороскопы и сказал: ты гуру для гуру, махатма…
– Махатма всея Сибири и Дальнего Востока, – поддакнула Сидхайка.
– Покажи, где лечь, а то я что-то устал, – попросил Андрей, вставая из-за стола.
Матанга пошла в дом, чтобы постелить Андрею. "Нет, – думал он, следуя за ней, – все течет, но ничего не меняется. Завтра же – домой". Положили его в каком-то закуте, где стоял один топчан и стул. Андрей тут же заснул, как только голова коснулась подушки.
Ему снилось, будто он стоит перед строем, генерал вручает медаль, но никак не может сообразить, куда ее приколоть, потому что на Андрее нет одежды, он совершенно голый. Вдруг солдаты в строю задвигались, и генерал начал сердиться и кричать на них. "Нет, ее здесь!" – разобрал последнюю гневную фразу Андрей – но сперва кто-то включил яркий свет на плацу… Он приоткрыл глаз и увидел спину Валерика, руку на выключателе – тут же все погасло. Андрей колебался: вернуться ли ему в дурацкий сон или проснуться окончательно? Нет, решил он, сейчас все равно что-нибудь другое приснится. Однако в коридоре быстро заскрипели половицы, потом кого-то начали допрашивать, и подследственный что-то бурчал в ответ, а женский голос вставлял свои замечания.
– Ты совсем от водки отупел! – раздался визгливый вскрик Валерика. – Куда они пошли, спрашиваю!
Андрей, натянул штаны и выглянул за дверь. Посреди прихожей стоял Валера, перед ним Борисыч в трусах, который почесывал покрывшуюся мурашками русалку. Он как-то тупо и сердито таращил глаза на гуру и встряхивал головой, силясь понять, что тому нужно. Из спальни в ночной рубашке выглядывала Матанга.
Валера был уже в брезентовой куртке, в руке он держал фонарь.
– Давай быстрей – пойдем твоего друга искать! – закричал он кому-то, возившемуся на кухне. Оттуда, застегивая на ходу шорты, появился заспанный Геннадий. Валерик включил-выключил несколько раз фонарь, и они вышли в сени.
Андрей вернулся в постель и повторил про себя: "Завтра же, завтра же домой!" В тишине за окном было слышно каждое слово: вот они пошли за дом, потом вернулись, постояли, решая, куда теперь идти. Направились к воротам, звякнула калитка, и все стихло.
Через какое-то время Андрея опять разбудили громкие голоса во дворе: один, мужской, выяснял что-то на повышенных тонах, другой, женский, пытался оправдываться, – но он не стал просыпаться: уплыл в распахнувшееся перед ним залитое радостным светом пространство.
Утром он никак не мог вспомнить сон, что оставил ощущение только что пережитого счастья. "Тот дурацкий, с генералом, помню, а этот – хоть убей! – не могу…" – досадовал он на себя, лежа в постели. В доме было тихо, он решил подождать, когда кто-нибудь встанет, но не дождался, встал первым и вышел во двор. Там он увидел только свою машину, "девятки" не было.
По дороге в уборную Андрей вдруг услышал хлопанье крыльев и получил шлепок ниже спины, будто карлик подпрыгнул и ударил сразу двумя ногами. Он оглянулся: это был петух, нахохлившись, как шар, он наскакивал на него, пытался еще клюнуть и нанести удар шпорами. Андрей отшвырнул его ногой, поспешил запереться в деревянной будке.
Вернувшись в дом, он заглянул на кухню: Гена тоже исчез, на полу лежал свернутый матрац. Андрей поставил на плиту чайник и сел к столу.
Только около одиннадцати послышалось какое-то шевеление, скрипнула одна из дверей, оттуда завернутая в простыню стремительно прошла в ванную нечесаная Сидхайка. Через четверть часа она, умытая, но все еще заспанная, с припухлостями под глазами, в юбке и футболке, появилась на кухне, конфузливо поздоровалась и предложила чаю. Он поблагодарил, сказал, что уже пил.
– Махатма еще не вставал? – спросил Андрей.
– Ой, боюсь, он сегодня не встанет… – Она быстро обернулась и снова отвернулась к раковине. – У него головка бо-бо. – И опять обернулась-отвернулась.
Вслед за Сидхайкой поднялась Матанга, не сказав ни слова, она ушла наводить порядок во дворе.
– Никто не водится со мной, – проговорила Сидхайка, как бы ища сочувствия.
– Я вожусь. А человеческие имена у вас есть? – спросил Андрей.
– Я Марина, она Света.
– Петух у вас злой – он что, на самом деле индийский?
– Нам его соседка отдала: драчливый… Ой, что это я секреты выдаю!
– А индус был?
– Индус был.
Несмотря на прогноз, Валера все-таки встал и, с трудом переставляя ноги, добрался до кресла.
– Тебе бы похмелиться сейчас, – сказал сочувственно Андрей.
– Нет, всё: я не пью. Вот чаю… – пролепетал страдалец, однако съел пиалу вчерашнего супа, выпил стопку водки и пошел спать дальше.
Дверь в спальню была приоткрыта, Андрей, проходя мимо, увидел, что Валера лежит на спине и глядит в потолок. На стуле рядом с кроватью виднелись бутылка минералки, початая пачка нитроглицерина и томик Кастанеды (Андрей уже видел у него вчера). Он постучал: можно? Тот кивнул и даже оживился.
– Ты обещал книги показать. – Он остановился у книжного шкафа, в изножии широкой кровати. Достал Чжуан-цзы.
– Как же хреново… – неожиданно простонал Валерик, Андрей обернулся.
– Что хреново? – спросил он.
– Да все. У тебя так бывает с похмелья: лежишь – и повеситься хочется?.. – продолжал гуру, глядя на Андрея какими-то вытянутыми кверху, странными глазами. – Такая тоска наваливается – пошел бы удавился…
– Бывало раньше…
– Лежишь, как раздавленное животное – а тоска, нечеловеческая, первобытная… И это может продолжаться и день и два, а кажется: пяти минут не выдержишь – сейчас пойдешь удавишься. Только лень вставать веревку привязывать…
Косые глаза выражали, скорее, удивление, и противоречили тому отчаянию, которое прозвучало в голосе гуру.
– Я потому и пить бросил, что удовольствие как-то быстро стало пролетать, а похмелье наоборот тянется до бесконечности, – сказал Андрей.
– Это возрастное, я думаю, потому что раньше так не было, – задумчиво проговорил Валера и перевернулся на бок. – И главное, она и потом является ни с того ни с сего. Кажется, и не пьешь – вдруг, бац, вот она! Вцепится и не отпускает – только не плоть терзает, а дух…
– А это не помогает? – Андрей постучал по другой книжке, которую снял с полки.
– Йога?
– Ну йога, философия ─ вообще…
– Как не помогает – этим только и спасаюсь! Они затем и придуманы, чтобы прятаться в них от тоски. Но это все… как бы сказать?.. Заменители, суррогаты жизни – не то, что должно быть.
– Не то, что хотелось, чтоб было? – поправил Андрей.
– Ну да… – согласился, не вникая, Валерик. – Как-то все быстро закончилось, не успел пожить: все готовился, приуготовлялся – и вдруг: херак – и конец! А как все начиналось, сколько обещаний, самоупоения, какие сны и бессонные ночи, сколько энергии сожжено даром, а в итоге похмельная тоска и – брахман! Ты вот сохранился, это сразу чувствуется: от тебя свежестью веет. Это потому что был как бы законсервирован в армии…
– Я уже лет шесть как не в армии – хотя, можно сказать, был законсервирован, – усмехнулся Андрей.
– Ну, вот видишь, я же чувствую. – У Валеры глаз подкатился под верхнее веко, но потом вернулся на место. – А мы тут перепробовали и испытали все, что только можно было и нельзя, так ничего и не поняв…
– Ты же говоришь, что жить не начинал, – прервал его Андрей, он по-прежнему стоял с книгой в руке перед кроватью.
– А как бы и не начинал! – воскликнул тот. – Все промелькнуло, как сон, а что это было и зачем?.. И вот в итоге становится ясно, что истинный путь лежал под ногами: это – семья, любимая жена, дети. То есть то, о чем все знают, а мы поэтому знать не хотели, искали все путей необычайных!..
– Ну, семейная жизнь тоже не совсем то… – перебил Андрей, он подумал, что самое время задать свои вопросы: – Со мной с недавних пор стали твориться странные вещи… Вот стою я на берегу реки… Или иду по улице, и вдруг все вокруг представляется мне не таким, как есть на самом деле. Вижу все то же, но оно словно другим боком повернуто или вывернуто наизнанку: все то же – но другое…
– Это у тебя третий глаз открылся, – сказал Валерий с удовлетворением. – У индусов нормальное явление: у них у каждого второго третий глаз. Поэтому там никто не работает, лежат себе на улице; что упадет рядом, то съедят. А так, йоги могут, как черепахи, до трех лет не есть. – У него опять подкатились глаза.
– Ну, третий или четвертый, я не знаю, – продолжал Андрей, – но мне это не нравится. Все сразу становится лишним, ненастоящим, каким-то… уродливым…
– Как бы спадает пелена с глаз? – вставил Валера. – Все кажется пустым, ненужным… Это покров Майи.
– Какой покров?
– Майи – богиня древнеиндийская. Я не буду тебе всю мифологию пересказывать, – речь гуру становилась все более вялой. – Короче: реальный мир это – обманчивый покров, который она набрасывает на наше сознание. На самом деле его нет, он – иллюзия. Иногда этот покров приподнимается, и мы видим все пустым, лишенным смысла…
– Нет, смысл как раз есть, но какой-то нехороший. Словно это не люди, а насекомые… а насекомые наоборот кажутся людьми… Они как бы сравнялись, и между ними нет больше разницы. И словно все это… – теперь Андрей обвел вокруг рукой, – чья-то злая игра…
Валера зевнул и закрыл глаза, так он лежал довольно долго. Видно было, что он потерял интерес к разговору или неожиданно обессилел, "иссяк духовно". Затем открыл глаза и сказал:
– Ну да, все правильно… Я тебе потом одну книжку дам почитать, а сейчас вздремну, если не возражаешь.
Валера отвернулся к зашторенному окну, дав понять, что разговор окончен.
– А где Зернов живет? – спросил Андрей перед тем, как уйти.
– Я тебе потом по карте покажу, – сказал, не поворачиваясь, гуру.
Андрей взял книгу и тихо вышел, притворив за собой дверь. Он сел в своей каморке и попробовал читать, однако чтение давалось с трудом. И не из-за сложности текста или пустоты содержания, а из-за выталкивания его другими мыслями. "Надо домой подаваться", – снова подумал он. Но уехать, не попрощавшись с хозяином, было не вежливо, тот же спал и неизвестно, когда проснется, Андрей решил пойти погулять. На этот раз он выбрал маршрут, который советовал вчера Валера: через деревню и сразу к реке.
Там ничего примечательного он не увидел: заливные луга, пасущиеся на них лошади, черные лодки у берега.
Вернувшись с прогулки, он застал гуру под навесом с книгой в руках. Андрей объявил, что ему надо ехать.
– Остался бы еще, воздухом подышал, – сказал Валера и тут же закричал видневшимся в огороде Матанге и Борисычу: – Эй, идите попрощайтесь с человеком – он уезжает!
– Приезжай еще, – поднялся он, чтобы проводить Андрея, – летом здесь хорошо, а грибов-ягод – хоть косилкой коси!
– Приезжайте еще, – сказала Сидхайка, выглядывая из окна кухни. Матанга надергала ему "в город" незрелой редиски и петрушки. Борисыч молча пожал руку и пошел открывать ворота.
Андрей посигналил на прощание в твердой уверенности, что никогда больше сюда не вернется и вряд ли кого-нибудь из них еще встретит. Оглянулся, но увидел только Борисыча, закрывавшего ворота.
Сразу стало легко и свободно, как бывает всегда, когда уезжаешь из какого-либо места, словно освобождаешься от него (от этого места), от того, что связывало тебя с ним, от людей этого места и от установившихся отношений. Впереди была прямая деревенская улица, она звала и затягивала в стремительно сокращающуюся перспективу. Андрей нажал на газ, "молния" словно почувствовала его настроение – загудела, но быстрее не поехала. Он выскочил на шоссе: снова начали поворачиваться по сторонам одетые свежей зеленью леса и перелески, поднявшиеся озими и траурные пашни, болота и черные избы.
Не доезжая до районного центра, Андрей увидел у обочины вишневый джип. Что-то насторожило его: и стоял он криво, и задняя дверь была распахнута, закрывая ему проезд. Он сбавил скорость. В джипе что-то происходило, какая-то возня. Вдруг на дорогу из открытой двери, пятясь задом, выскочила девушка в брюках ─ он узнал недавнюю пассажирку. За ней наполовину вывалился коротко остриженный коренастый субъект в тенниске, весь розово-красный, включая белки глаз. Он держал девушку за волосы и тянул назад в машину, а та лупила его сумочкой по голове. Андрей начал притормаживать. Верх брала девушка, она вырвалась и уже сама тащила коротышку из машины, ее противник слабел и сползал на асфальт. Но тут с водительского сиденья поднялся остриженный верзила в спортивном костюме. Он обошел джип, ударил девушку ногой в живот с разворотом. Она отлетела на середину дороги, а верзила стал запихивать своего друга в салон. Андрей остановился у обочины, вышел из машины.
– Тебе чего, патлатый?.. – спросил рослый каратист. Однако Андрей не успел ответить: мозг затопила ярость, на глаза опустился мрак. Следующее, что он видел, это задранные вверх ноги скатившегося в канаву великана. Предшествующее мгновение всегда, ускользало от его внимания.
Андрей помог подняться девушке: на брюках у нее висел вырванный клок, кофточка была в пыли, сама она тяжело дышала. Коротышка тоже попытался выйти из машины, но Андрей затолкнул его обратно и захлопнул дверцу.
– Что случилось? – спросил Андрей у девушки, помогая ей отряхнуться.
– Всё, блядь, брюкам пиздец, – сказала она, дыша еще радостью боя, и пытаясь приставить клок на место. – Новые брюки изорвал, сволочь!– закричала дико коротышке. Тот из окна выставил средний палец.
– Что все-таки произошло? – повторил вопрос Андрей.
– Не хотят платить – пассажжжиры… – последнее слово она выговорила с особым презрением. —Ты смотри, козел, что с брюками сделал! —закричала она пронзительно, и опять из машины показался палец.
– Сколько они тебе должны? – спросил Андрей.
– Стольник несчастный зажали! – крикнула девушка, чтобы и коротышка слышал. – Стольник – такса за минет!
Андрей подошел к задней двери джипа, открыл ее, взял коротышку за горло – из пунцового тот стал багровым, – достал из кармашка на груди рулончик, перетянутый резинкой. Вытащил несколько бумажек, остальное вернул владельцу.
– Платить надо за удовольствие, – сказал ему назидательно Андрей.
– Какое удовольствие!.. – возмутился тот, еле ворочая пьяным языком. – Она меня укусила.
– Так машину тряхнуло, – возразила девушка. – Надо было на дорогу твоему другу смотреть, а не назад.
– В общем, за брюки и… за все, – сказал Андрей, отдавая девушке деньги. – Поехали, я подвезу. Тебе куда?
– В город.
Она села вперед, вытряхнула из туфлей песок и захлопнула дверь. Сначала они ехали молча. Девушка достала платок с зеркальцем и принялась стирать размазанную краску с лица, нашла в сумочке помаду (сама сумка и содержимое – все какое-то жалкое, копеечное; там же лежала бутылка с водой и салфетки), повернулась к свету, накрасила губы. Затем занялась коленом: разглядывала через дыру ссадину, слюнявила палец, растирая кровь и грязь. Но по ней было видно, что, несмотря на потери, она довольна исходом боя.
– Обработай одеколоном. Есть одеколон или духи? – посоветовал Андрей.
Она нашла маленький флакончик и, перевернув на палец, смазала колено, запахло приторными духами. Вынула из сумки пачку сигарет, предложила Андрею – он отрицательно качнул головой, – щелкнула несколько раз зажигалкой, клацнула сумочкой. Они въехали в райцентр, миновали шашлычную и на выезде Андрей спросил:
– А подруга где твоя?
– Дома осталась – корррова! – процедила сквозь зубы девушка. Наклонилась вперед, пытаясь приколоть вырванный лоскут к штанине булавками.
– Почему – корова?– пожал плечами Андрей.
– А что, не корова, что ли?
– Корова… – согласился он и больше не отвлекал ее от ремонта брюк.
Снова – березовые перелески, снова – болота и пашни, и однообразию этому нет конца. Скучна сибирская низменность, видимо, не хватило у природы красок для этих просторов. Правда, иногда вдруг высветит солнце глубь леса – словно заглянет в темный собор сквозь изумрудные и золотые витражи. Но и озарит не все, останутся загадочные клубки тьмы в самой чаще. Кажется, вот-вот и откроется за этим картина еще удивительнее, а может быть, даже какая-то тайна, и все сразу разъяснится, а если и не все – то многое… Но промелькнуло, и нет ничего – глядишь, ищешь по сторонам хотя бы намек на это мгновенное откровение. Однако все уже затянулось серым покровом скуки, на мозг снова наползает непроглядная пелена.
– Хорошо мы их наказали, – сказала девушка, она закончила возиться со штаниной и снова достала сигарету. – Я же деньги у него забрала – думаешь, что он меня не пускал. И ты еще несколько сотен вытащил. Давай поделим, если хочешь…
– Это-то и плохо – что хорошо: вон они, – прервал ее Андрей. Он уж минут пять наблюдал в зеркале заднего вида за красной машиной, но пока она была далеко, у него не было уверенности, что это джип. Однако красная точка с бликом на лобовом стекле росла и скоро превратилась в вишневый "паджеро", сверкающий дугами, "кенгурятником" и галогенами на крыше. С пассажирского сиденья злорадно скалился коротышка, верзила, с распухшим носом и синяком под глазом, закусил яростно губу.
– Они не бандиты случайно? – спросил Андрей, то и дело поглядывая в боковое зеркало.
– Да какие бандиты! Может, когда-то и были бандитами, а сейчас лес продают – или покупают? Денег полные карманы, а стольник зажали – пассажжжиры, блин!..
– Ну-ка, остановимся, посмотрим, что они будут делать. – Андрей начал притормаживать, но увидел, что джип не снижает скорость. – Черт!.. – нажал он на газ, однако было поздно…
– Упрись ногами! – успел крикнуть он девушке. Джип ударил их в заднее крыло – голова чуть не оторвалась от шеи. Их развернуло, и они уже ехали прямо в заросли боярышника по ту сторону от дороги, будто плыли вниз, плавно разворачиваясь… Резкий, сотрясающий толчок, – они стукнулись друг о друга, врезались головами в крышу; все подпрыгнуло, перевернулось. Раздался хруст стекла и скрежет металла. У Андрея застряла нога, тут же ее прожгла острая боль. Машина замерла вверх колесами, и сразу заглохла, только шипел пробитый радиатор.
Со всех сторон в салон лезли переломанные ветки, одна вонзилась Андрею в плечо. Пахло содранной корой, кровью, каким-то ржавым паром, видимо, вода из радиатора залила горячий мотор. Они, скрючившись, лежали на крыше внутри салона и смотрели друг на друга: Андрей между спинками сидений, а попутчица дальше, ее отбросило назад.
– Хорошо, крыша крепкая, – сказал Андрей, весь в мелких порезах от осколков лобового стекла.
– У кого? – спросила девушка, держась за голову.
– У машины…
– У нее, блин, крепче не бывает! – сказала она весело.
– Ты как?
– Нормально, целая вроде, – ответила девушка.
– Тогда вылезай и беги в лес. У меня нога сломана.
– А ты?
– Отобьемся, – поморщился от боли Андрей.
Он помог ей выползти в окно, и она, спотыкаясь, побежала к лесу.
Бандиты появились не сразу. В джипе при ударе сработали подушки безопасности, поэтому оба походили от талька на мукомолов: один с бейсбольной битой, другой с железным прутом. Андрей, морщась от боли, поглубже втиснулся между ветками и закрылся отвалившимся сиденьем.
В заднюю дверь заглянул маленький.
– Ну, как оно? – золотозубо ощерился он, стараясь разглядеть среди веток и вещей Андрея.
– А ты как думаешь? – спросил он.
– Я думаю, что хуево! – сказал коротышка, оба бандита заржали. Маленький дернул за ручку, пытаясь открыть дверь, но ее заклинило. Большой с силой ткнул несколько раз битой в Андрея – попал в сиденье. Кусты мешали им подойти ближе.
– Что это вы, ребята, все белые как мучные черви? – сказал Андрей.
– Сейчас красный будешь! – пообещал верзила, и снова нанес битой серию колющих ударов. Андрей поймал ее за толстый конец и стал тянуть к себе. Коротышка бросился помогать товарищу, однако Андрей перетянул обоих. Тогда маленький попробовал достать Андрея прутом, неожиданно прут сорвался и попал верзиле по зубам.
– Ты что, сука! – завопил тот и отпустил биту. – В шары долбишься!
– Я не хотел, Славентий, честное слово!
Андрей видел только бегающие ноги верзилы и неподвижные коротышки.
– Ты чего скачешь, как пидор подстреленный? – крикнул майор из машины.
– Отдай биту, – нагнулся верзила, разбитый рот он прикрывал рукой.
– Вы бы, ребята, ехали отсюда, пока друг дружку не покалечили, – посоветовал ему Андрей.
– Отдай, а то хуже будет.
– На, возьми. – Андрей протянул биту, но тот не поверил: побоялся лезть за ней в салон.
– Может, запалим? – предложил коротышка.
– Проститутка нас знает. Хрен с ней, с битой, – поехали. Живи, мудак! – крикнул Славентий, – видимо, они боялись, что кто-нибудь увидит их с дороги, поэтому торопились. Коротышка врезал на прощание по двери прутом, затем разбил оставшиеся стекла. Андрей услышал, как загудел джип, звук дизеля стал таять в вечерней тишине.
Через какое-то время по дороге проехала легковая машина, за ней – грузовик, потом еще что-то, а девушка все не возвращалась. Он попробовал нажать битой на сигнал, но тот безмолвствовал. Тогда привязал ее вместо шины к ноге и сантиметр за сантиметром начал выкарабкиваться через окно. И вот, когда вылез уже по пояс, услышал шаги по траве.
Девушка подошла и встала на четвереньки.
– Что, уехали? – спросила она вполголоса.
– Тебя как зовут? – забыл спросить, – проговорил, пытаясь протиснуться дальше, Андрей.
– Анна. – Она помогла ему, вытянула за плечи. Затем посадила, подсунув под спину сиденье.
– Иди, Анна, на дорогу, останавливай всех подряд: самим нам отсюда не выбраться, – сказал майор, морщась от боли.
Машины проезжали мимо: из-за сумерек никто не замечал перевернутую "победу". Промчалась "скорая помощь" в сторону города. Анна выбежала на дорогу и замахала обеими руками, но та устрашающе взвыла и пронеслась, не сбавляя скорость. Наконец ей удалось остановить старенький "москвич", который ехал в город. Вместе с водителем они волоком дотащили Андрея до машины – он сам уже прополз половину пути – и посадили на заднее сиденье. Вернее, они держали ногу, а Андрей подтягивался и заползал туда на спине самостоятельно, приговаривая:
– Тихо, не так быстро… – Он весь взмок и побелел при этом.
Перед самым городом мужик спросил:
– Может, заедем в ГАИ сообщим?
– У меня машина не зарегистрирована: что так отберут, что так… – отвечал Андрей, он пребывал в каком-то полусне: все предметы ему представлялись преувеличенно значительными и большими. Боль притупилась: мужик вез аккуратно, и "москвич" почти не трясло.
– Тогда так, завтра с шурином поеду назад, мы ее попробуем оттащить к себе в деревню, – сказал водитель, подумав. – Если до того не растащат… А там поправишься – заберешь ее.
Мужик назвал деревню и район.
– Я тебе запишу, – пообещал он. Андрей поблагодарил и опять погрузился в дремоту.
Владелец "москвича" знал только областную больницу – туда он их и привез.
Андрея долго не принимали без "полиса", но тут вышел в марлевой повязке под носом, весь забрызганный кровью, огромный, как мастодонт, ушастый, жизнерадостный дежурный травматолог и распорядился везти майора на рентген. Анна отдала сумку с вещами, они не успели даже проститься.
После рентгена его, уже раздетого, подняли на лифте в операционную. Там травматолог поставил ему несколько уколов и куда-то ушел. Нога начала неметь, деревенеть, ее словно распирало льдом. Вернулся он с ручной дрелью, гаечными ключами и плоскогубцами.
– Зачем ключи? – спросил Андрей.
– Ремонтировать тебя будем, – ответил доктор. Подошла сестра, спросила: "Позвать санитаров, чтобы переложили?" – "Зачем? – на каталке сделаем". – Он приподнял двумя руками ногу, а она подсунула брезентовую шину. Смазали до колена черной от йода салфеткой в зажиме, передавая его друг другу. Затем, закрепленной в дрель, спицей врач просверлил насквозь голень Андрея, торчащие из ноги концы вставил в ржавую скобу, затянул болты, откусил плоскогубцами лишнее и скомандовал везти его в палату.
В палате они включили свет и разбудили всех, кто там находился. Врач, две сестры и один ходячий больной переложили Андрея с каталки на свободную кровать. Травматолог привесил ему на ногу через блок гири, и все ушли.
Несмотря на тупую боль в ноге, на то, что ее тянуло и выкручивало, к тому же она замерзла, Андрей тут же заснул.
Как только ворота за Андреем были закрыты, Борисыч крепко задумался: то ли ему забраться в кладовую и отпить немного медового вина из бутыли – не маленькой, что была в шкафу, а большой, из которой пополнялась маленькая, – то ли отправиться на поиски выпивки куда-нибудь еще? Отливать из бутыли становилось небезопасно, так как в вино приходилось добавлять воду, и Валера уже заметил странное превращение, – правда, решил, что оно происходит с ним самим. "Вроде я всю технологию выдержал, – пробормотал он на днях, наполняя третий стакан. – Ну-ка, Борисыч, ты попробуй. Или я достиг совершенства, и вино меня уже не берет?" Борисыч с серьезным видом, отставив мизинец, пригубил, "пожевал", как при дегустации, сказал: "Отличное вино", – выпил, не торопясь, до дна и крякнул, как можно громче. "Ты смотри! – удивился гуру. – Значит, в самом деле, приближаюсь…" К чему приближается, он недоговорил, закрыл глаза и сложил на животе руки.
Борисыч уже принял составленное им самим лекарство, туда вошли: слитые из рюмок водка и пиво, пузырек муравьиного спирта и еще какая-то жидкость из аптечки, с надписью "наружное для Порфирьевой", которую он там заприметил дней пять назад. Он слил все в один стакан, чтобы приглушить резковатый оттенок "наружного" – однако после коктейля ему стало еще хуже. "Не надо мешать!.." – грозил он сам себе пальцем, мужественно борясь с рвущимся наружу "наружным".
Идти тоже было некуда. Неожиданно он вспомнил, как гуру говорил Сидхайке, будто у Семена запой, поэтому ему больше в долг не давать. (Добраться до самогонки было невозможно: она хранилась в шкафу под замком.) И вот, не питая особых надежд, но и не теряя окончательно веры, Борисыч отправился к Семену.
Семен жил на другой улице в обычном бревенчатом пятистенке. Борисыч толкнул калитку, увидел хозяина и сразу все понял: тот сидел на крыльце и пытался вытряхнуть последние капли из бутылька, в котором, судя по этикетке, когда-то был одеколон. Борисыч помог ему подняться и спросил на всякий случай:
– Что, совсем ничего не осталось?
Семен был просветленно пьян, как может быть пьян русский человек на пятый день запоя, поэтому он только восторженно покрутил головой. Глаза его напоминали двух божьих коровок и выражали примерно столько же. Борисыч мрачно вздохнул, хотел спросить еще что-то, но посмотрел на Семена и передумал: и так каждое слово давалось с трудом.
– А Махатман?.. больше?.. не даст? – спросил Семен не сразу, а с паузами между словами.
Борисыч задумчиво покачал головой.
– У кого можно взять, а? Семен? – спросил он, и они стали перебирать места, где была вероятность раздобыть выпивку – вернее, перебирал Борисыч и предлагал Семену, а тот пошатывался и неизменно крутил головой.
– А у Любастры? ─ она же твоя сестра… – Семен продолжал сиять, но завертел головой отрицательно.
– Пошли сходим. – Любастра работала в деревенском магазине. Семен с той же готовностью кивнул, и они двинулись в путь.
Идти было еще тяжелее, чем говорить: словно они в буран, держась друг за друга, брели по колено в снегу. Их постоянно сносило назад или в сторону, они падали под ударами стихии, но поднимались и продолжали движение. (Падал Семен, а с ним и Борисыч, который пытался удержать его на ногах.)
– Только ты сам зайдешь, – сказал Борисыч, – мне она точно не даст… После того…
Он как-то одним жестом сумел передать, что подразумевал, а именно поход в магазин в голом виде. Семен и с этим согласился. Его более трезвый товарищ остался за дверью, он же по стенке вошел внутрь.
В магазине были покупатели, там слышались голоса. Как только появился Семен, все сразу стихло.
– А че твой мудист не заходит? чего это он прячется: стесняется, что ли? – ишь стеснительный какой исделался! – услышал Борисыч язвительный голос Любастры и удивился: как она могла его увидеть? В окно, наверно…
– Любань, нам водки для конпресса… Маришке конпресс надоть… – начал вспоминать Семен речь, которой научил его Борисыч.
– Это твой йох тебя подослал? Ему конпресс на одно место надоть, а не Маришке! – дальше Саня ничего не мог разобрать, потому что от крика продавщицы зазвенели стекла – или в голове так отдалось. Услышал только, когда открылась дверь: – Залупу вам на воротник, а не конпресс!..
Из двери вывалился Семен.
– Не дает, – объявил он жизнерадостно.
Они стояли, покачиваясь, посреди улицы, и фигуры их выражали крушение всех надежд.
– Если только продать что-нибудь?.. – сказал Борисыч. – У тебя есть?..
Семен пожал плечами. И тут глаза Борисыча обратились к небесам, словно в уповании на помощь высших сил – и она не заставила себя ждать. Взор его остановился на проводах, обычных, алюминиевых, натянутых вдоль улицы от столба к столбу. Он проговорил также медленно, но уже окрыленным голосом.
– Семен! У тебя же мотоцикл есть…
Семен сразу нахмурился, по-видимому, он начал трезветь.
– Нельзя… – закрутил он головой серьезно.
– Почему?.. Да нет!.. Я знаю одно место, где цветного металла – завались. Сдадим в райцентре, возьмем водки. Нужны колеса: сами мы не утащим.
Они уже шагали назад, по направлению к дому Семена.
– А ножовка по металлу есть?.. А резиновые перчатки?..
Обратная дорога далась им легче, чем путь в магазин.
Семен, какой ни был пьяный, но стоило ему сесть за руль, сразу преобразился. Со всем необходимым в коляске, они промчались, подняв шлейф пыли, по той самой дороге, по которой гулял вчера Андрей, и уже через полчаса были на месте. Деревню решили света не лишать, к тому же у них не было "когтей" для лазанья по деревянным столбам. Они выбрали ЛЭП, что невдалеке от Ершовки пересекала реку и несла энергию в северные районы.
Минут пять Семен и Борисыч созерцали шестируких исполинов, уходящих колонной за горизонт. Прислушивались к гудению над головой, рассматривали тяжелые гирлянды изоляторов, ржавую табличку с расколотым молнией черепом и чувствовали себя богатырями, которым предстоит сразиться с чудовищем. Последние сомнения тут же отступили, как только начали обсуждать детали. У Борисыча появился даже благородный озноб: он представлял себя освободителем природы от железной хватки цивилизации.
– Главное, за два провода сразу не берись, – повторял Борисыч, как заклинание. Однако этим познания Борисыча в электродинамике не ограничивались. Он дотронулся до опоры: – Все нормально: если тут не шибает, значит наверху тоже напруги нет.
Пролета как раз хватало, чтобы вцепиться в следующую перекладину и, шагая по диагональному уголку, взобраться и встать на нее ногами. Чем ближе к вершине, тем ветер становился сильнее, а гудение "свербежистей", как выразился Семен. Но вот уже и поперечная ферма… Они уселись на ней, чтобы экипироваться: ножовку Семен надел на плечо, а топор и плоскогубцы заткнул за пояс. То же самое проделал Борисыч, только ножовки у него не было, – пустую сумку сбросили вниз. Ее отнесло ветром в крапиву, к синему игрушечному мотоциклу, у которого горели на солнце руль и никелированные зеркала. На руки они надели голицы, резиновых перчаток у Семена не оказалось, вместо них переобулись в резиновые сапоги и чуни. Борисыч сказал, что это все равно – разницы нет: "Главное, чтобы ток через тебя не прошел".
– Ну, царица небесная, – перекрестился Семен, он заметно протрезвел и был собран.
Они стали продвигаться по руке великана к ближайшей гирлянде изоляторов. Первым достиг цели Семен, за ним подошел Борисыч и, чтобы зайти с другой стороны, начал обходить товарища по параллельному уголку.
В это время Семен ударил несколько раз обухом по изолятору, дотянуться до проводов было невозможно.
Раздался стеклянный звон – белые осколки посыпались вниз, и сразу что-то вспыхнуло со страшным треском, будто водой плеснули на раскаленную сковородку.
─ Ага, кусается!.. – были последние слова Семена. Борисыча будто десятком милицейских палок огрели по рукам, голове, по всему телу – ощущение было такое же, оно длилось секунду. Уносясь вниз, он видел, что Семен весь светится и как-то неестественно свернулся, прижался к уголку, на котором сидел. Затем все исчезло, удара о землю он не помнил.
Глава четвертая
Андрею снилось что-то светлое и хорошее. Проснулся он от яркого солнца, бившего прямо в лицо, – возможно, этот свет и приснился ему – но первое, что увидел, был спящий на соседней койке Борисыч. "Ну нет, так не бывает! – подумал Андрей, приподнявшись на локтях и рассматривая нового больного. – Да нет, это не он. У этого лицо опухшее, и синяки черные под глазами. Просто похож на него немного… – постарался прогнать он напоминающее дурноту чувство. – Наверно, я здорово башкой треснулся". Нога у Лжеборисыча покоилась на такой же, похожей на гамак, шине и была накрыта одеялом – выглядывали только вымазанные йодом пальцы. С противоположной стороны от его кровати стояла капельница. Андрей еще раз внимательно всмотрелся в соседа: да нет, не он – точно… Но тут двойник Борисыча потянулся под одеялом, оно сползло с плеча – и приоткрыло локоток русалки.
– Ну-у, так не бывает! – шепотом проговорил Андрей и стал озираться: нет ли где-нибудь поблизости еще и гуру: " Это было бы уже слишком…"
Около полудня Борисыч вдруг проговорил, не открывая глаз:
– Эх, Семена жалко…
Начал стонать, хотел повернуться, но от боли поморщился и открыл глаза. (Сколько потом его не пытали: что за Семен, и почему того должно быть жалко – он ничего не мог вспомнить.)
Увидев Андрея, он нахмурился и спросил его:
– Ты как сюда попал?
– Куда? – спросил с усмешкой Андрей.
– Сюда… А где я?
– Здесь, – посмеиваясь, опустил лицо и покачал головой Митрич, единственный ходячий на всю палату. Это он вчера помогал перекладывать Андрея. В его обязанности, которые Митрич возложил на себя добровольно, входило также выносить судна, доставать из холодильника продукты и, вообще, подавать лежачим все, что им может понадобиться, – в том числе, снимать по просьбе мужиков грузики с вытяжения и навешивать их снова перед обходом.
– Я и так знаю, что не там, – сказал Борисыч, словно вложил какой-то смысл в эту фразу, потом он надолго умолк. Спросил только, что у него с ногой, – услышал, что перелом, и снова задремал. Проснулся часа через четыре, с аппетитом съел оставленную перловую кашу и свекольный салат. (Митрич кормил его с ложечки, потому что руки у Борисыча были забинтованы.) Дальше он лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, и временами проницательно щурился.
Вот что рассказала сестра приемного отделения, отвозившая вечером дигамбара в реанимацию. (Она рассказала Любе, дежурной медсестре, а та, пока Борисыч спал, пересказала уже всей палате.)
Обуглившегося мужика на вершине ЛЭП увидели рыбаки, ехавшие ставить сети на озеро. Под вышкой в бурьяне нашли Борисыча, с обожженными ладонями, сломанной ногой, без сознания, но живого. Вообще, вечером ему везло больше, чем утром. Во-первых, в районной больнице, прозванной в народе "душегубкой", куда Борисыча отвезли рыбаки, не оказалось медикаментов для его лечения. Во-вторых, машина "скорой помощи" должна была везти какие-то документы в областную больницу и согласилась забрать за одно и больного. И в третьих, машина оказалась реанимационной. (Это была именно та "скорая", которую пыталась остановить на дороге Анна).
Борисыча еще в “скорой” подключили к аппарату искусственного дыхания, в областной больнице сделали переливание крови – и не прошло двух часов, как он открыл глаза и обругал по матери анестезиолога, коловшего иглой в вену.
"Всё, в палату его, – распорядился тот, включая капельницу. – Нормальный человек давно бы свернулся, а эти живучи как… – он, видимо, подбирал сравнение поотвратительнее – … как жабы".
Так дигамбар оказался на соседней с Андреем койке, чему, конечно, удивился, но не сильно.
Кроме Андрея, Борисыча и Митрича, в душной, пропахшей съестным и грязными телами палате лежали еще двое – одна кровать пустовала. Молодой смешливый пожарник по имени Коля, которого Митрич прозвал Мандолетом за то, что тот вывалился из окна общежития педагогического колледжа. Коле сделали операцию на бедре, однако неудачно: началось воспаление. Его собирались переводить в гнойное отделение, а пока он занимал первую от двери койку, у той же стены, что Андрей.
Еще один больной лежал у окна в противоположном углу, за Борисычем. У него был вывих шейного позвонка – и изуверское вытяжение за голову: ее просверлили как раз под скулами. Спица была вставлена в большую скобу, напоминавшую кокошник, вместо спинки на кровати установили блок с грузом, который тянул его к изголовью. Он не мог ни есть, ни пить и говорил с трудом: больше мычал и показывал руками, что ему нужно. За ним ухаживала жена, она же кормила жидкими кашками. С легкой руки Митрича все называли его почему-то Зинатулой, настоящего имени история не сохранила. Андрей мог видеть из-за Борисыча только колени, бледный нос и задранный подбородок и то, когда сам приподнимался на локтях.
Митрич был душой палаты. Он придумывал похабные истории про каждого из ее обитателей и рассказывал с самым серьезным видом – новый слушатель обычно попадался на эту удочку. (Иногда даже Зинатула начинал хрюкать от разбиравшего смеха.) Он имел подвижное, будто резиновое, лицо "умного дауна", – когда же сводил глаза к носу, от настоящего его не отличил бы специалист. Вообще, он производил впечатление пленника собственного таланта: часто можно было наблюдать, как его подмывает выкинуть какой-нибудь фортель – и ему редко удавалось удержаться от этого. Борисыча он сразу окрестил Электроником и сочинил историю про то, как тот, "ужратый", пошел к дояркам на ферму, но перепутал их с коровой. Вдобавок присоединил к себе доильный аппарат, произошло короткое замыкание и "самопроизвольная кастрация". "У тебя же там все ампутировано, Саня, – одно гладкое место осталось". Борисыч с досадой отвернулся от хохмача, однако позже, когда ставили утку, как бы невзначай заглянул под одеяло. Самому Митричу должны были удалить шурупы (левая рука у него была изувечена предыдущими операциями), но почему-то откладывали.
Тем же вечером Саня попросил Митрича позвонить своей жене. И вот на следующий день за дверью раздался цокот каблуков и в палату, ни на кого не глядя, вошла острыми шажками, ярко накрашенная, подстриженная "ёжиком" невысокая особа в кожаной юбке. И сразу с порога пропела в нос: "Брюханов – это ты, или не ты? ─ я не узнаю. Как же тебя угораздило, чтобы корова лягнула в причинное место?" Борисыч в первую секунду опешил, но тут же сообразил: "Это Митрич наплел!" Виновник недоразумения надел очки, раскрыл сильно потертую папку и со строгим видом что-то там помечал толстой ручкой – Митрич когда-то занимал небольшой пост в райкоме, и с тех пор у него остались некоторые привычки. Жена привезла Борисычу банку магазинных пельменей, вынесла за ним судно, пообещала в следующий раз захватить марганцовки и протереть его от пролежней. Саня рассказал ей о том, что с ним случилось, но не все, а только то, что посчитал нужным. Она встала, собираясь уходить, и сказала: "Вечно у тебя, Борисыч, все через жопу ". (Митрич прикрыл лицо рукой, как бы обдумывая писание, на самом же деле, весело подмигивал всей палате.) Помахала из-за двери мизинцем: "пока-пока" – и исчезла, оставив облако дорогих духов.
Пельмени он разделил с Андреем. Митрич теперь вкладывал ему в руку ложку, кровать отрегулировали, чтобы Борисыч находился в полулежащем положении, ставили на живот тарелку, и он мог есть самостоятельно.
Вечером Митрич опять надел очки и достал папку. Он долго там что-то перекладывал и листал, сидя с подвернутой ногой на кровати, вынул и показал Борисычу календарь с голыми толстухами:
– Которая на твою доярку похожа?
Наконец Митрич нашел то, что искал: это была матерщинная поэма. Он каждый день дописывал ее и что-то правил, а потом, дождавшись, когда жена Зинатулы уедет зачем-нибудь домой, читал обитателям палаты. Главными героями были пожарник Коля и медсестра Любка, пышные формы которой не давали покоя всей травматологии. Интрига состояла в преследовании ее ненасытным пожарником, причем каждая глава заканчивалось совокуплением в самых неожиданных местах.
– Митрич – молодец! Не хуже поэта получается, – хвалил поэму Николай.
Сегодня во время чтения Зинатула издавал звуки, похожие на кряхтение, все решили, что так он выражает одобрение. Вдруг запищал по-детски сдавленно ─ и начал выдирать из головы спицу, рвать скобу, одеяло. Мужики в первую минуту растерялись. Андрей крикнул, давя на кнопку вызова: "Митрич, держи его!" Митрич бросился к Зинатуле, схватил за руки, навалился всем весом – лицо у того было уже в крови. Заглянула сестра и поспешила за помощью. Через минуту быстрым шагом вошел дежурный врач, сказал, что это – психоз. Следом вбежала сестра со шприцем, только втроем они смогли скрутить его и поставить успокоительное.
Жена примчалась, растрепанная, в застегнутой криво кофте, – ей позвонил Митрич – и сразу принялась вытирать влажной марлей лицо мужу, а другой рукой – себе: по нему ручьем лились слезы. Врач уговаривал оставить вытяжение, в противном случае будет искривление позвоночника, но Зинатула ни в какую не соглашался и снова начинал дергать скобу и сдавленно мычать. Тогда дежурный хирург раскрутил плоскогубцами болты и выдернул спицу, сестра смазала ранки йодом. Вытяжение Зинатуле заменили широкой петлей, которая тянула его за подбородок, – блок с грузом оставили. Он сразу повеселел, начал разговаривать и даже пробовал шутить, правда, сквозь зубы, так как мешала повязка.
Когда все заснули, Андрей спросил у Сани:
– Ты давно у Валеры живешь?
– Да скоро год. – Они придвинулись к краю кровати, чтобы не разбудить других.
– И что, у тебя, на самом деле был рак?
– Да нет, кила была, – Борисыч показал на шею, – вот тут.
– Что?
– Шишка такая, – он говорит: злокачественная – хрен ее знает. Потом рассосалась.
– А ты и до Валеры этим всем интересовался?
– Маленько. Хотелось познать что-нибудь новое, только он ничего не рассказывает.
– Почему?
– Говорит рано: на, пока книжки почитай, а когда достигнешь первой ступени, тогда, говорит, открою дальнейшее.
– Может, сам не знает?
– Я уже тоже так думаю.
– Нет, возможно, и знает, но понимает, что это не то.
Они помолчали.
– Хотя в этой видимости что-то есть… Мне и самому приходили такие мысли. Будто все только во мне и существует, а умри я – и все умрет. Для меня, по крайней мере…
– В какой видимости? – спросил Саня.
– В Майе. Вы же, джайнисты, считаете мир иллюзией?
– Не знаю, впервые слышу… – сказал дигамбар с недоумением и затем, подумав, добавил: – Это, наверно, Валера начал "дрейфовать" – говорит: "Я дрейфую в сторону брахманизма".
– Иногда и вправду кажется, что все это дурной сон – и не твой, а чей-то чужой. Будто наша жизнь – какая-то изнанка чего-то другого… (Андрей задумался на секунду.) Ну все равно что-то почерпнул для себя?
– Конечно, почерпнул.
– Странно… – сказал Андрей. – Вот ты все, что год назад было, помнишь, а что вчера случилось, забыл.
– Нет, кое-что смутно припоминаю…
Уже поздно вечером, когда утомленный разговором Борисыч заснул, к ним в палату привезли нового пациента с забинтованной головой. Положили его на свободную кровать, согнав с нее жену Зинатулы. В двух местах на повязке алели пятна крови, лицо было бледным, как мел. Операционная сестра сказала, что у него черепно-мозговая травма – пьяный упал с "чертова колеса", – сделали трепанацию, но до утра, скорее всего, не доживет.
– А почему с головой накрыли? – спросил сонным голосом Митрич.
– Утром уберем. Лифт не работает… – прошелестела она скороговоркой и выскользнула за дверь.
Однако утром объявили: что сегодня воскресенье, поэтому лифт чинить некому, морг тоже не работает, санитаров опять нет, но как только появится возможность, труп перенесут в подвал.
– Ну вот, теперь нам жмурика подселили, – резюмировал Митрич.
Саня проснулся позже других, окинул очумелыми со сна глазами мертвое тело под простыней. С минуту глядел с осуждением, а потом спросил:
– Завтрак был?
– Как быстро мы к бардаку этому привыкли, – принялся рассуждать Митрич, очищая банан. – Раньше, чтобы со мной в одной палате жмурика положили – да начмед сразу бы по шапке получил! А сейчас сижу, ем банан – и ничего, как будто так и надо.
– А ты-ты не ешь п-п-при мертвом, – сказал Зинатула, который, оказывается, заикался. Он отправил жену высыпаться домой (всю ночь она провела на стуле возле его постели), сам же пребывал в прекрасном настроении, о чем можно было судить по бодрым модуляциям в голосе.
– Был бы он живой, я бы при живом ел, а то, вишь, мертвый – не могу же я его оживить, – возразил ему Митрич.
После завтрака к ним в палату зашла та самая медсестра Люба, героиня поэмы, в коротком халатике, танкетках и желтых гольфах, облегавших круглые икры. Колупая маникюр, остановилась перед трупом.
– Любань, устроили тут мертвецкую, понимаешь, – пожаловался ей Митрич. – Ты что же клистир не вставишь Николаю Кузьмичу? – Николай Кузьмич был завотделением.
– Отстань, Митрич, без тебя тошно.
– Вот бы наколдовать-наколдовать, чтобы он встал, и сам в подвал пошел, – сказал Митрич.
– Тьфу, на тебя, Митрич, – сказала Люба. – Не хорошо смеяться.
– Почему не хорошо? Сразу видно, человек он был жизнерадостный: любил карусели. Сейчас нас, наверно, слушает и радуется, что не к каким-нибудь кунгутам попал, а к веселым людям.
Люба прошла по проходу между кроватями, чтобы получше разглядеть побуревшие бинты на голове у покойника, повязка в том месте выступала из-под простыни. И тут Зинатула, как только она приблизилась к его кровати, провел ладонью по ее голой ноге. Девушка даже вскрикнула.
Вдруг он резко нажал на тормоз, они чуть не ткнулись лбами в стекло.
– Ты так машину разобьешь, – сказал Андрей.
– Нехорошее название… – сказал Саня.
– Ну, так нельзя, – воскликнул Андрей. – Ты что, такой мнительный. Что ж теперь от каждого куста будем шарахаться?
– Может, назад поедем? – повернулся к нему Саня.
– Обычное название, – сказал Андрей и серьезно добавил: – Бестемьяновка значит «без темья», «без темени», то есть без головы, бес тут ни при чем. Я пошутил, Саша, не сходи с ума.
– Ничего себе шуточки! – закричал Борисыч. – Я два года ни разу колесо не пробивал! Ну, не два – один, а тут на ровной дороге, только сказал… Тьфу-тьфу-тьфу. – постучал кулаком себя в лоб Саня. – А как ты узнал, что там Этот сидит?
– Ничего я не знал, просто совпадение.
– Красные шары – тоже совпадение!
– Он альбинос, болезнь такая: недостаток пигмента в организме – ничего тут сверхъестественного нет, – говорил, как можно убедительнее Андрей.
– А почему он рожу состроил? Нет, все равно, слишком много совпадений!
– Саша, бывает и не такое. Но мы всегда должны в своих выводах руководствоваться разумом, даже если все вокруг начнет проваливаться и противоречить нашим выводам. Это единственное на что мы можем опереться, чтобы не попасться в расставленные Им ловухи.
– Ну вот, опять – ловухи! – воскликнул в каком-то отчаянии Борисыч. – Тебя не поймешь, когда ты серьезно, а когда шутишь. Так было или нет?
– Было, но только не то, что ты думаешь.
– А что! что! – закричал Борисыч и ударил ладонями по рулю. – Что за игрушки, блин! Кто это был!
– Ну не знаю я! – закричал и Андрей, и добавил уже спокойнее: – Правда, не знаю – серьезно.
– Человек или нет?
– Скорее всего, человек.
Саня сидел с минуту молча, уставившись на дорогу, потом сказал:
– Ладно, поехали. – И они тронулись дальше.
Вскоре показались коровники с выбитыми окнами.
В деревне, куда они приехали, было две улицы, в центре ее виднелась свежая, из темного кирпича церковь, с гранеными, зелеными куполами.
– Лучше б дорогу сделали… – бурчал Борисыч. Он выбрал ближнюю улицу и поехал по ней.
Навстречу им попался человек в рясе.
– Тьфу ты – поп! А, все равно уже… – проговорил Борисыч обречено.
Они проехали еще немного и увидели второго, в таком же одеянии, запрягавшего во дворе лошадь.
– Э, да тут как бы не монастырь, – сказал Борисыч. – Здесь мы навряд ли что-нибудь соберем.
Путешественники остановились напротив магазина, на небольшой площади. Через дорогу зияли развалины бывшего клуба: на стене рядом с пустым проемом двери еще сохранилась облезлая вывеска. Не хватало также рам в окнах, простенков, а на крыше – кровли; внутри из-под обвалившейся штукатурки выглядывала деревянная арматура, висели провода и балки. Дальше улица поворачивала направо, а прямо, в тупике, из-за высокого зеленого забора сверкала, как игрушка, яркими красками новенькая церковь. За ней по одну сторону поднимался березовый лес, а по другую виднелись свежеструганные стропила недостроенного дома.
Борисыч распахнул настежь будку, залез внутрь и начал там что-то двигать, переставлять ─ от его страхов не осталось и следа, это снова был воротила малого бизнеса. Потом выставил ящик и на нем придавил камнем кусок неровно оторванного картона с ценами.
К нему подошел сначала один мужик, затем еще несколько. Расспросив, в чем дело, каждый подался в свою сторону.
– Давай залазь – сейчас масть попрет, – крикнул Борисыч Андрею. И действительно, не прошло и четверти часа, как стали стекаться люди с сумками и мешками.
Сразу около задней двери образовалась толпа. Однако Борисыч не спешил открывать прием стеклотары. Он снова что-то начал переставлять и двигать внутри, потом достал калькулятор, посчитал на нем, взял тетрадку, полистал ее (очередь терпеливо ждала), наконец, тяжело вздохнул и сказал:
– Ну, давайте, что там у вас – только не все сразу! – прикрикнул Борисыч на протянутые ему бутылки. – Вот сюда ставим, а я буду смотреть, что возьму, а что нет. Берем только "чебурашку", "четушку", "водочную" и "ноль тридцать три", – объявил он громко для всех. – Вот прейскурант цен перед вами.
– А что так дешево? – выкрикнул кто-то из очереди.
– Дешево! – изумился Борисыч такой наглости. – Иди сдай дороже! Если найдешь, я у тебя по той же цене возьму. – И коммерция закипела.
В толпе Андрей заметил двух человек духовного звания: один бородатый, в черной камилавке и рясе, другой совсем мальчик, в подряснике, с непокрытой головой, белокурый, похожий на девушку. Они о чем-то беседовали между собой, поставив сумки на землю.
– У вас тут что, монастырь? – спросил Андрей у облокотившегося о порог будки мужика. Тот поднял руку и почесал под кепкой.
─ Хотят исделать, а пока четыре брошенных дома отремонтировали и живут в их, – сказал он, приподнимая украдкой из-под полы свою сумочку. – Прими, а? У меня всего-то семь штучек.
– Не могу, видишь, начальник строгий, – сказал Андрей. – А ты в очередь встань.
– Да не хочется из-за такой ерунды стоять, – улыбнулся конфузливо на свое нахальство мужичок. – Может, все-таки примешь?
– Правда, не могу. И что, они прямо в деревне живут?
– Ну живут. Архимандрит только ихний рядом с церквой, а так они все тута.
– Ну, давай приму, – сказал Андрей, сжалившись над мужиком. Пока он отсчитывал ему деньги, в очереди произошло какое-то движение, Андрей видел краем глаза, как высокая фигура подошла со стороны клуба. Только когда раздался громоподобный пьяный рык, он поднял голову:
– Что, иосифляне, послед греха пришли обменять на тридцать серебряников! – Голос принадлежал жилистому, бородатому детине, с опухшим от пьянства лицом; с воспаленными, заплывшими глазками; в какой-то рыжей от кирпичной пыли рясе, обрезанной до бедер; в рваных спортивных штанах с лампасами ─ детина был босиком. В черных, спутанных волосах его было много седых прядей и соломы. Несмотря на неприглядный вид и легкое покачивание, в осанке то и дело сквозила нарочитая величавость, которая тут же сменялась шутовским вихлянием. Обращался он к двум монахам, те при его появлении сразу отошли в сторону.
– Смотри: из-под минералки! – показал, раскрыв сумку, молодой рясофорный монашек. – Отец настоятель лечится.
– Что, святая вода уже не помогает? А все потому что о похотях тела заботится больше, чем о спасении души, – продолжал обличать пьяный пророк. – Иноки, вашу мать! Постники, плотоубийцы! Что прячетесь? Стыдно вам, онанисты?..
– Бессовестный, ну, что ты к ним пристал – иди проспись лучше, – вступилась за монахов какая-то женщина. Однако в толпе послышался и смех:
– Правильно их, так – давай, Илюха!
Тот не обратил внимания ни на выпад против него, ни на поддержку и продолжал ругать чернецов:
– Лучше бы с женами жили, чем по баням подглядывать. Лицемеры! Или бога думаете обмануть? Дурак он, по-вашему, поверит иконкам да постным рожам? «Малакией согрешахом!» – пропел он в нос бархатистым басом на манер церковного пения. – Тьфу! Поганцы! Игруны бородатые!
– Кто это? – спросил Андрей у мужика.
– Тоже ихний, расстриженный. Они его прогнали, а он не уходит, тут в клубе живет и ругает их почем зря! Третьеводни двух монашков у бани застукали, подглядывали за женщинами, – вот он и чихвостит теперь, – разговорился повеселевший мужичок.
– И что ж, они на него управу не найдут? – сказал Андрей, ловя недовольный взгляд Борисыча.
– Так они ж сами его и прикармливают тут! – воскликнул мужичонка.
– Как так?
– А вот так!.. – качнул тот назидательно головой очень довольный, что чем-то смог поразить заезжего. – Он же им всякие предсказания делает. Пойдет напророчит – и все сбудется. Говорят, сам архиерей велит его тут держать, и чтоб обо всем ему докладали. Всё они ждут чего-то… Он же и дефолк предсказал, только они его не послушали и много денег потеряли. А которые послушали да долларов накупили, те инвестицию исделали…
– Ну что ты к ним привязался, – опять вступилась за монахов женщина. – Живут себе люди и живут: не пьют, не воруют, никому не мешают. Ты вон сам тверезым когда был?
– Я пью, жено, потому что мне видение было, до которого я три года капли в рот не брал. – Расстрига расставил широко ноги. Очередь начала огибать его полукругом. Сдавшие бутылки не отходили, а терлись тут же.
– Жил я в то время у нашего архиерея, вроде как в услужении. Понравился ему голос мой, как я в хоре соборном пою, а может и еще что… – Он сделал неприличный жест, сунув руку под рясу, в очереди раздался смех. – Да только недолго я там задержался. Захожу раз в покой к владыке – он мне разрешил без стука входить: то в подштанниках предстанет, а то и вовсе при мне рателешится – я этому значения не придавал. И вот, братие, захожу я к нему в спаленку без задней мысли – без задней!.. – повторил он и приподнял сзади рясу, чем вызвал уже настоящий гогот. – А там, хотите верьте, хотите нет, их высокопреосвященство стоит раком, с тылу здоровенный иеромонах пристроился, вот такая рожа, и, знай, понужает святителя, тот же глазки завел да постанывает – на обоих только кресты нательные. Не сдержался я, братие: плюнул преосвященному прямо в харю. И так нехорошо, знаете, плюнул: набрал соплю в рот да в самый глаз ха́ркнул. Через час где-то является ко мне делегация, секретарь с первосвященниками, и говорят: это, мол, было дьявольское наваждение – сон на яву, – так как тебя Сатана охватывает. А раз ты одержим Нечистым, направляет тебя владыка в этот говенный монастырь отбывать епитимью. – Он показал на церковь и плюнул.
– Не лги! – вдруг крикнул сурово старший из монахов, выглядывая из-за стоявших перед ним людей. – Что клевещешь на праведника!
– Ох, какое ты страшное, брат, слово молвил: не лги! Прямо пророк Исаия. А может, ты сам у того праведника причащался? – осклабился Илья.
– Ты зачем пришел? Все эти пакости рассказывать? Тут вон дети стоят – зачем малых соблазняешь? – выступил вперед инок, указав на стоявших в очереди детей. Последний довод, видимо, подействовал на расстригу: он моргнул растерянно и потом, словно вспомнив что-то, улыбнулся.
– А может, у меня тоже бутылочка есть. Может, я тоже бутылочку сдать хочу, – сказал он, доставая из-за пазухи недопитую чекушку. Тут же осушил ее одним глотком, не поморщившись.
– Пропустите его: пусть сдаст да идет с богом, – сказала та самая женщина, что стыдила расстригу.
Очередь расступилась, и бывший монах приблизился к будке, уперся рукой в порог, протянул бутылку:
– Прими у меня бутылочку, мытарь.
Борисыч оторвался от калькулятора – он переживал коммерческий подъем – и весело, с хищной улыбкой спросил:
– Какой же я мытарь, дядька? Мытари деньги собирают, а я раздаю.
– Все равно ты мытарь. Ты, и давая, отымаешь – не можешь ты раздавать… – сказал расстрига, вглядываясь в глубину будки.
В этот момент Андрей относил полный мешок и вернулся за новым. Он встал как раз под дырой в крыше – и солнечный луч осветил его голубым столбом с головы до ног. Расстрига смотрел на Андрея, сдвинув брови, словно пораженный какой-то мыслью, и вдруг отшатнулся в испуге.
– Вот он! – закричал в исступлении. – Вот кто идет за мной! Ему поклонитесь! – Взоры всех устремились к Андрею. Тот не понял, на кого показывает расстрига, – оглянулся назад.
– Да это – тоже мытарь… – заикнулся, было, рясофорный монашек.
– Вот кто идет огнем крестить! Сожжет солому огнем неугасимым!.. Прямыми сделайте стези его!.. – кричал расстрига, подняв руку с бутылкой. Глаза остекленели, изо рта летели брызги. Он отступил от машины – люди, стоявшие вокруг, шарахнулись от него.
– Ну, белая горячка началась, – сказал кто-то в толпе.
– Пророчествует – тише! – пророчествует… – зашипели другие.
Андрей, смущенный общим вниманием, соскочил вниз: все равно торговля остановилась.
Оратор уже забыл о его существовании и вещал о том, что "царство тысячелетнее" приблизилось, так как власти его здесь, и что скоро увидят они, как падает башня вавилонская, воздвигнутая на костях, и что печи Навуходоносора раскалены уже огнем…
– Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь – убийцы! – кричал, потрясая бутылкой, сумасшедший пророк, его била не то похмельная, не то священная дрожь. – Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки, и гоняются за мздою; не защищают сирот, и дело вдовы не доходит до них…
В это время из монастырских ворот вышли трое в клобуках и направились к толпе на площади. Они подошли и встали в стороне, один из них сделал знак монахам, стоявшим в очереди, уходить. По наперсным крестам можно было предположить, что это сам игумен с иеромонахами. Один из сопровождавших указал на Андрея, и настоятель, румяный добродушный старичок тот, что подавал знаки монахам, сощурившись, вгляделся в него, слушая, что говорит чернявый очень характерный иеромонах, с крючковатым носом и соколиными глазами.
Вдруг расстрига увидал подошедших и закричал страшным басом:
– А-а! Порождения ехидны! Явились, медоточцы… – и тут же перешел в шутовской тон, выгибаясь и показывая на них бутылкой. – Воссели на троне пидоры одесную с лесбианами и друг дружке муде чешут! Кадите в храме Диаволу: на уме только манда да жопа епископская!.. – и сразу распрямился и пропел осипшим басом: – Куртизаны, исчадье порока, за позор мой вы много ли взяли? Вы погрязли в разврате глубоко, но не продам я честь дочери моей!..
Видно было, что иеромонахи уговаривают настоятеля уйти, и уже повели его, как вдруг расстрига крикнул: "Куда блудолизы?!" – и с этими словами запустил в них бутылкой. Та, сверкнула, крутясь в воздухе, – раздался звонкий удар. Клобук слетел у чернявого на землю. В толпе кто-то заржал.
Иеромонах схватился за висок и бросился к расстриге с шипением:
– Урою, гад!.. – Но тут же наткнулся на сиреневый кулак: казалось, расстрига не ударил, а лишь выставил вперед руку. Чернец свалился, как подкошенный, задрав вверх ноги в высоких ботинках и женских колготках. Долгополая, черная фигура растянулась на земле без движения. В толпе кто-то ахнул, а кто-то наоборот хмыкнул, и пролетело: "А поп-то в бабских колготах". Игумен хотел вернуться, чтобы помочь ему, но второй монах тянул его в сторону церковной ограды. Расстрига же, окрыленный успехом, ничего не видя, ринулся за ними.
– Стой, Каиафа! Дай обращу на тебя руку мою! – взревел он так, что все, кто был рядом, кинулись в разные стороны, и дальше запел: – Зверем лютым явлюсь вам повсюду… Дочь свою я теперь защищаю, за нее я готов жизнь отдать!..
У него, видимо, перемешались в голове «Писание» и арии из опер. Настоятель и монах с перепугу остановились. Неожиданно путь нападавшему преградил Андрей. Расстрига размахнулся, чтобы ударить, но тот перехватил руку и, выкрутив, заломил ее вверх, отчего буян согнулся пополам. Покраснев еще больше, расстрига процедил от натуги:
– Пусти… – И попытался вырваться, но Андрей держал крепко.
– Ох, силен, – проговорил он, тяжело дыша. В это время монахи, пришедшие сдавать бутылки, помогли высокому иноку подняться и увели его вместе с настоятелем за церковный забор. Андрей не выпускал расстригу до тех пор, пока тот не перестал вырываться.
– Кто ты? – спросил расстрига, глядя снизу вверх.
– Человек, – ответил Андрей.
– Ой ли?.. Пусти меня.
– Ты успокоился? Вот что, давай иди по-хорошему. – Майор отпустил руку и направился к будке, где Борисыч возобновил прием бутылок. Запрыгнул внутрь и принялся помогать ему. Расстрига продолжал стоять в стороне, сумрачно глядя на них, потом повернулся и побрел прочь от машины.
Саня посматривал на Андрея с интересом, в его глазах читался вопрос. Андрей и сам выглядел озадаченным. Когда последние бутылки были сложены в мешок, к ним подошел монах из очереди, тот самый, что спорил с расстригой.
– Отец Евгений просит вас отобедать с ним, – сказал он с коротким поклоном и стал в ожидании ответа.
– Это кто? игумен? – спросил Андрей и получил утвердительный кивок. – Поблагодарите его, но нам пора…
– Ничего-ничего, – сказал Борисыч, – пообедать можно.
И, когда монах отошел, проговорил вполголоса:
– Когда еще монастырской еды попробуешь? – И весело добавил: – А видал, в чем монах был, которого ненормальный срубил? Как бы нас того… в ловуху там не заманили!
Когда они подъехали к церкви, монах уже успел дойти до ворот и, дожидаясь, открыл калитку.
За зеленым забором, их взорам предстала стройплощадка. Кроме тех стропил, что они заметили с улицы, в глубине ограды под крышу был выведен еще один кирпичный дом и два начаты. Там виднелись кучи строительного мусора, поддоны с кирпичом, работающий кран и бетономешалка. Крановщик был в рабочей куртке и скуфейке. Ближе к воротам уже навели порядок: заасфальтировали дорожки, посадили анютины глазки и поставили голубец с образом.
Вслед за монахом они прошли мимо церковного портала в готовый уже дом. Тот стоял в самом лесу, поэтому его не было видно с улицы. Шум стройки почти не доходил сюда. Стая галок сорвалась с колокольни в лес, березняк шелестел от налетавшего ветерка.
Внутри все было просто: дощатый пол, крашеный шкаф, в нем просфоры, баночки с маслом, дальше холодильник и березовые веники, висевшие в кладовке. Сладко пахло баней, ладаном и кожей. Провожатый открыл перед ними дверь, в комнате журчащий голос мягко кому-то выговаривал:
– Просил же я, не надевай ты, Христа ради, эти штуки: не ровен час запнешься, и все узрят! Вот и узрели…
Из просторных сеней с образом над дверью они попали сразу в трапезную. За накрытым столом сидели все трое иеромонахов, без клобуков. Высокий инок был с перевязанной головой и распухшей губой. Прислуживал им молодой послушник из очереди. Борисыч перекрестился на уставленный свечками и яйцами иконостас в углу. Второй иеромонах придвинул для вошедших два стула.
– Присаживайтесь, пожалуйста, откушайте, чем бог послал, – пригласил жестом сидевший на кожаном диванчике настоятель. Это его певучий, исполненный самолюбования голос они слышали из сеней. В зимней скуфейке с наушниками и подряснике он имел вид добродушный, даже простецкий. И тут же заразительно засмеялся: – Вы, конечно, уже и продолжили: "А бог в тот день послал…" и так далее? Да ничего такого, к сожалению, нет. Супчик, постный, летний; грибки, собственноручно собранные… (Тут господь дождичком благословил, так они на радостях повыскакивали. Ходили мы с отцом Климентием после утрени по лесу и дивились благодати божьей, а сейчас он сидит и не верит, что жив остался…) Кашка гречневая, морсик из костяники. Нынче успенки, уж не обессудьте, – и серьезно продолжил, кивнув на заверения Андрея по поводу постного: – Видели хулителя нашего? Очень вам благодарен, что не попустили бесчинства над стариком. Эх, лучше бы не посылал вас, родимые, на поругание. (Старик погладил по рукаву молоденького прислужника, что забирал у него тарелку.) Экой беды накликал, ай-яй-яй! Отец Клим, на что уж добрейшая душа, и то не сдержался – он, впрочем, один и пострадал. Как ему теперь литургию служить? Сегодня тот все границы перешел, такого еще не было. Терпели ради смирения нашего, но теперь сам вижу, что надо его удалить…
– Говорят, он предсказания какие-то делает, – сказал Борисыч и взял у молодого послушника тарелку с супом.
– Ну что вы! – всплеснул пухлыми ручками отец Евгений. – Не спорю, откровения бывают, но они даются через святую жизнь, через пост и пот молитвенный в выдающихся случаях. А тут?.. Ну, сами посудите: что может предсказать алкоголик?
– Что он за человек, откуда? – спросил Андрей.
– Человек он расхристанный. История его, как писал еще один наш хулитель граф Толстой, была самая простая и самая ужасная, – усмехнулся настоятель усаживаясь поудобнее для рассказа. – Был он прежде иноком в нашей обители. А еще раньше пел в оперном театре, и как часто бывает с людьми этой профессии, пил зело. Да и певцом был так себе, посредственным, хотя голос имел сильный, и даже теперь не утратил, несмотря на злоупотребления. Терпели его в театре, пока терпелось, а потом и выгнали. Взяли его за голос в митрополичий хор. И знаете, уверовал человек, пить перестал, принял постриг – произошло милостью божией (он мелко перекрестился, и в дальнейшем при каждом упоминании имени бога повторял знамение) воцерковление: вот что живая вера творит. Все это тогда как благодать, на него снизошедшую, восприняли. Дошло до нашего митрополита и тот им заинтересовался – приблизил, рукоположил в иеродиаконы, стал духовным отцом ему. Ну и надо сказать, был он тогда не так одутловат, как теперь, вид имел импозантный, манеры благородные, хотя, на мой взгляд, немного театральные. Характер же у него всегда был неуживчивый. Мог брат Илья ни с того ни с сего нахамить, наговорить дерзостей даже лицам высшего сана, – по-видимому, близость к солнцу вредит таким людям. Вышла какая-то некрасивая история с оскорблением им своего духовника. То, что он рассказывает, чистейшая клевета, так как архипастырь наш Паисий известен своей святой жизнью. Насколько я знаю, все от зависти к новому певчему произошло, которого приблизил высокопреосвященный: нахамил Илюша ему, после чего оказался в нашей обители. А тогда тут даже церкви не было – срубили часовенку, а братьев было человек десять да мы с отцом Александром. (Настоятель указал на второго иеромонаха.) Но не сменил брат Илья гнев на милость, не смирил в себе гордость – ударился он в схиму и чтение, а если быть точным, в начетничество. Такие обеты на себя наложил: и молчания, и поста, и вериги носил. А все норовил в город ускакать: наберет там книжек и запрется в келье. Я же или по недосмотру, а больше по неведению, вместо того, чтобы пресечь эти поездки, попустительствовал им. Однако для иных голов чтение хуже отравы: они и в Писании выищут такое, что хоть святых выноси. Он же читал книги, вовсе схимнику не приличествующие, светские: например, историю церкви, написанную людьми далекими от нее. И вот втемяшилось ему в голову, что наша церковь неистинная, что де иосифляне вытеснили веру христианскую на Руси, то бишь нестяжателей. И пошло-поехало. Стал он обличительствовать, возомнил себя чуть ли не пророком, ушел от братии в клуб жить, где и по сей день обретается. Нашу церковь православную иначе как иосифлянской блудницей, прости господи, уже и не называет. Съездил он в Оптину Пустынь, не знаю, что уж там было, но после этого схима кончилась: запил он снова, говорил, что там тоже одни иосифляне и педерасты… – Настоятель перекрестился и прошептал что-то про себя. – И стал напраслину возводить на братию, не имея истинных поводов. Словом, каменеет в грехе и все глубже погружается в геенну. Вот чем заканчивается простое неповиновение старшему. Ну что я вам объясняю: вы как человек военный и так все прекрасно понимаете. Все наши беды от сумятицы в головах, каждый мнит себя умнее вышестоящего. Вон, в лицемерной Европе: там всяк сверчок знай свой шесток. Это они только говорили, что у нас тоталитаризм, чтобы Левиафана низринуть. Настоящий тоталитаризм как раз там и был, только он в головах. У нас же в мозгах разброд, поэтому и требовались внешние узы…
– Откуда вы знаете, что я военный? – Андрей внимательно смотрел на отца Евгения.
– Так… по выправке видно, – отвечал тот, не сморгнув. – Выправка, она всегда скажется… А мы тут сидим и думаем, что же нам теперь с хулителем нашим делать. Отец Клим уж совсем, было, собрался на него в милицию писать. И я поддерживаю ради спасения всего стада…
– И овцу надо искать! – возразил отец Александр. – А он же не овца, не овца!..
– А вот отец Александр заступничает, добрая душа, – продолжал игумен. – Я и сам понимаю, что по-христиански должны простить. Однако боюсь, как бы до смертоубийства не дошло – силища в нем немереная.
– Вы знаете, что его в тюрьму могут посадить после вашего заявления? – спросил Андрей, обращаясь к отцу Климу.
– Могут или не могут – вам что за дело! – огрызнулся иеромонах.
Он мрачно вращал солонку в виде Лотовой жены, превратившейся до пояса в столп. У настоятеля испуганно расширились глаза. Повисла пауза.
– Вы тут, я вижу, строительство ведете… – проговорил Борисыч, чтобы замять неловкость.
– Да!.. – подхватил настоятель. – Губернатор о спасении души печется: кельи для братии, рухольная, трапезная, – все на его пожертвования… Если есть желание, можете пройтись посмотреть ─ отец Климентий у нас за прораба, это его любимое детище… Только, боюсь, ему сегодня не до прогулок…
– Да нет… – испугался Борисыч, что поведут осматривать стройку. – Я к тому, что подъезда хорошего нет…
– А вы, наверное, с Кутерьминского тракта заехали? – ответил настоятель. – Так к нам другую дорогу ведут, с Краснополянского. Хотя до него от нас дальше, но до города ближе получается.
Борисыч стал расспрашивать про новую дорогу, и настоятель подробно объяснил, как проехать.
– Все-таки как насчет: «прощайте врагов своих»? – спросил снова Андрей отца Климентия.
– Может, узилище ему на пользу пойдет: по меньшей мере, пить там перестанет, – сказал добродушно отец Евгений.
– Вы сами были в тюрьме?.. – спросил Андрей сухо, но тут Борисыч перебил его:
– Эта солонка не из Германии случайно? Я видел такие же, немецкие: старички, старушки – солонки, перечницы.
– Нет, это наши умельцы делают.
– Надо же, – удивился Борисыч, – какое мастерство!
– У меня к вам просьба, отец Климентий, не подавать на того безумного заявление. В тюрьме он погибнет окончательно.
– А если здесь погибнет кто-нибудь невинный! – вдруг поднял свое пылающее гневом лицо отец Клим. – От него житья нет! Братья на рыбалку собрались, пошли на огороды червей накопать – он выдумал, что они там за женщинами в бане подглядывали. И вся деревня теперь гогочет, а они из дому выйти не могут!..
– И все-таки я вас очень прошу не подавать на него заявления: к чему умножать зло, – проговорил Андрей. – Мы ведь не можем знать, что с ним и с нами будет. Может быть, он увидит, что вы его прощаете, и сам образумится…
– Вот и я о том же: неисповедимы пути господни – и завтра мы снова обретем брата, – возбужденно заговорил отец Александр, на девичьих щеках его выступил пятнистый румянец; глаза, навыкате, заблестели, он сглотнул по-лягушачьи и моргнул: – Ах, какая благостыня снизошла, – брат Клим, прости!
– Отец Александр у нас навроде Алеши Карамазова: последнего злодея готов простить, – засмеялся игумен. – Ну что, давайте попытаем. А? Отец Климентий? Давайте еще раз попросим у господа нашего терпения и поддержки, – может, и вправду образумится, а? Как считаешь, Клим?
– Я считаю: горбатого могила исправит, – проговорил тот, глядя в стол. – Поступайте как знаете…
– Вот и хорошо – что все хорошо! – воскликнул отец Александр. – А я все-таки завтра же навещу его в урочище. Это я уже решил, и не отговаривайте уже! И снесу ему просвирку…
– Лучше вина ему снеси, – сказал отец Клим.
– И не вздумай, отец Александр, – забеспокоился настоятель. – Я тебя туда не отпускаю. Вы что! На мне такая ответственность – тогда лучше пусть его милиция забирает. Пиши заявление, отец Климентий!..
– Ну нет, – сложил молитвенно отец Александр костистые пальцы, глотая и моргая. – Такая благостыня, такая – не порочьте!.. Так сейчас хорошо было, будто ангел пролетел. Не пойду я туда – я и сам уже передумал: зачем я туда пойду?..
– Ну, вот и ладушки, – проговорил, потирая ручки, настоятель. – Так тому и быть: прощаем.
– Так вы обещаете, что-о… этот случай останется без последствий? – спросил Андрей в совершенном недоумении.
– Достаточно одного простого уверения, – произнес со значением отец Евгений. – Но только этот случай, если же безобразие повториться… – он развел руками.
– А может, еще подам… – сказал вдруг сурово отец Клим. – Это мое личное дело.
– Это он шутит, – проговорил игумен, покачав головой отцу Климентию.
– Ты же шутишь, Климушка? – испуганно замер отец Александр.
– Шучу…
– Спаситель наш совсем не ест, – воскликнул отец Александр радостно. Клим поднял голову и пронзительно посмотрел на него.
– Так ты… отец Александр, подложи грибков человеку, вот и будет есть – поухаживай за ним. Или вы постное не едите? Как ваше имя-отчество, запамятовал?..
Андрей назвался и добавил, что только постное и ест.
– Нет, крайности тоже не приветствуются, – продолжал разговорчивый игумен. – Мяско в мясоед, а постному свой черед. Без животного белка организм тоже не может полноценно существовать. Недаром же и господь (он осенил себя крестом) дал нам животных в пищу…
– Не мог господь дать – кто-то другой дал, – возразил Андрей, и у отца Евгения опять расширились глаза.
– Кто дал? – вдруг резко спросил отец Клим, повернув снизу вверх голову.
– Дьявол.
– Господи-господи-господи! – перекрестился троекратно отец Александр.
– Точно! Я так и знал… – откинулся на спинку стула отец Клим.
– Ты что говоришь, брат! – вскочил Алеша Карамазов.
– Знал – что он скажет, – поправился Клим. – А кто тогда мир создал?
– Он же и создал, – ответил Андрей.
– Стоп-стоп-стоп, – прервал их отец Евгений, который уже ерзал на диванчике. – Это – ересь, и ересь древняя, она давно известна и осуждена – ничего тут нового нет.
– Почему-то всегда, чтобы опровергнуть истину, утверждают, будто она не нова, – усмехнулся Андрей. – Вот вы верите в благого бога – как же тогда объясняете такое количество зла в мире?
– Вы о теодицее спрашиваете?
– Не знаю, как это называется.
– Двояко объясняем, – посерьезнел отец Евгений. – С одной стороны, зло проистекает от внутреннего несовершенства природы нашей, с другой, нас соблазняет Сатана, насылая искушения, помрачения и наваждения. А так же ложные учения.
– Вроде моего? – усмехнулся истончившимися, бледными губами Андрей. – Как-то неубедительно: Создатель совершенен – а создание несовершенно!
– Все дело в свободе выбора… – начал было архимандрит, но тут в разговор ворвался отец Александр:
– А вы сердцем прислушайте – сердцем, зачем – умом!..
– Зачем тогда – ум? – возразил Андрей.
– Чтоб видней сердцу было, – разъяснил настоятель. – Ум ─ это очки сердца.
– Если нечистый создал, – отец Александр перекрестился, – откуда же тогда благостыня?
– Я думаю, что добро в мире существует не благодаря, а вопреки создателю, – сказал Андрей.
– Как же вас Сатана-то охватывает! – покачал сокрушенно головой отец Евгений. – Боюсь, вы глубоко заблуждаетесь на счет многих оснований…
– Меня – охватывает? – рассмеялся Андрей. – А вы и в церкви в колготках служите?..
Отец Клим зажал солонку в кулак. Он так и пожирал глазами гостя. Игумен сделал ему едва заметный знак, и тот отвел взгляд.
– Возможно, вас что-то в облачении отца Климентия смутило? – произнес он сурово. – Так это от варикоза вен по предписанию врача он носит.
– Извините, – искренне пожалел о своей вспышке Андрей.
– Ничего, мы любому уничижению рады, – продолжал холодно игумен. – А вы горды весьма, – И обратился к Борисычу. – Вы, значит, такого же учения придерживаетесь?
– Нет – джайнизма, – ответил тот скороговоркой, стараясь поскорее доесть пирог с крыжовником, потому что чувствовал, что застолье близится к завершению.
– Это я даже не знаю, что за зверь такой? – сказал ледяным тоном отец Евгений.
– Это не зверь, а учение – древнее вашего, – ответил Саня, обидевшись за джайнов.
– Ну что древнее, не значит истиннее, – сказал как бы вскользь настоятель, приподнимаясь. – Ну, будем прощаться. Да не получилось у нас разговора, а жаль.
– Но вы же гордитесь тем, что ваша вера древнее католической, – сказал Андрей, вставая. Все были уже на ногах.
– Не тем, что древнее, ─ а ближе к Спасителю и от него воспринята, а не от какого-то Джины.
– Я надеюсь, наш спор не будет иметь последствий для расстриги? – спросил Андрей.
– Для кого? – не понял отец Евгений.
– Для хулителя.
– Нет, конечно.
Борисыч хотел еще что-то возразить, но не нашел, что сказать. Они сухо простились, игумен приказал послушнику проводить гостей.
Когда они вышли за ворота, то увидели стоявшего рядом с машиной расстригу.
– Ну, час от часу не легче! – воскликнул Борисыч.
– Этот не опасный, – сказал Андрей. – А ты с чего креститься начал, когда вошел?
– Да как-то само собой получилось, как увидел столько икон в углу, и попов этих…
При виде выходивших из калитки двух друзей расстрига пошел им навстречу. Они остановились.
– Скажи только: кто ты? – спросил бывший монах.
– Я бы и сам хотел знать: кто я. А ты разве знаешь: кто ты? – ответил вопросом на вопрос Андрей.
– Нет.
– Вот и я не знаю. Затем и еду, чтоб узнать. И ты уходи отсюда: съедят тебя попы, несмотря на пост.
– Нет. Я пока вертеп этот содомитский не разрушу, никуда не уйду.
– Ну, смотри. Только больше рукам воли не давай – посадят.
– Хорошо, – улыбнулся смущенно расстрига.
– Как тебя зовут-то? – спросил Андрей, залезая в машину.
– Илья.
– А правда, братка, тут дорога есть вокруг монастыря – на профиль выходит? – спросил Борисыч уже из кабины.
– Вон, между двух берез, одна переломлена, – ее отсюда видать. Лесом поезжайте, – и расстрига подробно рассказал, как они должны ехать, чтобы не сбиться с пути.
– Не хочу я по той дороге возвращаться, – объяснил Саня Андрею, когда они уже въезжали в лес. – Плохая примета. – Он подмигнул, как бы смеясь над собственным суеверием. Андрей только качнул головой, не то соглашаясь, не то, чтобы отделаться и не отвечать.
– Я что-то вообще уже ничего не понимаю, – начал Борисыч, пока они ехали лесом.
– Я думаю, что, когда ты ничего не понимаешь, то ближе к истине, чем когда ты понимаешь все. На дорогу смотри, – указал Андрей на дерево прямо по курсу – Борисыч вырулил и сказал:
– Вижу. – Потом помолчал и спросил: – А что тот, повернутый, нес про солому? – и что ты идешь огнем крестить?
Андрей посмотрел на него и рассмеялся:
– Ты же сам сказал, что он повернутый: мало ли что сумасшедшему взбредет.
– Однако попы к нему прислушиваются, хоть и говорят, что он того… Ладно, – продолжал допрос Борисыч. – Так что получается, они в своей церкви… кому поклоняются?
– Большинство все-таки – человеку, именем которого она и названа. Ну а те, которые в колготках, – богу.
– Вот! Он прав оказался: педики там одни! – застучал кулаком по рулю Борисыч.
– Может, у него на самом деле ноги больные. Хотя, действительно, не всегда истина произносится людьми, приличными, чисто одетыми и образованными, – чаще как раз наоборот. А настоятель не так прост, как кажется. Я думаю, сегодня же о нас будет доложено в синедрион.
Так они ехали, беседуя, по пятнистой от вечернего солнца дороге довольно долго, причем Андрей отвечал на все вопросы уклончиво, не выходя из задумчивости, так что Борисыч в конце концов воскликнул:
– Ты как Махатман: ничего от тебя не добьешься, тоже все загадками говоришь.
– Он говорил загадками, чтобы казаться значительнее, а я говорю так, потому что сам не все понимаю. Где же обещанный профиль?
– Попы, наверно, специально отправили нас по этой дороге, – сказал Борисыч с каким-то мрачным весельем.
– Мы ту развилку, про которую Илья говорил, скорее всего, проехали. Надо возвращаться, – сказал Андрей.
– Да ладно, дорожка хорошая – куда-нибудь выведет.
– Смотри: ты командир, – согласился Андрей.
– Какая засуха в этом году: все горит. С утра дождик обещал – и снова жарит, – посетовал Борисыч.
– Ты прямо, как хлебороб, переживаешь.
Вокруг них летел веселый березово-солнечный калейдоскоп: рябые стволы, зелень, бурелом, ослепительные вспышки. Было радостно смотреть, как приближаются опоясанные слепящим огнем березы: становилось легко и покойно. Как будто это не березы летели им навстречу, а то простое, ясное детское представление, в котором все было навсегда, неизменно и понятно. И вдруг все проносилось мимо…
Большой лес кончился, они миновали несколько перелесков, разделенных лугами, и выехали к песчаному карьеру, откуда монахи, очевидно, брали песок для строительства. Дальше дороги не было.
– Тьфу! – плюнул Саня в сердцах. – Придется возвращаться.
– Бес водит, – сказал Андрей.
– Сейчас наговоришь! – предупредил Борисыч.
Поехали назад той же дорогой, и, когда начался большой лес, повернули на развилке в сторону предполагаемого профиля. Однако опять выехали в поля, заросшие сорняками, – лесная дорога превратилась в полевую, а на профиль не было и намека. Над деревьями повис малиновый диск.
На подъезде к лесу они попали в синюю уже, сумеречную, длинную тень.
– Ну, давай проедем этот лесок, – если нет ничего, будем ночевать в поле, а то еще хуже заблудимся, – предложил Борисыч.
Лес оказался небольшим, но за ним опять были заглохшие поля. Выехав на открытое место, они не увидели солнца: из-за дальней рощи золотилась его корона. Съехали с дороги на луг, с уже высохшими, голубыми стогами. Борисыч заглушил двигатель, выпрыгнул из кабины на стерню и потянулся: «Эх, красота!» Из-под ног полетели в разные стороны крестики кузнечиков.
– Сейчас по югу области саранча идет – страшное дело! Машины на трассе глохнут: она радиатор забивает, и мотор греется, – сказал Саня.
– Ну, это не саранча, – посмотрел Андрей себе под ноги, – саранча крупнее.
– Вроде недалеко от города, а такая глушь, – сказал Борисыч. Он предложил спать в будке на мешках, но Андрей сказал, что останется в кабине:
– У тебя там дыра в крыше, комары налетят – дыру-то можно было заделать.
– Ладно, ночь в кабине перекантуемся. – Борисыч достал из будки бутылку водки, помятый чайник, треногу и паяльную лампу. На ней они быстро вскипятили воду и сели с парящими кружками в колкий стог так, чтобы было видно закат и чтобы любоваться матово-мглистой зеленью леса. Небо снова покрылось облаками, они были нежно-розовыми, золотистыми, багровыми. Путешественники вдыхали запах сена, теплый ветерок обдувал их разгоряченные лица.
– Хорошо, – попивал чаек разомлевший Борисыч и затягивался тут же сигаретой. – Если все это создал… Нечистый – откуда тогда красота в природе? – спросил он у Андрея.
– Почему декорация кровавой драмы не может быть красивой? Как раз это соответствует его замыслу расставить кругом капканы…
– Ловухи, – поправил Борисыч.
– Да, – усмехнулся Андрей. – А какая ловуха без приманки?
– Нет, но почему тогда на природе хорошие мысли в голову лезут? И не тянет никуда? А в городе вроде и есть, чем заняться, – а настроение поганое, пока не вмажешь.
– Да нет, и на природе бывает тоска зеленая. И сама эта красота тогда кажется какой-то враждебной и холодной. Только это не кажется – так оно и есть в действительности, а кажется как раз противоположное.
Борисыч лишь пожал плечами.
Он не мог заснуть в эту ночь: у него не шли из головы события прошедшего дня. Рядом, привалившись к двери, всхрапывал Андрей. А, в общем, он прав, думал Саня, каких только совпадений не бывает в жизни. Может быть, все необычное и есть результат совпадений. Нет никаких чудес, а лишь одни совпадения, принятые легковерными людьми за чудо. Но он-то, Саня, не таков – нет: его на мякине не проведешь…
В целом, он был доволен первым днем поездки: то, что случилось неприятного было далеко от действительности, а вот "пушнина" в мешках самая, что ни на есть реальная. Хорошо, конечно, поговорить о чем-нибудь возвышенном, особенно за бутылочкой, но заметной роли все эти явления в жизни не играют. Это он знал на примере гуру и его окружения. Ох, каких только умников он не перевидал там за год! И каждый говорил о духовности, о сверхчувственном, об "иррациональном зерне", но урвать в материальном мире все не дураки. А иной и ближнего бортануть из-за денег не брезговал. Уж он-то их всех видел насквозь!.. Саня вылил в складной стаканчик остатки водки, выпил и в приподнятом настроении – несмотря на то, что слегка взгрустнулось по поводу опустевшей бутылки – вылез из кабины. Стараясь не хлопать дверью, прикрыл ее от комаров, закурил. Ночь была темная, хоть глаз коли, и теплая, с ласковым ветерком, овевавшим горящее лицо. Он пошел в сторону дороги, продолжая размышлять о превратностях сансары, хотя мысли эти были скорее приятными, чем горькими. И попы такие же мелочные, как эзотерики, думал Борисыч. Какой он проницательный, как он всю эту подноготную превзошел, всю ничтожность и суетность людскую постиг! Для Борисыча всякое познание было сродни приобретению, он словно начинал владеть предметом знания. Сейчас он мысленно парил над человечеством.
Вот перестала шуршать под ногам отава, он вышел на убитое полотно проселка. За дорогой вставали черной стеной кусты, он взглянул туда – и похолодел: из их черноты прямо на него уставились два горящих красных глаза…
Саня почувствовал, как волосы зашевелились на голове. Он перекрестился и сказал дрожащим басом:
– Отойди от меня, Сатана! Именем господа нашего Иисуса Христа прошу! – составил крестом пальцы, стал отступать спиной к машине. Вдруг споткнулся, чуть не упал, и опрометью бросился прочь от дороги.
Заскочил в кабину, включил фары, стал крутить ключ зажигания: мотор не заводился, даже стартер не вращался. Тут он понял, что это конец: как в фильме ужасов, все сразу начало отказывать.
Андрей спросил сонным голосом, что случилось.
– Машина не заводится! – воскликнул Борисыч.
– В чем дело? – Андрей окончательно проснулся и включил свет в кабине.
– Здесь… Там! – указал на освещенные фарами кусты Саня и прошептал: – Красные глаза… Он следит за нами!
Андрей нахмурился.
– Ты ключ в лампочку индикатора воткнул, – сказал он и выпрыгнул из машины – в эту же секунду она завелась.
– Залазь скорей! – крикнул Саня, в его голосе послышалось нетерпение.
– Да стой ты, не паникуй! – Все же при свете фар было уже не так страшно. Борисыч тоже спрыгнул на землю, но двигатель не заглушил.
– Ну и где они? – спросил Андрей, вглядываясь в кусты. – Ну-ка, выключи свет.
Саня нехотя повиновался, сразу навалился непроницаемый мрак.
– Нет никого. Где ты их увидал?
– Конечно, Он уже свалил, – сказал Борисыч. – Так и бывает обычно: один видит, а другой нет, а потом все начинается…
– Насмотришься всякой чуши, потом шарахаешься от собственной тени. Ну, пойдем сходим. – Однако идти Саня наотрез отказался. Андрей дошел до дороги, походил по ней взад-вперед, но ничего подозрительного не заметил. Все тонуло во тьме: ни проблеска, ни огонька вокруг, кроме освещенной кабины, – Борисыч снова включил свет, как только остался один.
– Может, ты чьи-то фары вдалеке принял за глаза, – сказал Андрей, вернувшись к машине. – Зачем Ему за нами следить, если Он всюду?
– Ты знаешь, как утешить, – сказал с мрачной усмешкой Борисыч, выбросил окурок и тут же снова закурил. – Ты как хочешь, а я еду в город. Прямо сейчас. Ну, их, к херам собачьим, эти бутылки…
– Погоди, не сходи с ума! Мы сейчас отсюда не выберемся, давай до утра подождем, – убеждал его Андрей.
– Тогда переедем на другое место…
– Какой смысл менять место, если Он везде… Да это и не Он был, тебе просто померещилось. – Андрею с трудом удалось уговорить Борисыча не трогаться с места, а дождаться, когда рассветет: утро вечера мудренее.
"Ну, нет, – думал про себя Борисыч, – завтра же возвращаемся в город – и чау-какау: больше я с тобой хрен куда поеду!"
С первыми лучами они вышли на дорогу посмотреть, что могло испугать Борисыча. Утро было ясное, сухое, роса едва замочила их ботинки. Нашли брошенный окурок и то место, с которого он заметил глаза: напротив был просвет в кустах. Саня согласился, что, скорее всего, он видел стоп-огни далекой машины. В той стороне они услышали шум мотора, – возможно, там проходил профиль, который они потеряли. В лесу утром многое выглядит по-другому, чем ночью.
После чая Борисыч повеселел, пересказывал ночное происшествие с юмором. Решили ехать дальше по той же дороге, чтобы не возвращаться и не жечь бензин попусту: куда-нибудь она все равно выведет. О городе он больше не вспоминал.
Через полчаса пути впереди и, правда, показались крыши и склонявшиеся над ними удилища "журавлей" с обрывками веревок. Первое, что их встретило, черные, будто обгорелые, срубы без кровли и окон. В деревне была всего одна улица, и вдоль нее только – срубы да заколоченные дома. И еще кучи мусора на месте развалившихся изб, уже поросшие бурьяном. Они медленно ехали по улице, ища признаков жилья. Ни души – ни даже курицы не встретилось им.
– Заехали, – сказал Борисыч невесело.
Наконец увидели дом с открытыми ставнями и занавесками на окнах.
– Останови. Пойду узнаю, что тут у них, – как Мамай прошел.
Андрей выпрыгнул из кабины, за ним Саня. Они пролезли через дыру в заборе рядом с калиткой. Борисыч замер в нерешительности перед развалившимся крыльцом, но сказал:
– Может, как раз у такого хозяина много бутылок. – И первым шагнул на уцелевшую ступеньку.
В сенях была брошена пересохшая тряпка, висел ржавый ковшик, валялось ведро, – все сухое, затянутое песком. Борисыч постучал и потянул на себя тяжелую, обитую старой одеждой дверь. В нос ударила тошнотворная вонь. Он поморщился и захлопнул дверь, посмотрел на Андрея.
– Там бабка, блин, мертвая, – проговорил он.
Андрей заглянул в избу: на кровати под окном лежала раздутая, зеленая старуха. Платье на ней разошлось по швам, кожа тоже начала лопаться. Лицо ее оплыло книзу и собралось в гармошку под подбородком. Вместо глаз были две узкие щелки, губы сложены "бантиком", как для поцелуя. Напоминала она забавную японскую статуэтку, облепленную блестящими черными мухами. Только открылась дверь, мухи со злым шуршанием закружили над трупом. Одна подлетела к Андрею, он с внезапным ознобом отмахнулся и закрыл дверь.
– Пошли на воздух, а то меня сейчас вырвет, – сказал Борисыч.
Во дворе его действительно вырвало, он смущенно пробормотал, что еще мутит после вчерашнего, и добавил:
– Надо кому-то сообщить, должны же где-то быть люди.
Тем же путем они вышли за ворота. На другой стороне заметили еще один незаколоченный дом.
Входная дверь была закрыта изнутри. Саня постучался, пошел заглянуть в окно и уже без удивления сказал:
– Еще одна бабка мертвая, но на этой уже кожи нет: один скелет сидит за столом. Видно, как чай пила, так и померла.
Андрей встал на завалинку и увидел откинувшуюся на спинку стула мумию в платочке, голова упала набок, перед ней на столе лежало несколько обугленных картофелин. Утренний луч как раз выхватывал эту страшную картину из полумрака комнаты.
– Они, что такое чай, наверно, давно уже забыли, – сказал Андрей, спрыгивая вниз.
– Может, их кто-нибудь того… порешил? – предположил Борисыч.
– Нет, навряд ли, тогда бы дверь была открыта.
– Могли через чердак проникнуть.
Андрей не ответил, произнес только:
– Ладно, пошли дальше. – И с запозданием сказал: – Ну зачем лезть к старухе через чердак? Что у них брать?..
Они побывали еще в трех домах и всюду натыкались на мертвых старух. В двух избах были уже скелеты, а в одной раздувшийся труп. Причем во всех, как и в первой, они лежали в своих кроватях, у двух была зажата в руках икона.
– От чего они поумирали, интересно? – спросил Саня, когда друзья снова вышли на улицу.
– От чего, от чего… – проговорил задумчиво Андрей. – Не знаю – от чего! От смерти. Первое, что всех интересует: от чего умер человек? Как будто это что-то решает. Как будто существует другая причина, кроме самой смерти. Умерли – потому что смерть пришла!
– Нет, ну-у… может, у них тут эпидемия, – забеспокоился Борисыч. – Поехали – доедем до следующей деревни…
– Погоди ты! Давай дойдем до конца, – перебил его нетерпеливо Андрей.
Лишь на краю деревни, в предпоследнем осевшем до наличников домике, вместо вони разлагающегося трупа их встретил запах жилья, однако он был еще ужаснее. Они толкнули дверь и прошли, нагнувшись, в темную горницу. Пахло какой-то кислятиной, больным телом (как в хирургии, вспомнил Андрей) и еще чем-то протухшим, но не трупом. Из квадратного отверстия в крышке подпола, вокруг которого темнело сырое пятно, несло, как из уборной. Печь и беленые стены были неровные, желтые, с черными углами. На обычном месте засиженный мухами волоокий образ.
Они уже с минуту стояли, привыкая к темноте, посреди комнаты и только теперь заметили, что на них из-под наваленного сверху тряпья глядит белое, рыхлое лицо, казавшееся сонным из-за оттянутых книзу красных, как у бульдога, нижних век.
– Мы, бабуля, узнать хотели… Здрасте, во-первых, – сказал Борисыч.
Старуха откинула лоскутное одеяло, которое они приняли за кучу тряпья, и попыталась сесть. Сначала она спустила опухшие ноги, опираясь на дряблую, словно под белесой кожей забился студень, руку, и приподнялась на локте. Это стоило ей больших усилий, о чем свидетельствовала звучная, с утробным свистом одышка. Остановилась не в силах оторвать локоть от кровати – студень задрожал, – и вдруг из груди вместе с сиплым выдохом вырвался слабый плач. Борисыч бросился на помощь и посадил ее за плечи. На ней была только пожелтевшая, неопрятная, вся в прорехах ночная рубашка.
– Ох, простите меня, деточки, – произнесла старуха, задыхаясь. – От водянки все тело пухнет…
Показала на свои оплывшие книзу ноги: щиколотки были толще икр и нависали над ступней, как спущенный чулок. Лохматая, белая, рыхлая, с обвислыми щеками и кровавыми веками, страшная, огромная, она смотрела на них выжидательно.
– Вы не хлеб привезли, случа́ем? – спросила, так и не дождавшись объяснений. – А то к нам хлеб перестали возить, и пензию не везут, – совсем про нас, стариков, забыли. – Она снова залилась слезами. – Ох, простите меня, деточки: я три дня не евши. Всё поели, отрубями одними питаемся… – Вытерев слезы, она справилась с собой и продолжала с оглушительным свистом: – Я ведь и ходить не могу, совсем обезножила: на четвереньках ползаю. Мне соседка помогала… А тут ее нет уже третий день – не знаю, что и думать. Она и сама плохая, еле ходит, – померла, видать. Мне сказывала: в трех домах подружки мои мертвые лежат: некому похоронить. Так вот, деточки, где жили, там и косточки сложили: будут нам наши домики могилками… Ох… – вздохнула она, собираясь заплакать, но только сдавленно помычала и сдержалась. – Живого места на мне нет… Я ведь грешным делом подумала: убивать вы меня пришли… Ох, простите меня, деточки: сама не знаю, что говорю, – совсем из ума выжила… А взяли бы да убили… Старуху не жалко! Были бы деньги, все отдала – только бы убили меня, а? – При этих словах в страшных глазах ее появилась надежда. – Убили бы меня, деточки! Вон топор в сенях стоит – никто и не узнает: в деревне, почитай, никого не осталось, только я да Петровна. (И та не заходит, померла, я чай.) Она, если и узнает, никому не скажет…
– Погоди, мать, ты чего городишь! – обрел дар речи Борисыч. – Сейчас все будет: хлеб, колбаса… чаю заварим с сахаром. Мы же тебе хлеба привезли, продуктов – все бесплатно. Подарок от губернатора…
– Ой, спасибо вам, деточки, ничего не нужно – лучше бы вы меня убили, а то сил больше нету… – голос ее опять задрожал.
– Мы что, мать, на убийц похожи? – сказал Саня. – Потерпи полчаса, сейчас все будет… – И он направился к двери.
Старуха заплакала, вытирая слезы основанием ладони, выходившей из обшлага плоти.
– Ой, простите меня, деточки, совсем я плохая – не знаю, что говорю…
– Пойду воды принесу, – сказал Андрей, собираясь вслед за Борисычем.
– Вода у нас плохая, от нее и пухнем, – сквозь слезы проговорила старуха, всхлипывая сипло и шумно.
– У нас своя вода, – сказал Андрей и вышел.
Борисыч рылся уже в сумке и выкидывал оттуда кульки и банки, вытащил паяльную лампу и треногу.
– Может, суп ей сварить? – спросил он и достал банку тушенки. – Ну не суп – шулюм: картошка у нас есть.
– Не знаю: хорошо это после долгого голодания? – сказал Андрей.
– Ну хоть бульона похлебает – что с того чая…
Через десять минут во дворе старухиного дома гудела паяльная лампа, и кипел котелок на треноге, рядом на корточках Андрей и Саня чистили картошку.
– Не могу я видеть этих бабок, которые вот так вымирают, никому ненужные… – сказал Борисыч. – Всегда им подаю, даже если сам без денег…
– Надо ее отсюда увозить, – сказал Андрей.
– Куда? А если не довезем? – возразил Саня. – Давай сначала съездим в больницу, узнаем: может, они ее заберут.
– Ты давно сам из больницы? Что забыл уже, что это такое? Тем более деревенская больница.
– Ну тогда к ихнему начальству надо ехать, есть же у них хоть какое-нибудь начальство!
Похлебав супу с размоченным хлебом на придвинутом к кровати столе, старуха снова расплакалась. Когда она успокоилась, Борисыч спросил у нее:
– Далеко от вас до райцентра? Вы к какому району относитесь? Начальство-то у вас есть?
– Кто ж его знает? Раньше колхоз был, и председатель был. Я, деточки, сорок лет в колхозе отпахала: по четырнадцать часов робили. Там и ноженьки свои оставила. Тогда председатель был, все его знали, а сейчас един бог – начальник…
Старуха рассказала, что когда-то их деревня относилась к Молчановскому району: им привозили раз в неделю продукты, дрова, уголь, "пензию". Но потом их отдали в Краснополянский район, и там сказали: переселяйтесь, возить больше не будем. Правда, хлеб все-таки возили, но месяц назад почему-то перестали. И речку, где они воду брали, маслозавод отравил. От плохой воды они и вымирают, а до райцентра кило́метров тридцать.
– А дети у тебя есть? – спросил Саня, увидев на стене фотографию, в рамке, молодой еще старухи с мужем ― и маленькие, детей, вставленные поверх большой.
– Сынок и дочка в городе.
– Чего же они тебя к себе не возьмут?
– Кому старая нужна? Да я и сама не хочу… – Старуха опять поднесла ладонь к глазам и заплакала.
Борисыч встал со скамейки, единственного, на чем можно было сидеть в доме, и сказал:
– Ты, мать, сейчас ложись, отдохни. Мы вот тебе хлеб, воду и продукты оставим, а сами съездим в Красную Поляну к вашему начальству, что-нибудь придумаем. Хорошо?
Старуха подняла на него свои страшные глаза.
– Ты чего, мать? Мы же вернемся через пару часов. Обязательно вернемся и тебя в дом престарелых отвезем. Там за тобой ухаживать будут, кормить, лечить… Хорошо?
Но, кажется, старуха не поверила ему: вид у нее был испуганный и потерянный.
– Мы быстро… – сказал Борисыч, и они поспешно вышли, чтобы не видеть вывернутых наизнанку глаз.
Через час езды по заросшему проселку они наткнулись на огороды большого села. На въезде остановились, чтобы спросить дорогу.
У встретившейся женщины узнали, где районная администрация. Она показала на серую, трехэтажную коробку вдали.
Подъехали они со двора. Борисыч оставил машину здесь же, за кустами: чтоб глаза не мозолила.
Пешком они обогнули здание и вышли на чахлую тополиную аллею. В центре ее стоял свежеокрашенный серебрянкой ленин. Фасад администрации тоже был, видимо, недавно отремонтирован. По широким ступеням друзья поднялись к дубовым дверям, прошли внутрь – и тут были остановлены охранником.
Прямо у входа за столом сидел мозгляк в камуфляже.
– Вы к кому? – спросил он, постукивая зажигалкой по столу и не сводя глаз с места, по которому стучал.
– Мы в бухгалтерию, – сказал Андрей, открывая удостоверение участника боевых действий.
Тот откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул.
– Вам, что ли, назначено? – посмотрел он испытующе на Андрея.
– Если бы не было назначено, зачем бы мы пришли? Свои, командир, пропускай!
Постовой взглянул нехотя на телефон и снова склонился над столом:
– Ладно, проходите.
– Главное соблюсти формальность: показать какие-нибудь корочки, чтобы у часового сработал условный рефлекс. Тогда он сам не заметит, что пропустил не того, кого надо, – может, потом заметит, но будет уже поздно, – рассуждал Андрей, поднимаясь по лестнице. – А если начнешь объяснять, просить, пиши пропало.
– А почему – в бухгалтерию? – спросил Борисыч.
– Ну-у, эта важнейшая служба везде есть, – сказал Андрей, оглядываясь по сторонам на площадке второго этажа. – Насколько подсказывает мне опыт, это должно быть где-то тут.
Второй этаж в отличие от первого был обшит дубовыми панелями, оклеен обоями, над головой – подвесные потолки, под ногами ковровая дорожка. По ней мимо каких-то занятых людей в кабинетах, с компьютерами и вентиляторами, они дошли до самой большой, кожаной двери с табличкой "Приемная".
– Ага, нам сюда, – сказал Андрей и взялся за массивную ручку.
В просторной приемной за одним из двух столов сидела остроносая, завитая девушка. Ее строгие глаза были устремлены на монитор.
– Ну сто есё? – произнесла она ледяным тоном и снова уткнулась в компьютер. – Антон Палыц не принимает.
– Ты посмотри! – указал Андрей на другую дверь, там была надпись "Антон Павлович Чехов". – Этот должен помочь.
Борисыч оперся о стол и вполголоса произнес:
– Это – знаменитый американец, путешествует по нашей стране.
– Ну и сто, – сказала презрительно девушка, но вдруг ахнула и расцвела: – Да вы сто! Здрасте… – сделала она что-то вроде обратного книксена: приподнялась в приветствие и снова села: – Он по-русски понимает?
– Нет, я переводчик… – Секретарша уже жала на кнопку селектора, не спуская с Андрея глаз. Тот смотрел и ждал, чем кончится комедия. Борисыч продолжал:
– Кстати, известный режиссер: хочет снять кино про Антона Павловича. Он случайно не родственник тому Чехову?..
В динамике раздалось похожее на кашель "да?".
– Антон Палыц, к вам американский резиссер просится, – радостно объявила девушка, однако в ответ услышала рычание:
– Ну, на хуй!.. – И селектор отключился.
Секретарша пожала плечами.
– Подержи ее тут! – сказал Андрей, распахнул дверь с табличкой, за ней оказалась еще одна – он толкнул ее и прикрыл за собой первую.
– Нельзя… – вспорхнула было секретарша, но Борисыч удержал ее за плечо:
– Тихо-тихо, они там договорятся. Вас как зовут, если не секрет?..
– Натаса.
– А меня – Саса…
Андрей переступил порог и оказался в оазисе европейского дизайна. Гипсокартон, пластик, кондиционеры, вертикальные жалюзи, вертящиеся кресла, серое ковровое покрытие, – и в центре всего этого канцелярского великолепия громоздились четыре самонаполняющихся бурдюка. Трое были неимоверной толщины и походили на гиппопотамов: животы их вздымались, как паруса при попутном ветре в бурном море стяжательства. Четвертый же был кругл, невелик и суетлив, он прислуживал за столом. Водку пили стаканами и не пьянели, перед ними стояли закуски: буженина, балык, маринованные грибки. Голубоглазый пупс во главе длинного стола полулежал в кресле под большим портретом, расстегнув серый пиджак, и поглаживал широкую грудь, переходящую в живот, словно горное плато в холм. Это, очевидно, и был Антон Павлович. Весь кабинет и его обитатели были разлинованы солнечными полосками сквозь приоткрытые жалюзи.
– Ты, Рома, на директора не похож, – говорил Чехов, похлопывая себя по груди. – Не директор маслозавода, а какой-нибудь начальник РСУ. Дохлый как призывник. Поэтому не выдерживаешь конкуренции на уровне, – журил он захмелевшего бурдючонка, но взгляд его был обращен к гиппопотамам. – Правильно, я говорю, господа коммерсанты?
Бурдюки улыбнулись и кивнули. Один имел внешность бывшего комсомольского вожака: заплывшие щелки, косая челка, строгие брови – он недовольно поворачивался вместе с креслом из стороны в сторону. Второй же был очень примечателен. Лицо его, несмотря на огромный живот и внушительный мешок под подбородком, можно было назвать даже худым: широкое, скуластое, с утиным носом и вогнутым лбом. Желтоватая гривка спускалась на воротник.
– Жизнь такая, Антон Палыч, – оправдывался директор маслозавода с пьяной улыбкой и отводил глаза, как пойманный школьник. – Семь жиров за день сойдет: то – то, то – то. Иногда перекусить некогда. – Был он лысоват, рябоват, ум имел живой, подхалимский.
– Ну еб твою мать!.. Можно подумать, на тебе район держится, а не какой-то заводишка!.. – хлопнул с довольным видом Антон Павлович по ручке кресла и в этот момент заметил стоящего на другом конце стола Андрея. – Тебе чего? – спросил он по инерции добродушно. Взоры всех устремились к вошедшему.
– Деревню Тишкино знаешь? – спросил Андрей, он остановился посреди кабинета, потирая за спиной кулак.
– Что еще за Тишкино? – поворотил щеку к директору маслозавода Чехов.
– Это кило́метрах в двадцати, неперспективная деревня, на границе с Молчановским районом,– отвечал тот заплетающимся языком. – Живут там одни старухи…
– Жили, – сказал Андрей. – Теперь померли ― одна осталась.
– Ты кто такой? – громовым голосом рявкнул Чехов. – Вы что, совсем нюх потеряли! Врываетесь, как к себе домой! Ну-ка, пшёл вон!..
– Сейчас… – сказал Андрей, ища что-то вокруг себя. Глаза его потемнели, а лицо стало белым, как лист. Он увидел в углу трехцветный флаг и направился к нему. Выдернул из подставки, переломил древко о колено.
– Не трожь знамя! – взревел Чехов, пытаясь приподняться в кресле, но тут же получил красным огрызком по розовой щеке. Раздался звук похожий на всплеск, как будто камень упал в воду.
– Ой, блядь!.. – Антон Павлович скрючился от боли, насколько позволял живот, и сразу осел, раскис и стал похож на испуганного гаденыша. На щеке выступила голубая полоса. Комсомольский работник тоже хотел встать, но раздался еще один шлепок, и он тоже схватился за щеку. Утконос пролепетал: «Сижу-сижу». Директор маслозавода сложил ручки на коленях и опустил глаза, словно примерный ученик.
– Ты, значит, старух уморил! – И снова удар по другой щеке. – Ну что, вспомнил Тишкино – нет?
– Что там было? – слабым голосом спросил глава, поворотившись к директору.
– Она к нам перешла, когда границы уточняли,– вполголоса проговорил тот, но так что все слышали. – Вы тогда сказали, что вот еще месяц хлеб возим, а потом всё – их аннулирываем. Чтобы они переселялись в соседние деревни.
Андрей снова размахнулся, однако Антон Павлович закрылся руками, тогда он стал наносить колющие удары в огромное брюхо. Толстяк ничего уже не говорил, а только охал и крякал при каждом тычке, губы держал крепко сжатыми, чтобы не вызвать даже подозрения в лояльности по поводу собственного избиения. На столе зазвонил телефон, Андрей выдернул шнур.
– Скажи секретарше, чтобы закрывала дверь и шла сюда. – Он указал на селектор. Антон Павлович протянул руку к кнопке и слабым голосом произнес:
– Ната, закрой все и зайди ко мне.
– Хоросо, Антон Палыц, – оглушил усиленный динамиком бодрый голос.
– Борисыч, закрой входную дверь и веди ее сюда, – добавил Андрей, склонившись над столом.
– Уже закрыл, – ответил из селектора Саня.
– Что празднуете? – спросил майор у коммерсантов.
– День рождения отмечаем, – сказал строгий коммерсант с вызовом, словно комсомолец под пытками. И тут же получил палкой по уху.
– Не ври, мразь! Ну?..
– Сделку обмываем, – затравленно выдавил он, схватившись за ухо, оно загорелось ярко-красным на солнце.
– Какую сделку?
– Мы у него масло купили, – с готовностью отвечал утконос.
В кабинет вошли Борисыч и секретарша. Андрей указал, где ее посадить. Девушка хотела что-то спросить, но Андрей знаком приказал молчать.
– У него? – Он показал на Чехова.
– Нет, у него, – кивнул утконос в сторону директора маслозавода.
– А этот при чем?
– Он нам все устроил.
– Саша, ну-ка, налей всем водки,– сказал Андрей задумчиво.
Борисыч откупорил две бутылки и налил по полному стакану.
– Так, быстро все хлопнули, – скомандовал он.
– Ой, я водку не пью,– пропищала секретарша.
– За знакомство надо выпить, – галантно отставив мизинец, поднес ей стакан Борисыч. – К тому же в такой компании.
– А закусить?
– Дай ей закусить, – усмехнулся Андрей белыми губами, приступ бешенства начал отступать. – Остальные – без закуски!
Подождал, когда все выпьют, приставил древко к животу утконоса.
– Что он вам устроил?
– Высший сорт по цене третьего… – пробормотал тот скороговоркой.
– Так было? – повернулся майор к директору маслозавода.
– Взяли сорок тонн само лучшего масла по цене маргарина…– отрапортовал с горечью стукача директор.
– По средней закупочной цене в области, – раздался болезненный возглас Антона Павловича.
– А он сколько взял? – указал на Чехова Андрей.
– Не знаю, – покачал головой директор.
– Ну что, ты врешь! – с укоризной воскликнул Чехов. – Что врешь…
И тут произошло то, чего никто не мог ожидать. Сначала все замерли, думали: само собой включилось радио, – только спустя мгновение поняли: поет захмелевшая секретарша.
Ой, цветет калина в поле у руцья,
Парня молодого полюбила я.
Парня полюбила на свою беду:
Не могу признаться, слов я не найду…
– заливалась она с закрытыми глазами, откинув голову и подперев щеку.
– Ты что, дура! Нашла время! – воскликнул плачущим голосом Антон Павлович.
– А сто? – удивилась она обиженно. – Для иностранца зэ…
Даже коммерсанты улыбнулись. Борисыч тем временем что-то вылил из пузырька в новую бутылку, встряхнул ее несколько раз и подмигнул секретарше:
– Мы с тобой еще попоем, Натаха. А сейчас все по соточке – ну-ка! – быстренько замахнули! – И он разлил водку по стаканам.
Через пять минут все уснули, некоторые даже захрапели. Бурдюки так и остались в своих креслах (комсомолец постепенно сползал на пол), директор лег на стулья, а секретарша спала за столом, положив голову на руки.
– Ты их не отравил случайно? – спросил Андрей у Сани.
– Не-ет. Таксистский бальзам! – сказал он и залез во внутренний карман Антона Павловича. – Через пару часов очухаются, но помнить ничего не будут. Где-то лавэ должно быть…
– Ты что! – дернул его за рукав Андрей. – Прекращай!
– "Прекращай!" – передразнил Борисыч. – Да бабке тех денег до конца жизни хватит. Где-то должны быть… Куда спрятал?
– Ладно, заканчивай – уходим. – На столе разрывались телефоны. – Он что дурак при себе такую улику держать… Уходим.
– Эх, жалко!.. – Борисыч вложил палку в руку комсомольского вожака, окончательно съехавшего на пол, а второй обломок пытался вставить в непослушную пятерню Антона Павловича: – Пусть думают, что подрались между собой… – Но вдруг нащупал что-то под обтягивающей древко тканью. Вытолкнул из-под нее пальцем несколько зеленых бумажек.
– Ах ты, паршивенчишка такая! Семь сотен баксами – все можно домой ехать! – радостно воскликнул Борисыч.
Он сунул также за пазуху "на дорожку" несколько бутылок водки.
– Ты же сказал, старухе деньги отдашь! – Андрей отпустил собачку на замке и, как только Борисыч вышел, захлопнул за собой дверь.
– Тут и старухе хватит… – Они выглянули в коридор: там никого не было – заперли приемную и быстрым шагом пошли к лестнице.
– Не беги, – сказал Андрей, когда они спускались в холл.
Проходя мимо охранника, Андрей весело подмигнул ему:
– Спасибо, командир: все сделали! – Тот важно наклонил голову.
– Охранник нас видел… – проговорил уже на улице Борисыч. Они не пошли в обход по аллее, а повернули вдоль стены, там была пробита тропинка.
– Охранник будет молчать как рыба. Не было случая, чтобы часовой сознался, что пропустил кого-то не того, – это закон природы. К тому же у него должность со столом и телефоном: где он еще найдет такую, – успокоил его Андрей. Никем не замеченные они сели в машину и выехали из поселка.
День клонился к вечеру, освещенные предзакатным солнцем березы, словно облитые желтком, развевались и серебрились на ветру. Вдруг весь лес, смятый невидимой рукой, проваливался и вскипал, а затем колыхался зелеными волнами. Шлейф пыли за грузовиком поднимался до небес. Птицы летели по ветру, как взъерошенные стрелы.
– К вечеру что-нибудь надует, – нарушил молчание Борисыч и протянул доллары Андрею. – На, пусть у тебя будут.
– Отдашь старухе, – сказал майор.
– Да мы ее в самую лучшую больницу определим, с отдельной палатой, а потом в пансионат отправим на воды – за такие бабки! – воскликнул Борисыч жизнерадостно.
– Ладно, – сказал Андрей и немного погодя проговорил: – Все-таки нехорошо получилось!..
Борисыч удивленно посмотрел на него.
– Как бы преднамеренно. Я всегда мечтал по такой морде смазать, и, выходит, просто исполнил свое желание. И деньги, скорее всего, другие, а не та взятка.
– Ну что, может, вернемся – попросим прощения? – съязвил Борисыч. – И деньги ему возвратим, а старуха пускай помирает!
Начинало смеркаться. Над лесом впереди стлалось что-то черное.
– Вон, какая туча идет. Я же говорил, к вечеру надует, – сказал Саня.
– Это не туча, – сказал встревожено Андрей, – как бы не деревня…
Дальше они ехали молча, вглядываясь в поднимавшийся столб дыма. Он был пепельно-черный, густой. Ветер прижимал его к земле и растягивал вдаль креповым полотнищем, но у основания он тяжело и туго клубился. А когда они подъехали еще ближе, стало видно, как несколько дымов с неимоверной быстротой клубятся и свиваются в один шлейф. Из черных, насыщенных сажей завихрений то здесь, то там вырывались языки пламени.
– Деревня… – сказал твердо Андрей.
Они выехали из-за пригорка, и тут им открылась горящее село. Дальше двигаться было нельзя. Старухин дом превратился в ослепительное пятно, с более темным окном, засасывающим внутрь пламя, а на месте сеней вертелся огненный смерч. Горело все: дома, заборы, деревья, – несколько журавлей выступали из дыма, по их шеям переливчато взбирались спирали огня. Из-за жара нельзя было поднять лицо. Трава тлела у самых ног. Борисыч отогнал машину подальше и вернулся. В черных, без зрачка глазах Андрея переливались отблески пламени.
– Ты хорошо залил траву, когда лампу разводил? – спросил Андрей, не спуская глаз с деревни.
– Ну да, всю воду вылил… и окурки все затоптал, – ответил Борисыч.
– Хотя в такую сушь одной искры от машины достаточно… – проговорил мрачно Андрей.
– Ё мое… – вдруг вспомнил Саня: – Я же у нее спички на столе забыл…
Андрей посмотрел на него, но ничего не сказал. Он пошел вверх по склону холма и остановился на вершине. Рядом падали белесые, тлеющие хлопья. Пламя ревело и завывало, как исполинский зверь.
– Ничего нельзя сделать. Всё, – крикнул Борисыч. – Поехали.
Но майор его не слышал, он стоял и не спускал глаз с пожара, будто пытался что-то разглядеть в огне. Лицо, озаренное пламенем имело торжественное и даже надменное выражение. Он словно созерцал бьющегося в бессильной злобе врага. Борисыч пошел и сел в машину, оттуда он мог видеть Андрея. Фигура его отбрасывала гигантскую тень на освещенный пожаром березняк, ставший вдруг плоской, беленой стеной. Сумерки сгустились где-то за дальним лесом, здесь же было светло, как днем.
Выкурив уже третью сигарету, Борисыч заметил, что, хотя ветер дует в противоположную сторону, горящая трава приближается к грузовику. Он выскочил и пошел звать Андрея. Но увидел, что тот уже не смотрит на деревню, а поднял лицо к небесам. Борисыч остановился шагах в десяти от него. Внезапно тот вскинул в неприличном жесте руку и крикнул:
– Эй ты, мразь! Ты слышишь меня? Я вызываю Тебя, шакал! Я уже здесь – и я вызываю Тебя! Ты слышишь?.. – Эхо усилило и повторило крик. Борисыч замер от неожиданности. И вдруг ветер начал стихать (может, он начал стихать еще раньше, подумал Борисыч), пепел стал падать почти отвесно, и, казалось, огонь уже бушевал не с такой силой. Андрей повернулся и пошел к машине. Проходя мимо ошеломленного Борисыча, он проговорил:
– Услышал. – И потом оглянулся и крикнул: – Поехали!
Отъехав от горящей деревни, они попали в кромешный мрак, только небо голубовато светилось на западе. Дорога была одна, на Красную Поляну, но туда возвращаться небезопасно. Решили заночевать в поле, а утром поискать дорогу в объезд сгоревшей деревни или ехать через нее, если пламя утихнет. Там, за лесом, все еще клубился подсвеченный снизу дым, и даже облака мерцали бурым отсветом.
На этот раз легли в кузове на мешках, сквозь дыру в потолке смотрела одинокая звезда, мигавшая из-за пролетавших туч. Сильно пахло бензином, но сама возможность вытянуть ноги казалась блаженством. Борисыч спросил:
– Что ты там орал на горе, я не понял?
Андрей ответил не сразу, сначала усмехнулся, – во всяком случае, в его ответе послышалась усмешка:
– Не обращай внимания.
– Ни черта себе: не обращай внимания! За нами гоняется… черт знает кто. Ты орешь там… черт знает что – и не обращай внимания, – возмутился Борисыч сонным голосом и глубоко зевнул. – Так, что получается? – деревню тоже… Этот сжег?
– Ну, если не мы, то – Он, наверно, – был ответ.
– Вот, опять начинаются виляния! Нет, ты конкретно скажи: деревня не так просто сгорела?
– Не знаю – возможно.
– Почему тогда Ему не взять и не прихлопнуть нас, как кутят, если Он такой всесильный?
– Я не думаю, что Он всесильный… Нет, конечно, всесильный, но пока не хочет свою силу показывать, – начал рассуждать Андрей. – Если бы Он мог, то прихлопнул бы нас, как только мы вышли из дому. Мне кажется, Ему приходится напрягать все силы, чтобы хотя бы в одном месте разорвать цепь причинности, созданную Им самим. Вероятно, это может повлечь крушение всего мироздания, что пока не входит в Его планы…
Однако Борисыч уже спал. Снилось ему, что он поднимается по ступенькам – и вот запнулся и падает… Он вздрогнул, его пронизал холод ужаса, проснулся на мгновение – ему показалось, что лежит дома в постели, – и, успокоившись, заснул снова.
Андрей почувствовал, как Борисыч дернул во сне ногой, и понял, что тот его уже не слышит. Глядя на звезду в потолке, он думал над тем, что минуту назад говорил и что еще можно было сказать по этому поводу. Ему казалось, что говорил он не так и не то – сейчас бы сформулировал гораздо лучше. То есть силен он лишь задним умом, а "передним", когда это нужно, как раз не силен. Из-за недостатка образования, думал Андрей…
Борисыч же спал и видел сон, но думал, что это ─– настоящая жизнь. А по силе ощущений она и была самая настоящая. И он, во что бы то ни стало, хотел в ней чего-то добиться, но чего – было неясно ему самому. В той жизни Саня был тоже Саней и одновременно царем Навуходоносором. Коллизия заключалась в том – как все более выяснялось, – что подданные отказывались его слушаться, и это вносило разлад во внутренний мир Борисыча. Он желал, во что бы то ни стало, доказать свое навуходоносорство, но не знал, как это сделать. Они же собрались небольшой толпой внизу на площади и ничего не предпринимали, однако он все равно чувствовал, что подданные его не признают или признают, но не полностью. За ним же по оборонительному валу шло много людей, – по-видимому, свита, – и эти сопровождающие были вместе с тем его одноклассниками. И вот они подошли к одному месту в окружении садов, где стоял беломраморный храм, или дворец, или дом культуры, или что-то в этом роде. На его ступенях сидела девушка, в которую он был влюблен еще в школе, имени он ее уже не помнил. И девушка была не похожа сама на себя, но Борисыч был почему-то уверен, что это именно та девушка, а не кто-нибудь другой, ─ возможно, благодаря закипавшим слезам и сладостному надрыву, готовому разорвать грудь. Саня хотел намекнуть о том, кто он на самом деле, но девушка, кажется, догадывалась, потому что ласково улыбалась, и с ней ему было так хорошо и радостно, как никогда и ни с кем. Он даже подумал: ну вот, надо было еще в школе открыться ей, что он царь вавилонский, и это счастье случилось бы гораздо раньше. А неблагонадежные подданные все маячили где-то на периферии его сновидения. На лестнице не то храма, не то дворца культуры становилось все жарче, – очевидно, из-за того, что белый мрамор отражает солнечные лучи. И приближенные стали уговаривать его пойти на вечер выпускников, уверяли, что она, эта девушка, тоже там будет, но все не могли договориться, где им встречаться. На лестнице уже было невыносимо из-за палящего зноя. И вдруг все начало портиться: сон словно заело, и он никак не мог двинуться дальше. Борисыч старался его как-то стронуть с мертвой точки, но он все время пробуксовывал на одном и том же: вечер выпускников – «Где встречаемся?» – зной… И девушка уже начала таять – он пытался удержать ее образ, однако сам увлекся спором, – она куда-то затерялась, мелькнула позади толпы и пропала совсем… Вдруг он отчетливо почувствовал едкий запах дыма и еще подумал, что это подданные восстали и подожгли храм… Борисыч вскочил на колени и закричал: "Горим!" Все сразу вернулось: грузовик, деревня, спящий рядом Андрей. Вокруг и в самом деле все горело: стога, лес, трава под колесами. Саня растолкал Андрея и вылетел вниз головой из будки. И, как ему показалось, в то же мгновение вскочил на водительское сиденье. Кабина была вся в дыму.
– Где дорога? – крикнул он запрыгнувшему следом Андрею. Они уже ехали по полю, но из-за дыма ничего не было видно.
– Блин, там бочка ворованного бензина! – кивнул Борисыч назад.
Андрей открыл дверь и встал на подножку, чтобы осмотреться.
– Ничего не видать! Езжай прямо: пожар был сзади, – крикнул он и сел снова.
– Все пузыри расколотим, – процедил Борисыч.
Они пробирались почти вслепую на первой скорости, Саня привстал и, согнувшись над рулем, вглядывался в светящийся перед фарами дым. Их встряхивало на колдобинах, они чуть не въехали в березняк, обогнули и снова резко затормозили у зарослей тальника, ткнувшись лбами в стекло. Один раз уже сползли передним колесом в большую канаву, но Борисыч тут же дал задний ход и, побуксовав, выехал из нее.
Так они блуждали довольно долго, стало казаться, что теперь их жизнь заключается в кружении внутри дымного облака. И вдруг белая мгла впереди начала редеть, над головой показалось темное небо, и они вырвались из дыма. Он белесым айсбергом остался лежать в кромешной черноте позади. Борисыч издал победный клич и застучал по рулю, но не стал останавливаться, прибавил газу, чтобы подальше уйти от огня.
– Как огонь смог нас обойти? – размышлял вслух Андрей. – Ветер, что ли, переменился?
Борисыч только посмотрел на него и ничего не сказал.
Остановились они, когда начало подбрасывать на болотных кочках, а впереди вырос стеной камыш. Андрей выскочил из кабины и сказал, что под ногами вода – огонь вряд ли сюда доберется. Дальше, очевидно, было болото. Борисыч сдал назад, чтобы не застрять, и пошел осматривать колеса и днище. В свете фар кружился гнус, мелькали вспышками крупные мошки.
– Ну вот, чуть не прихлопнул! – попробовал пошутить Андрей.
– Ничего смешного. Могли и не проснуться, – ответил Борисыч серьезно.
– Я про что и говорю, – сказал Андрей, хлопая себя по шее и щекам. – Комаров тут… Эх, дымку бы! А? Саша?.. Ты чего не веселый такой – радуйся, что жив остался!
– Я и радуюсь,– закричал, отбиваясь от комаров, Борисыч и заскочил в кабину. – Злые, как собаки!
– Сон хороший видел, – продолжал он, закуривая, – а эта сволочь все испортила.
– Какая сволочь?
– Ну та, что нам покоя не дает, палки в колеса вставляет – или нет ничего?
– Не знаю. Но если есть, то Он очень не хочет, чтобы мы доехали до манихейца.
– Почему?
– Этого я тоже не знаю – пока. Мне кажется, что вставлять палки в колеса он нам по-настоящему еще не начинал.
– Ну тогда, как выберемся на трассу, так и рванем к твоему другу. Деньги у нас теперь есть, а бутылки на обратном пути поспрошаем.
Начинало сереть. Прорисовывались незнакомые окрестности, словно облитые темным лаком, объемные и отчетливые. Утром все выглядело иначе, чем ночью: там, где маячил вчера лес, оказались заросли боярышника, а лес поднимался дальше, да и камыш был не таким высоким, а болото не таким большим, как в свете фар. Позади широкой полосой, будто гребень дракона, стлался над лесом пепельно-белый дым.
– Ну что, в путь? – сказал Борисыч, и, не дожидаясь ответа, отпустил сцепление. Будка послушно закачалась на кочках в объезд болота.
Глава восьмая
Лучи восходящего солнца разогнали облака – мир стал снова цветным, только во все был подмешан нежный оттенок утра. И, как всегда, перемена эта показалась чудесной, невероятной. Перед ними лежало большое поле с перелесками, стогами и сиреневыми макушками деревьев, торчащими прямо из земли. «Там, наверно, река или овраг», – сказал Андрей. Они вышли из машины и тут же запрыгнули назад, оказавшись по пояс в росистой траве. Красные стога вдалеке отбрасывали еще синюю, прохладную тень, между ними висела лиловая дымка, по земле стлался белый туман. В воздухе стояла влажная тишина, вот-вот готовая пролиться стрекотом насекомых. Роса была как молоко, она сливалась ближе к стогам в сплошное озеро, исчезавшее под золотистым краем тумана. Вдалеке поднялась стая птиц, полетела над землей, перевиваясь веретеном и пропадая в собственном блеске.
– Если есть стога, где-то есть и дорога, – сказал Андрей.
Не успели они тронуться, как впереди с электрическим всполохом взлетел выводок куропаток. Значит, они все время сидели здесь, в десяти шагах от грузовика! Андрей высунулся в окно, провожая их глазами. Похожие в лучах зари не летящие шаровые молнии, куропатки, расправив дугой крылья, на бреющем полете стремительно ушли за край поля.
Вскоре они нашли дорогу и стали решать, в какую сторону направиться. Вспомнили, что когда позавчера вечером покидали монастырь, солнце было сзади, значит нужно и сейчас ехать так, чтобы оно светило в спину. Однако минут через пять дорога повернула, и солнце было уже справа. Саня с беспокойством поглядывал на Андрея, но тот невозмутимо смотрел вперед.
Через полчаса пути он сказал:
– Надо было, наверное, ехать в обратную сторону.
– Так что, разворачиваемся? – спросил Саня.
– Да нет, поехали вперед: куда-нибудь выедем.
Пошли перелески пореже, заросшие в нижнем ярусе черемухой, рябиной, волчьей ягодой. Некошеные луга пестрели цветами, горящие на солнце насекомые совершали свой целенаправленный полет в отличие от хаотично летящего, светящегося пуха. Становилось жарко. Места здесь были сухие, стали попадаться одинокие сосенки. Неожиданно они выехали на асфальт. Узкая дорога извивалась и пропадала в тенисто-солнечном березняке. Ласковые, манящие зайчики танцевали на ее полотне.
– Куда теперь? – спросил Саня, сложив руки на руле и глядя на Андрея.
– Налево, – указал тот подбородком.
Не прошло и пяти минут, как они проехали мимо ворот какого-то дома отдыха.
– Не понимаю… – бормотал Борисыч. – Не может быть…
Андрей тоже озирался с недоумением. По сторонам дороги, в лесу, начали мелькать веселые домики заброшенных лагерей и пансионатов. Кое-где за забором бегали дети, прогуливались взрослые, в бейсболках и шортах, – очевидно, отдыхающие, – значит, некоторые из них были обитаемы. На дороге им встретился сбившийся на обочину отряд детей, управляемый двумя толстыми женщинами, в панамах, с красными флажками в руках. А когда они свернули на широкое шоссе и въехали под сень корабельного бора, сомнений уже не оставалось.
– Краснолучье! – проговорил Борисыч, но Андрей и без него узнал знакомые с детства места: это был курорт на берегу реки, вернее, в ее излучине.
– Не понимаю! – продолжал недоумевать Борисыч. – Мы же были по ту сторону Кутерьминского тракта, его не пересекали. Как мы могли здесь оказаться?
– Ночью в дыму, наверно, переехали, – сказал Андрей.
– Та деревня совсем в другой стороне от него находится.
– Почему ты решил, что она в другой стороне? Мы прежде, чем в нее попасть, сколько плутали? Может она рядом с трактом и стоит. Ветер и дым как раз в эту сторону были – мы просто крутанулись впотьмах и все.
– Я что совсем уже!.. Как бы я не заметил, что через трассу переехал?
– Ночью и не такое бывает… Как тебе глаза привиделись?
Борисыч промолчал, видимо, соглашаясь с последним доводом, – нахмурился.
Однако вместо досады, оттого что опять сбились с пути, они чувствовали прилив каких-то ожиданий. Весь бор был пронизан под разными углами голубыми, словно пар, лучами. Там горели среди глубокой хвойной тени жарким, белым огнем похожие на паркет заросли папоротника; золотые, чешуйчатые стволы; красные муравейники, тропинки переплетенные стесанными корнями и усыпанные сухими иголками и шишками. По их лицам, рукам, коленям бежала веселая рябь от простертых над дорогой лап. Впереди они увидели идущих краем леса загорелых девушек в цветастых юбках-разлетайках, с воткнутыми в волосы солнцезащитными очками, с пляжными сумками через плечо. От их упругих, точеных ног, рук, гибких голых спин и шей веяло здоровьем, полнотой жизни. Хотелось так же – молодым, загорелым, счастливым – идти рядом с ними. Борисыч сразу вспомнил, сколько у него денег, но, взглянув на Андрея, подумал: «Да-а, с этим каши не сваришь!» «Хотя он кто мне? – ни сват, ни брат. Дам ему десять процентов – потом. Как договаривались. Договор был о прибыли с пушнины, значит, на баксы не распространяется», – решил Борисыч.
Андрей чувствовал примерно то же, но думал совсем о другом. Как быстро, размышлял он, все перевернулось. То, что случилось вчера, все разговоры и откровения, бывшие между ними, кажутся теперь шелухой – чем-то ненастоящим, ненужным, далеким и неинтересным. А важным представляется вот это счастье тела – и то, что жизнь не кончена и еще полна радостей. А может, действительно он все преувеличивает – и в них, в этих радостях, и есть главный смысл бытия. В конце концов, все так живут…
Борисыч предложил съездить искупаться в реке, но прежде они заехали в деревенский магазин, купили хлеб и сыр на завтрак. Потом спустились по головокружительной прорытой в обрыве дороге в пойму, с заливными лугами, доехали до уремы. Вековые ивы отстояли здесь друг от друга на десятки метров, через этот солнечный лес по накатанной глинистой дороге домчались до ослепительно белого пляжа. Машину поставили под ивой у края береговой ступени. Расположились на холодном, мелком песке, перемешанном с мягкими кусочками ила, обломками коры, веточек, белых ракушек, – всем тем мусором, что выносит река. Сама она, сверкающая рябью, зеленовато-стальная, на середине голубая, у берегов золотисто-зеленая, слепящая зайчиками и манящая прохладной тенью глубины, ласково плескала, омывая зеркальный песок, исчерченный кривыми линиями пены, щепок, блестящей угольной пыли и тины.
Они разделись и, не спеша, наслаждаясь каждым шагом – после двух дней в ботинках, – по мелкому, горячему – холодному в глубине – песку, спустились к реке. Пляж уже начал заполняться редкими отдыхающими. Постояли, глядя на свои запыленные, мертвенно-бледные сквозь зеленоватую воду ноги и цветастые трусы до колен, посмотрели на пляжников…
– Ну и видок у нас, – сказал Борисыч, трогая трехдневную щетину.
Вода была теплее песка. Вошли в реку, совсем не почувствовав перехода из одной стихии в другую. Брасом доплыли до середины. Выныривая, видели сквозь стекающую с головы воду горы бревен на том берегу, белый бакен, безоблачное небо, а с каждым нырком – мутно-зеленую толщу, с взвешенными частицами, коричневую в глубине. Их ноги касались холодных струй.
Перевернулись на спину и, выбрасывая руки, погребли по течению. Борисыч то и дело с беспокойством поглядывал на берег, где остались вещи и машина. Их сносило все дальше. "Не пора ли назад?" – сказал Саня. Андрей нырнул с кувырком под водой и поплыл к берегу.
Вернувшись к машине, он достал станок, вставил зеркальце между ветками. У Сани была заводная бритва. Потом сели завтракать на разостланном одеяле в прозрачной тени ивы – оба с мокрыми головами и высыхающими каплями на теле. Ели с большим аппетитом. После завтрака Саня закурил.
– А не так плохо жить, – сказал он, глядя на двух пляжниц, расстегнувших купальники неподалеку от них.
– Это в тебе Он говорит, – сказал Андрей с улыбкой.
– Да ладно! Теперь ни чихни, ни перни – все Он будет!
Подлетела черная, большая оса. Борисыч отшатнулся и отмахнулся, подул на нее дымом, – она стремительно сделала круг и вернулась. Остановилась, раскачиваясь в воздухе, села у корней ивы. Песок там заканчивался, начиналась твердая глина. Заползла в норку, отбросила задними лапками песчинки, выползла задом и снова заползла. Оба путешественника наблюдали за ней.
– Я сначала тоже сомневался, – сказал Андрей, переворачиваясь с живота на бок, – пока не прочел про сверчков. Так вот, эта оса – или другая такая же, названия не помню, – ловит сверчка, жалит его, но не убивает, а только парализует своим ядом и тащит в норку. Там она откладывает на него, живого еще, яйцо. Потом из яйца выводится личинка, которая начинает сверчка поедать. Личинка растет и все глубже вгрызается в сверчка. Однако тот не умирает, он все чувствует и шевелит в своем насекомом отчаянии усами. Таким образом, личинка на долгие дни и недели обеспечена свежей пищей, ведь сверчок живой, следовательно, не протухает. Представь тысячи – нет: сотни тысяч съеденных наполовину сверчков, шевелящих усами в подземных норках! Чем не божий промысл! И это не единственный пример – их море. Но мы ничего не хотим знать, к тому же от нас скрывают правду, а с детства вдалбливают сказки про трудолюбивых пчел и муравьев…
– Сверчки такие мерзкие, – перебил вдруг Борисыч. – Как тараканы, только с ногами, как у кузнечиков. И стрекочут мерзко: если заведется дома, то хрен заснешь. – Он уже не верил Андрею и слушал в пол-уха. – Пойду пройдусь, – сказал он и молодцевато вскочил на корточки, но тут же неуклюже повалился назад.
Он направился к двум девушкам, чьи коричневые спины уже начали лосниться от пота. Под лопатками виднелся розовый, шелушащийся след от ремешка и застежки. При приближении незнакомца пляжницы выгнулись и, поддерживая бюстгальтер на груди, пытались застегнуть его на спине. После безуспешной попытки уткнулись в книжки. Борисыч подошел, присел перед ними. Что-то сказал, но у девушек был такой вид: выйди сейчас река из берегов, они и то не оторвались бы от чтения. Дигамбар провел пальцем по плечу одной из них, и та вдруг разразилась ругательствами ─ некоторые долетели до Андрея. Борисыч что-то пожелал напоследок и, улыбаясь, пошел назад. Девушки какое-то время с негодованием смотрели ему вслед.
– Ну, как прогулка? – спросил Андрей.
– Нормально, – сказал Борисыч, почесывая наколку на плече. – Я что заметил: они все тут пиво и минералку хлещут. Надо будет заехать в какой-нибудь дом отдыха, поспрошать бутылки, – может, даже есть смысл задержаться.
– У тебя же теперь денег куры не клюют, – напомнил Андрей.
– Денег много не бывает, – назидательно поднял палец Саня.
Они доехали до первого указателя: "База отдыха «АО Химреагенты»" – на щите была изображена реторта на фоне дымящих труб. Борисыч выбрал объездную дорогу и въехал в открытые задние ворота. Они попали на хозяйственный двор – и сразу в гущу событий.
Раскрасневшаяся платиновая блондинка, в золотом, сверкающем, как доспехи, брючном костюме, колотила батоном докторской колбасы щуплого мужичонку. Тот закрывался руками, вжимал голову в плечи, пытаясь вырваться из-под града ударов. Наконец ему удалось увернуться, он отбежал на безопасное расстояние и сменил бег на исполненную достоинства походку. На крыльцо с дверью, затянутой ржавой сеткой, вышли несколько поварих в желтых фартуках. Амазонка тоже остановилась и, тяжело дыша, погрозила ему колбасой:
– Я тебя укормлю, блядь такая!
– Пидораска ебаная, – пробормотал мужичок, в розовой летней кепке и мятом коричневом пиджаке, проходя мимо Сани с Андреем.
– Ишь, хитросделанный какой! – Женщина, видимо, почувствовала потребность объяснить происходящее двум случайным свидетелям. – Ключ к холодильнику подобрал – колбаски захотелось! Я тебя укормлю, – не дай боже́, еще явишься!.. – Она снова погрозила своим оружием.
Мужик дошел до ворот, обернулся, выставил согнутую в локте руку:
– На, пососи!..
Дама сделал несколько угрожающих шагов, потрясая колбасой, – он быстро выбежал за ворота и больше не возвращался.
Помахивая своим жезлом, воительница пошла, было, назад к крыльцу, но повернулась к друзьям. Несмотря на неустрашимость, в ней чувствовалась временами какая-то растерянность: она часто застывала в нерешительности, словно не зная, что дальше сказать или сделать.
– Вам чего? – спросила она по инерции сердито.
– Мамуля, – галантно выступил вперед Борисыч. – Наша фирма скупает у населения стеклобутылку. Если у вас есть "чебурашка", "четушка", "водочная" или "ноль тридцать три", мы готовы приобрести по сходной цене…
– Чего? – переспросила дама, наморщив напряженно лоб.
– Бутылки покупаем – цены высокие! – пояснил Борисыч.
Она посмотрела на них, что-то соображая и постукивая колбасой по широкому бедру.
– Обождите, – сказала амазонка и направилась к крыльцу, выпятив огромный зад и глядя себе под ноги.
Через минуту она вышла уже без колбасы и крикнула им:
– Ну, пройдемте ко мне в офис – там поговорим.
Андрей с Борисычем переглянулись и последовали за ней.
Через кухню и столовую, где пахло горячим киселем и котлетами, они прошли в главный корпус. Там женщина ключом отперла обитую рейками дверь, друзья оказались в комнате с письменным столом, вентилятором и несгораемым шкафом. На столе лежали какие-то документы, а также несколько путевок. Она села и растерянно посмотрела на друзей, потом передвинула бумаги, поменяв их местами.
– Садитесь, парни, – пригласила она, навалившись локтями на стол и постукивая ручкой по носу. – Бутылки мы вам организуем, это я вам обещаю. Чего-чего, а этого добра у нас выше крыши… – Однако в ее тоне послышалась недомолвка, в которой скрывалось какое-то условие.
Борисыч заерзал на стуле.
– А что такое? – спросил он, чтобы облегчить ей подступ.
– Машина у нас поломалась, не на чем продукты из города привезти. Если выручите дня на три, пока ее подшаманят, я вам все по высшему тарифу оформлю. Плюс эксплуатация транспортного средства ─ и бутылками загружу под завязку. Комната, питание – все бесплатно. Договорились?
Андрей взглянул на Борисыча, но тот смотрел на даму.
– А колесо у вас есть, где отремонтировать?
– Наркисыч вам все отремонтирывает.
Директриса попросила показать документы. Андрей передал через Борисыча пенсионное удостоверение. Увидев его на фотографии в форме, дама расплылась в обворожительной улыбке:
– У нас тут, сами видели, какие пертурбации: сторожа выгнала ─ колбаски захотел котяра. Может, посторожите, пока нового подыщу. Хорэ?
– Ну что?.. – повернулся к нему Борисыч.
Андрей улыбнулся в пол:
– Хорошо. Надо же койко-место отрабатывать.
– Ну вот и красота! Я вас, парни, как временно оформленных устрою, договорэ́?..
Борисыча после обеда услали с экспедитором в город. Андрей пошел побродить по лесу: его рабочий день, точнее, ночь начиналась в девять вечера.
Пансионат расположился в бору, который обрывался головокружительной крутизной: река здесь подходила к самому береговому уступу. Железная многоярусная лестница спускалась на пляж, там сейчас было многолюдно. Но Андрей направился вдоль обрыва, обходя падающие сосны и трещины в тропинке. Дорогу ему преградил забор, сетка в нем была прорвана, и он без труда продолжил путь. Так он шел довольно долго мимо брошенных лагерей и турбаз, преодолевая их поваленные ограждения. Что-то неизъяснимо влекло его вперед, – возможно, тоска по безвозвратно утраченному, к ней сейчас примешалась еще грусть запустения.
Места эти были ему хорошо знакомы с детства. Запах горячей хвои; чешуйчатые, золотые сосны; осыпи желтых игл; далекая музыка в бору; проплывающие рубки пароходов, с мачтами и флажками (река снова отступила от старого берега, и были видны только надстройки судов, проходивших по ней), – казалось белоснежный особняк ползет по ярко-зеленому лугу, – все это вдруг напомнило время, проведенное в пионерских лагерях. Андрей сел на обросшем корой корне повисшей над бездной сосны. На него нахлынули воспоминания детства: первый поцелуй девочки (не той, в которую был влюблен), первый стакан вина в деревенской пивнушке (первая тошнота с головной болью), упоение собой и жизнью, которое должно, как тогда казалось, становиться все сильнее… А не должно – не стало. Эти образы утишили грусть, Андрей словно погрузился в дрему. Приятный холодок пробегал между лопатками, его всего охватывал прилив зябкого онемения. Огромный шар багрово-розового, мглистого, не слепящего уже солнца повис над лесистым горизонтом с синими дымками городских труб. Он поднялся и решил пройти еще немного вперед.
Перешагнул два или три забора и вдруг остановился как вкопанный: он узнавал и не узнавал это место. "Нет!.. – проговорил Андрей. – Слишком невероятно…» Но вот камера хранения… Дальше ─ корпус… Какое все маленькое и неказистое! И даже стол в кустах, где глотал слезы над первым в жизни письмом, состоявшим всего из одной фразы: «Мама приижай», – сквозь него пробилась трава, он облез, но еще цел. Только все пришло в запустение, заросло пыреем и осотом. Краска с заколоченных деревянных корпусов осыпалась, щиты с горнистами и барабанщиками упали. «Да, это – тот самый лагерь». Будто кто-то на мгновение сжал его сердце и горло нежной, сильной рукой. Андрей вспоминал более поздние годы в других лагерях, а про него и думать забыл. Вот и та аллея… (Он брел по колено в траве, как по лугу.) И беседка (где они сидели с мамой, а он ел соленые от слез груши) наполовину развалилась, но еще стоит… Через неделю родители погибли – маленького Андрея оставили еще на месяц в лагере. Когда дед забирал его, то сказал, что они надолго уехали. Правду от него скрывали целый год. Но он все равно почувствовал неладное: потому что их вещи переехали к старикам вместе с ним и бабушка часто без причины плакала, а дед на нее цыкал. Только через год признались, что мама с папой не приедут уже никогда… У Андрея страшно защипало в носу – он вскочил и пошел прочь от беседки, стараясь убежать от того нестерпимого горя, вырвавшегося из глубин, словно не было сорока притупляющих лет…
На выходе из лагеря поднял глаза и испытал нечто похожее на испуг: на него в упор смотрел назнакомец. Тот сидел на перилах жилого когда-то корпуса с книгой на коленях и, опершись спиной на столбик, поддерживающий навес, ковырял в носу. Андрей никак не ожидал здесь кого-нибудь встретить. Человек уставился на него с сосредоточенной рассеянностью, сдвинул сердито брови, при этом скроил идиотскую мину, – по всей вероятности, мысли его были где-то далеко. Напоминал незнакомец желчного херувима, с поредевшей кудрявой шевелюрой. Кажется, он не очень обрадовался появлению постороннего. Андрей тоже никого не хотел видеть – развернулся и пошел назад. В дом отдыха он возвратился той же дорогой, которой покинул его.
После ужина он отправился с Верой Киприяновной, как звали директрису, знакомиться с "объектом". Она потащила его по задворкам, в числе прочего показала гараж. В одном из боксов стоял их грузовик. Андрей не видел Борисыча с тех пор, как тот уехал в город. Вера Киприяновна вела себя загадочно-нерешительно: говорила с заминкой, растягивала слова, опускала глаза. Дала ему фонарик, ключи от сторожки и на прощанье игриво погрозила пальцем: «Чтобы никого сюда не приводил!» Многообещающе улыбнулась через плечо: «Я приду проверю…»
Андрей вернулся в отведенный им на двоих с Борисычем номер и застал там теплую компанию. За столом сидели сам Борисыч, экспедитор Володя, с которым они ездил в город, и две поварихи. Володя с самого начала показался Андрею бестолковым: он все время молчал и только улыбался. У него были, большие уши, круглое, веснушчатое лицо, сонные глаза. Все были уже пьяны, веселье шло полным ходом. Борисыч сообщил, что они разогреваются перед танцами.
– Иди садись, Сергеич, – пригласил он широким жестом.
– Нет, спасибо – я на работе, – сказал Андрей, протискиваясь к своей сумке.
– Какая работа, майор! Пропусти соточку, а потом пойдешь спать в свою халабуду! – не унимался Борисыч.
Даже Володя открыл рот и пробубнил что-то вроде:
– Ты что, закодированный? Сейчас раскодируем…
Одна повариха визгливо захихикала, а другая исподлобья серьезно посмотрела на Андрея. Он достал куртку, ничего не сказал и вышел из номера.
Танцы, на которые собирался Борисыч с новыми знакомыми, отменили. Публика сначала толпилась у танцплощадки, а потом разбрелась по бору. Но Сани с компанией там не было. Когда совсем стемнело, Андрей решил еще раз обойти «охраняемый объект».
На хоздворе в кромешной тьме он заметил человека, в светлой рубашке, выносившего что-то из двери кухни. Андрей осветил его фонариком и крикнул:
– Стой! Стрелять буду!
Человек замер с большой алюминиевой кастрюлей в руках. Им оказался никто иной, как экспедитор Володя.
– Что несешь? – спросил Андрей.
– Кастрюлю, – тупо ответил Володя, слегка покачиваясь.
– Что в кастрюле? – продолжал допрос майор.
– Ничего… – Однако было видно, что кастрюля тяжелая.
– Я же вижу, что-то есть. Ну-ка, открой…
Володя поставил кастрюлю на ступеньку и снял крышку. Андрей посветил внутрь.
– Котлеты… – удивился Володя. Кастрюля была на треть заполнена жареными котлетами.
– Зачем тебе столько? От одной можно не проснуться.
– На закусь, там толпа большая…
– А как ты на кухню проник? – Андрей посветил на дверь: замок был целый.
– Ключ Киприяновна дала. – И Володя показал связку ключей с печатью, такую же Андрей видел у директрисы.
– Ага… – протянул майор. – Что ж ты сразу не сказал?
Володя только пожал плечами. Секьюрити, однако, поверил не до конца и решил проводить его. Они поднялись на третий этаж. По дороге Андрей спросил, где Борисыч. Оказывается, он тоже был там. «А кто еще?» – «Да кто? ─ отдыхающие…»
Володя подошел к двери, за которой слышны были нестройные голоса – особенно один: бархатистый баритон, он и урчал, и самодовольно перекатывался. Экспедитор поставил кастрюлю днищем на ручку, надавил, толкнул животом – дверь распахнулась, и они очутились в большой комнате, казавшейся тесной из-за скопления народа.
В номер набилось человек двадцать, дым стоял коромыслом. Сидели на кроватях, на тумбочках, на принесенной откуда-то доске, которую положили на стулья. За столом, вернее, за двумя составленными вместе столами, председательствовал человек в очках и тенниске, с большим, пещеристым носом и лысиной, обрамленной остатками эйнштейновской шевелюры. Причем лысина и лоб у него были желтыми, а щеки, нос и подбородок – воспаленно-красными. Рядом с ним сидела Вера Киприяновна, в своем неизменном золотом костюме.
– А мы сейчас свои танцы устроим, – прокричала она пьяным голосом и пролила на себя рюмку с водкой. Рюмки были только у нее и лысого Эйнштейна, остальные пили из стаканов и кружек.
– Вот и наш кормилец! – воскликнул председатель, колоритный баритон принадлежал ему. Володя грохнул кастрюлю посреди стола, и к ней устремился десяток рук, вооруженных вилками, ложками, ножами, а также невооруженных.
– Самыми удачными бывают импровизированные пьянки, – кричал председатель, пытаясь упорядочить раздачу котлет. – Когда заранее готовишься, обычно ничего не выходит, потому что "гормон счастья" расходуется на ожидание…
– Attention, attention!.. – закричал маленький человечек с козлиной бородой, сальными патлами и вытянутой вперед цыплячьей шеей. Он соскочил с тумбочки, на которой сидел, но от этого стал еще меньше. – Завтра на нашем пляже состоится пощечина общественному вкусу! Во сколько, Сева? – Все на мгновение умолкли и посмотрели на кудрявого, остролицего подростка лет сорока. Тот с загадочной улыбкой поднялся, откашлялся и, глядя в свою тарелку, сказал:
– Вечно ты, Максимов, все переврешь! Во-первых, не пощечина, а пинок под яйца…
– Waw! – воскликнула одна из девушек, и все вновь загалдели, раздался смех.
– А потом, не на нашем, а на большом пляже – при стечение, так сказать… – возвысил голос Сева и снова откашлялся.
– Во сколько, Сева? – закричали девушки.
– Это как проснемся, – сказал Сева с полупоклоном и сел.
– За тебя и за твою невесту, Сева, – раздалось сразу несколько голосов.
– Гойко! – картаво гаркнул ражий толстяк, с пышной гривой.
Сева снова поднялся, а вместе с ним девушка, сидевшая рядом. Он обнял ее, и они слились в долгом поцелуе, засунув друг другу языки в рот.
– Waw! – закричали несколько девушек.
Андрей высматривал Борисыча, но так и не увидел его, собрался уже уходить, когда председательствующий помахал ему рукой:
– Идите сюда поближе, я хочу с вами познакомиться. Ваш друг про вас много рассказывал.
– Где он? – спросил Андрей.
– Кажется, там, – указал председатель в угол, где стоял телевизор.
Андрей заглянул и увидел торчащие из-за телевизора знакомые ботинки.
– Я на работе, – сказал Андрей. Он изучал проход, ведущий к Борисычу. Все было заставлено и перегорожено сидящими гостями.
– Сегодня ничего не украдут, – крикнул опять баритон. – Вот и начальник ваш здесь… Скажи ему, Киприяновна.
– Ну-ка… садись! – вытаращила директриса стеклянные глаза.
– Пропустите человека, – приказал председательствующий, и гости начали вставать, отодвигаться.
Андрей протиснулся к Борисычу, и потряс его за плечо. Саня лишь промычал что-то в ответ, он спал за телевизором, подложив чью-то сумку под голову.
– Не трогайте его: видите, как хорошо он устроился – пусть отдыхает. Идите садитесь,– сказал председатель, освобождая рядом с собой стул. – Все равно назад уже не выберетесь.
Андрей оглянулся: проход был снова загорожен. Вдруг его пронизал нежный разряд темно-синих, серьезных глаз: на другом конце стола сидела вытянувшись, как школьница, и не спускала с него взгляда красивая женщина, с пышной гривой черных волос.
– Полчаса посидите – от вас не убудет, – продолжал зазывать бархатистый голос – и Андрей уступил.
– Самуил, – представился сосед.
– Что тут у вас? свадьба? – спросил Андрей, чувствуя себя уже именинником.
– А? – нет, – наклонился к нему Самуил, наливая водки в стакан.
– Я не пью, – крикнул Андрей, приходилось кричать, чтобы быть услышанным.
– Я тоже. Но люблю шумные компании, в нашем возрасте хочется побольше жизни. Может, минералки? – От минеральной воды Андрей не отказался.
– Кто это? – обвел он жестом толпу.
– Пишущая братия, "платиновые перья", финалисты одноименного конкурса, а также редактора газет, каналов – просто журналисты. Собрались здесь на семинар – заодно помолвку Севы и Юлии обмываем.
– Вы тоже журналист? – спросил с преувеличенным интересом Андрей. Он был словно обожжен нежным огнем синих, что-то знающих про него глаз, на которые постоянно теперь натыкался взглядом.
– В каком-то смысле. Хотя больше – скромный служитель циркуля и реторты, здесь оказался как член жюри. Но наш губернатор покровительствует «десятой музе»…
– Я знаю. С ее помощью он задушил все честное в городе, – Андрей посмотрел на Самуила, чтобы затем снова встретиться с проницательным взглядом своей визави.
– Да, борьба была, но не с добросовестным противником, а с такими же – за власть, – проговорил, подумав, Самуил. – Так что честные люди не пострадали.
– Но какими средствами она велась! Одно это развратило тысячи умов и убило последнюю веру в справедливость.
– Были, были перехлесты в пылу схватки, – усмехнулся Самуил, поправляя двумя пальцами очки за углы оправы. – Но здесь нет генералов той чернильной войны: одни рядовые. Разве что вон тот, с поросячьей ряшкой, звезда телеэкрана. Ведет "Политический смыв"… или "слив" – не помню точно.
– Который?
– Вон тот – напротив. Рядом с девушкой, в бордовом платье. Сейчас раскроет рот, и вы его сразу узнаете по поросячьей хрипотце.
– Я не смотрю телевизор, – сказал Андрей, разглядывая соседа прекрасной незнакомки. Это в самом деле был поросенок, в темно-синем спортивном костюме, в белоснежной футболке, с жирными, красными губами, стрижкой "площадка" и заплывшими глазками, которые он масляно заводил на девушку.
– А кто эта девушка? – спросил безразлично Андрей.
– Журналистка из тех, что «грудью широкую, светлую дорогу проложил себе», – или только пытается это сделать. Надо отдать должное, что у нее все для этого есть, только спешит очень…
– Что значит «спешит»?..
– "И жить и чувствовать спешит"…Природа верх берет, поэтому нет решительного успеха… Хотя кто сейчас не спешит?
– А Сева чем занимается? – сменил предмет обсуждения Андрей.
– Рекламой, но гонора, как у Чайльд-Гарольда. А вон тот, толстый, с пышной шевелюрой, известный беллетрист, sex-writer Самков, автор скандального романа "Похождения Вагины". Осужден как порнографический (роман, разумеется), и стал бестселлером у нашей читающей публики. Здесь получил приз за рубрику "Сальности" в "Губернских свежестях": сочиняет исповеди от имени извращенцев и выдает за письма читателей. Сейчас пишет концептуальную прозу, но выходит все то же…
– А зачем вы мне, незнакомому человеку,это рассказываете? – спросил Андрей и посмотрел в упор на Самуила.
– Не знаю… – тот снова взялся за очки. – От вас веет… неиспорченностью: способны еще возмущаться чем-то. Тем более в политике. Я всегда говорил: в армии наше спасение: там не затронутые гниением силы…
– Нет, в другом месте… – успел только произнести Андрей, так как в следующее мгновение из-за стола с грохотом, размахнувшись, отчего чуть не упал, встал белокурый красавец, с голубыми глазами, сейчас осоловелыми, розовыми от множества красных прожилок. Он выпрямился, поднял кружку и протянул ее в сторону невесты.
– Сева, что хочу сказать… – Все решили, что это тост, и тоже взялись за стаканы. – Сева!.. Я твою первую жену петрушил, вторую петрушил – и эту буду петрушить!.. – Он поставил кружку, перешагнул через скамейку и направился к двери – повисла неловкая пауза, невеста опустила глаза, Сева глупо улыбался, – там блондин оглянулся и рявкнул: – А будет четвертая – и четвертую выебу! – И вышел.
– Ну ты Шкворень – мудак! – взвился со своего места Сева и попытался выбраться из-за стола, но его удержали.
– Это уже не в первый раз! – послышался чей-то возмущенный голос. – Не надо его вообще приглашать!
– Что не в первый раз? – съехидничал кто-то.
– Сева, не бери в голову, – успокаивал разбушевавшегося жениха, маленький бородач, тот что объявил о намеченной "пощечине общественному вкусу".
– Ничего страшного, – прокомментировал Самуил. – Завтра они снова будут друзьями, я имею в виду Севу и Шкворня. Иван Шкворень – псевдоним, настоящая фамилия – Швеллер, наш певец застоя. Пишет такую дрянь, что уши вянут, однако имеет успех у женщин, что, в принципе, закономерно. А тот маленький, который Севу утешает, – настоящий скорпион нашей оппозиционной прессы…
– А что, есть такая? – Андрей с интересом рассматривал бородатого карлика.
– Оставили одну газетенку на развод. Оппозиция Ее Величества. Но ему на перо лучше не попадаться: вываляет в грязи – потом не отмоешься. А ведь добрейшая душа, мухи не обидит, пока чернильница от него далеко. И, знаете, губернатор к его критике прислушивается: не один уже нерадивый руководитель поплатился…
– Он-то мне и нужен, – сказал Андрей. – Как бы с ним переговорить?
– Ничего проще… Макс! – крикнул председатель через стол, – можно тебя на минутку. Вот человек хочет с тобой познакомиться.
Макс с готовностью кивнул и со своим стаканом стал пробираться к ним, был он уже порядочно пьян, как впрочем, и все здесь.
– Макс, у моего друга к тебе дело. Выслушай его и по возможности помоги, а я вас покину не надолго. – И Самуил пошел тем же путем, что Макс, только в обратном направлении.
– Может, выйдем… на балкон, покурим? – предложил скорпион с пьяной заминкой и улыбкой. Они вышли в черноту летней ночи: оказывается, еще были чистый воздух и прохлада на свете. Над угольным, слоистым плато сосен, словно на дне перевернутой темно-синей чаши сияла фосфорная пыль.
– Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением… и тэдэ и тэпэ – наполняют меня звездное небо над головой и еще какая-то хренотень внутри нас… – проговорил, раскачиваясь взад-вперед с сигаретой во рту, Макс. – Ну-с, так чем могу?
Андрей забрал у него спички, так как у скорпиона они тут же гасли. Зажженную спичку пришлось держать на уровне груди.
– У меня есть для вас материал, – сказал Андрей. – Это ─ настоящая сенсация. Ее сразу перепечатает вся центральная пресса.
– Знаем мы ваши сенсации!.. – проговорил Макс и пьяно-игриво помахал сигаретой. – Да-да, я вас слушаю, извините. – Он снова взял себя в руки и сосредоточился.
– Здесь километрах в тридцати есть деревня… вернее, была… Там жили старухи… – И Андрей, как мог, рассказал историю села Тишкино. Начал повествование о сгоревшей старухе, но тут Макс перебил его:
– А чей это район? кто глава?
– Чехов Антон Павлович.
– А знаю: паскуда препорядочная. Можно с той вашей старушенцией побеседовать?
– Дело в том, что она погибла в огне, деревня прошлой ночью сгорела.
– Так деревня сгорела? – спросил Макс, как показалось Андрею, с облегчением. – О чем же тогда писать? Кто нам поверит?
– Я свидетель. Еще один есть, он, правда, сейчас спит.
– Там? – Макс показал на угол, где стоял телевизор. – Это – да!.. Если учесть, что он тут городил час назад: будто он махатма всея Сибири и вы едете уничтожить зло мира. У вас есть собственность: квартира, дача, машина?.. – спросил Макс, трогая пуговицу на груди у собеседника.
– Квартира есть, – с недоумением ответил Андрей.
– Так вот, не будет. Когда Чехов на вас в суд за клевету подаст – а он обязательно подаст и выиграет. – Макс несколько раз назидательно ткнул собеседника в пуговицу. – Даже если бы у вас были неопровержимые доказательства, все равно выиграл бы. А их у вас нет…
– Почему нет? А деревня? Можно поехать посмотреть…
– На что посмотреть? На головешки? – спросил Макс у пуговицы.
– Да… На останки?
– Нет, увольте. Это работа для криминалистов. Вы в милицию обратитесь. Кстати, там могут заинтересоваться, почему деревня сгорела сразу после вашего отъезда. Шутка! Знаете ли, дорогой мой… – Макс погрозил пуговице, а затем доверительно взялся за нее двумя пальцами. – Вы лучше про это никому не рассказывайте… Не потому что опасно… Просто… как бы сказать… несерьезно. Извините, ради бога. Да и неинтересно никому, я говорю с полной ответственностью как профессионал. Вот если бы старушек изнасиловали и съели… И было бы их не пять, а двадцать пять, ну, на худой конец, десять, – тогда был бы шанс расшевелить общественное воображение. Оно, знаете ли, этого всего объелось – ему хочется жареного, а не горелого. А этого добра – хоть лопатой греби…
– О чем вы тут шепчетесь? – спросил мелодичный голос – у Андрея в сердце задрожала в унисон струна: в ночном воздухе повеяло разгоряченным телом и духами. Он оглянулся: в проеме двери стоял полуосвещенный силуэт с пышной гривой. Это была она – и она сказала: – Макс, познакомь меня с человеком.
– М-м… – задумался Макс, подперев пальцем лоб.
– Андрей, – подсказал Андрей.
– Ах, да!.. Зоя, – представил девушку "скорпион".
Она протянула сигарету, и Андрей чиркнул спичкой, но ветер задул огонь. Тогда Зоя бесцеремонно, обхватив горячей, маленькой рукой его руку, забрала коробок и прикурила сама.
Макс, видимо, решил воспользоваться моментом, чтобы уйти.
– Вы не обиделись? – спросил он уже у самого хозяина пуговицы и взял Андрея за локоть, продвигаясь боком к двери. – Не обижайтесь, пожалуйста: такова селява…
– Да нет, все нормально, – успокоил его Андрей.
– Почему вы должны обижаться на него? – спросила Зоя, когда Макс выскользнул с балкона.
– Не знаю, – сказал Андрей, улыбаясь в темноте. – Честное слово! – Весь вечер он предчувствовал эту встречу и почти не удивился, когда она произошла, – просто ему вдруг стало легко и смешно. Он слышал, как благоухает и пылает ее лицо, так оно было близко от него. И был уверен только в одном, что все уже предрешено, и он не в силах что-либо изменить.
– Я предложил ему написать кое о чем – он отказался, вот и все, – решил объяснить Андрей, боясь показаться скрытным.
– О встрече на дороге? – спросила Зоя, и Андрей понял, что она улыбается в темноте. Они держались за перила и смотрели вниз. Ее длинные пальцы вспыхивали в буром отсвете сигареты.
– О какой встрече?.. – пробубнил Андрей и почувствовал, что краснеет, – еще мелькнула мысль: хорошо, в темноте не видно. – Он? – указал Андрей через плечо за телевизор.
– Да, – сказала она, и в этом "да" послышался смех.
– Какой ужас… – сказал Андрей, – несмотря на смущение, ему казалось: у него внутри все светится от удовольствия. – И что же он тут рассказывал?
– Что вы едете к какому-то отшельнику где-то в тайге, что в монастыре юродивый вас объявил – страшно сказать… – Ее голос взмыл на едва сдерживаемом смехе. – Чуть ли не мессией… И что вас преследует сам Князь Мира Сего…
– Бред какой!..
– Ну почему… А знаете, кого вы встретили? – сказала она вдруг серьезно. – Это самая загадочная личность в городе: если он и не Князь Тьмы, то, в любом случае, с ним не все чисто…
– Кто же он? – спросил Андрей, забыв на миг смущение и свою растворенность в ее чарах.
– О, этого никто не знает. – Она затушила окурок о перила и стала искать, куда бы его пристроить. Андрей забрал и бросил в банку, служившую здесь пепельницей. – Спасибо… Фамилия его – Михайлов, он возглавляет неизвестную до недавнего времени финансово-промышленную группу, которая в одночасье скупила несколько гигантов нефтехимии. Не обошлось без таинственных смертей, но это дело третье. Хотя стрельбы не было, все умерли как бы сами собой, но именно те, кто мешал его восхождению. Объявился он у нас в городе полгода назад и сразу прослыл филантропом и меценатом. Этот семинар, кстати, тоже проводится на его деньги, и мы тут едим и пьем, в общем-то, за его счет. Но если другие фирмачи стараются всячески выпятить свою общественную полезность, то этот держится в тени: ни в презентациях, ни в каких мероприятиях не участвует. Журналистов к нему на выстрел не подпускают. И, вообще, лишь недавно стало известно, что это он помог городу купить машины для милиции, отремонтировал изолятор временного содержания, дал деньги на реконструкцию развлекательного центра, основал несколько премий… Короче, ни дать ни взять – Лоренцо Медичи наших дней.
Андрей задумался, вдруг он поднял лицо, словно ему в голову пришла неожиданная идея.
– Вы ведь тоже работаете в газете? – спросил Андрей. – Может, вас заинтересует одна тема?.. – И он коротко, без шокирующих подробностей, рассказал о деревне Тишкино.
– Кошмар какой! – ужаснулась Зоя. – Нет, если Макс не берется, значит, дело дохлое: расследования – его конек. Он – гений. И к тому же мой начальник, я все равно не могу через голову прыгнуть…
В это время на балкон вышло сразу несколько человек, и Зоя предложила пойти погулять.
– Да, совсем забыл: я же на работе – как раз сейчас я должен гулять, – сказал Андрей.
Они вернулись в комнату и по освободившемуся проходу двинулись к двери. Андрей хотел отвести Борисыча в номер, но Самуил показал на Веру Киприяновну, спавшую заскорузлыми пятками к честной компании, и сказал:
– Начальство здесь: оно его поднимет – если, конечно, само проснется.
Они шли по асфальтовой дорожке. От здания тянуло теплом, как от остывающей печки, но только отдалились под сень сосен, там пробежала прохладная струя. Бор казался черной пещерой. Андрей включил фонарик – на них стали надвигаться сталагниты сосен.
– Ты давно знаешь… Ой!.. А давай на "ты", oкей? – так просто удобнее, – предложила она, и Андрей с готовностью согласился. – Ты давно знаешь Светозара?
– Кого?
– Значит, недавно. Ну, с кем вы сегодня рядом сидели… То есть ты сидел. Для близких знакомых он – Светозар.
– Лысый, в очках?!
– Да, – В ее голосе опять послышался смех. – Ты только не смейся: он ведет в городе семинар, и там все называют его Светозаром Светлооким… – и тут она прыснула. – Ничего смешного… – приструнила, по-видимому, саму себя.
– Нет, конечно, – подтвердил Андрей.
– Так во́т!.. Все в его кружке обязаны выбрать себе новые имена, чтобы в них присутствовал элемент, связанный с чем-нибудь светлым, со светом. Понимаешь? И ты, если вдруг станешь туда ходить, должен будешь называться как-нибудь вроде… – Она подняла к небу лицо и взяла его под руку. – (Можно?) Как-нибудь – так, например… Человек Звезды… Но все называют его за глаза Светофором, за цвет лица.
– Что за бред. И чем они занимаются в своем семинаре? – Асфальт уже кончился, и они шагали по усыпанной шишками дорожке. Зоя повисла на его руке, так как ее каблуки то и дело подворачивались на шишках и корнях. Андрею приятно было ощущать ее тяжесть и сознавать, что она чувствует его силу.
– А-а тем… – протянула она, – что разрабатывают философские про́блемсы. Участвовать может любой желающий: бизнесмены, преподы, студенты, человек с улицы, – кто угодно. Но если ты три дня подряд не раскрываешь рта, то – bye-bye! – с тобой прощаются. Злые языки говорят, что Светозар таким образом пишет научные труды: набрал группу башковитых мымриков и кропает себе помаленьку. Мол, так он и докторскую накропал. А те рады бесплатно поговорить, а он их чаем поит, да бутербродами кормит! Ходят слухи, у него спонсор какой-то есть, только он никому не рассказывает. А вообще, они там самые разные проблемы решают: от самых общих – в чем, например, «смысл жизни», – до каких-нибудь специальных – «как повысить предсказуемость рынка, ну… скажем, свежемороженой самсы».
– И как же люди с улицы решают такие проблемы?
– А-а оченно просто, – заглянула она в его глаза своими огромными темными зрачками. – Каждый несет все, что ему в голову взбредет, это пишется на диктофон, а потом от зерен отделяются плевелы. Методом мозговой атаки.
– О смысле жизни – методом мозговой атаки! Ну и что, нашли они, в чем смысл жизни?
– А может, как раз найдут – если обычным способом не могут! Может быть как-нибудь так и найдут… Вот и мой корпус. Пока… – И она, коротко приникнув и прижав его руку, вдруг побежала вверх по ступенькам.
Еще оглянулась в свете фонаря над входом, улыбнулась, помахала пальчиками и скрылась за дверью. Не погасло сияние в груди, но источник света исчез. У Андрея не сошла еще глупая улыбка, вызванная неожиданным расставанием и растерянностью, как он почувствовал досаду. "Стреляная птица", – подумал раздраженно Андрей. И тут же наплыли мысли о завтрашнем дне: как он ее встретит, и что будет говорить и т.д. и т.п. И после каждого наката – сладкое замирание, а потом тянущая, тоже приятная тоска отлива. Вдруг он поймал себя на том, что не может вспомнить ее лицо. «Что это значит? – думал Андрей. ─ Полчаса назад расстались, а лица не помню. Помню, что красивая, что глаза синие, что губы ярко накрашены, что платье бордовое, – а все вместе представить не могу. И, несмотря на это, все замирает внутри при одной мысли о ней, как будто мне опять шестнадцать. В чем причина? А просто лицо не важно, ─ главное, зверь узнал зверя, вернее, самое себя и хочет слиться в одно: соединяться без конца, чтобы продолжаться»…
Через минуту, невзирая на злые мысли, он снова пытался вспомнить лицо Зои и снова думал, что будет и как, и что должно произойти между ними. И снова голова, горло, все его существо было охвачено каким-то нервным томлением, и чем дальше, тем томление становилось навязчивее и мучительнее. Мысли начинали топтаться на одном месте, превращаясь в наваждение, от которого невозможно было отделаться…
Борисыч проснулся от рези в переполненном пузыре и сухости во рту. Он стал искать край кровати, чтобы встать, но кровать никак не кончалась. Тогда он решил, что спит в кузове своего грузовика, хотел схватиться за борт, но борт оказался таким же бесконечным, как и кровать. Открыл глаза: тьма была кромешная – будто и не открывал. "Где я?" – попробовал вспомнить Борисыч, но и это оказалось непросто: еще одна стена выросла между ним и его памятью. Она была податливая, вязкая – он тыкался в нее, утопал, но проникнуть к чему-либо предметному, скрывающемуся за ней, не мог. Попытался вспомнить, с кем пил сегодня, и по этому определить свое местонахождение, но и лица ускользали от плывущего в бурый мрак сознания. Начал вставать – все закачалось и перевернулось: перестали существовать даже низ и верх. Остались только сухость, резь и еще неукротимые, темные силы, стремившиеся вон из желудка, которые ему удалось подавить, задержав дыхание и часто сглатывая. "А может, я того… с перепою ласты склеил? – подумал Саня. – Почему тогда так хреново? Нет, все-таки, наверно, я еще в сансаре. Надо попробовать встать. Пивка бы…" Вставая, он наткнулся на тумбочку, запутался в проводах и понял, что спит у кого-то в гостях за телевизором.
Когда он наконец выполз и распрямился, держась за стену, то увидел в лунном луче, пробивавшемся сквозь щель в шторах, волшебное зрелище: большую русалку. Ее чешуя в призрачном свете мерцала серебром, лишь отдельные блестки отливали золотом, светлые волосы были рассыпаны по подушке, она похрапывала, лежа на спине. Также его взору предстали остатки недавнего пиршества. Саня сразу все вспомнил: и с кем пил и что у него ничего не получилось с поварихой, так как он быстро набрался… Ему вдруг стало жалко упущенной возможности. Вспомнил, что директриса тоже показалась ничего и что еще подумал, какие сможет извлечь выгоды из романа с ней… Все эти мысли пришли не одна за другой, а всплыли на туманном горизонте, как мишени в тире. "Ах ты, рыбка золотая!.." – прошептал он по дороге в туалет. На обратном пути Борисыч задержался у стола, допил чей-то стакан с водкой – и тут же понял, что совершил роковую ошибку. Однако не отказался от своего намерения завоевать сердце директрисы. На кроватях вповалку спали какие-то люди. Борисыч подавил тошноту, осмотрелся: сон их был крепок, – и наклонился над русалкой. Вдруг побежденные силы разом устремились наружу. Он схватился одной рукой за спинку, другой – за край кровати, а они все неслись и неслись, покидая его тело. Перед каждым извержением желудок сжимался почти до точки, следом раздувало горло, виски и все лицо, – казалось, оно вот-вот лопнет: безудержные силы вылетали вон. "Когда буду умирать, – подумал с тоской Борисыч, – будет, наверно, так же". Слезы лились ручьем. Замычала и сладко заворочалась под теплым душем Вера Киприяновна.
Наконец отбушевал последний спазм, и он обессилевший, но счастливый, даже не взглянув на предмет любви, спешно ретировался в свой угол. Лег и стал думать: сразу ему уйти или дождаться утра… А что если кто-нибудь из спящих в комнате видел, как он склонялся на директрисой?.. Он прислушался: было тихо, только по-прежнему мирно похрапывала Киприяновна. Так и не решив, что делать, Борисыч неожиданно для себя заснул.
Глава девятая
Андрей лег только утром и проспал до обеда. Сквозь сон он слышал, как вернулся Борисыч, как сел на кровать, как тяжело вздыхал и отдувался, собираясь, очевидно, с силами, чтобы подняться и ехать в город. Наконец, встал и, пробормотав что-то, вышел.
Проснулся он с затуманенной головой, но полный радостных ожиданий, и сразу почувствовал острую необходимость увидеть ее.
Зою он встретил возле столовой. Она остановилась в тени сосен и, сощурившись, с улыбкой ждала, когда же он подойдет. На ней был пляжный халат, очки в волосах, в руках яркий пакет, – по-видимому, после обеда она собиралась на пляж. Совершенной формы ступни – более бледные, чем стройные, полные ноги, – были перехвачены ремнями изящных босоножек – каждый палец сиял девственной чистотой, – на щиколотке золотая цепочка, руки унизаны браслетами со стразами и подвесками. Прорывающаяся сиянием улыбка; синие, нежные глаза и те мягкие, припухлые черты вытянутого лица, от которых веет детской негой, – все в ней казалось ему ослепительным. Только сейчас он заметил, что у нее крупные, мясистые уши, их она прячет под волосами и поэтому не носит сережки.
– Приходи на большой пляж, – сказала она, продолжая щуриться, несмотря на то, что Андрей был уже рядом.
– Где это? – не в силах сдержать улыбку спросил он. Зоя объяснила, глядя прямо в глаза.
Это был тот самый пляж, на котором они завтракали с Борисычем. Зою он заметил сразу – в стороне от остальной публики, она приподнялась и помахала рукой. Андрей видел, что она рассматривает его поверх очков, пока он шел без рубашки, загребая шлепанцами песок, и это было ему не неприятно.
– Тебе хватит загорать, – сказал он, не в силах подавить глупую улыбку, растягивающую губы.
– А что тут еще делать? – сказала она, потягиваясь, как разнеженный ребенок,– с тоски помереть можно.
Лицо порозовело на солнце, глаза казались подслеповатыми. Ее лоснящееся, гибкое тело, подернутое рыхлым жирком, при каждом движении собиралось в чувственные складки на боках и бедрах. Она перевернулась на спину – полная, белая грудь выдавилась сбоку, видны были голубые прожилки. Андрей почувствовал влечение и поспешил лечь на живот. Прожилки вблизи вызывали отвращение.
– Двигайся на коврик, – потеснилась она – теперь его плечо и бедро касались горячих ее плеча и бедра. Он думал только об одном: как бы не пришлось вставать, потому что тогда его намерения смогут прочитать даже загоравшие вдали "платиновые перья".
– Чем ты вообще по жизни занимаешься? – спросила Зоя, приподняв голову, чтобы разглядеть его.
– В данный момент я сторож. Вообще занимаюсь бизнесом. А если быть еще точнее, то я пенсионер. – Андрей положил щеку на локоть и смотрел сквозь дымчатые стекла ей в глаза.
– Такой старый! – хохотнула Зоя.
– Иногда мне кажется, что мне лет шестьсот.
– В таком случае ты должен был видеть Куликовскую битву.
– Нет, тогда я был еще маленький… – "Странно, – думал Андрей. – Участвовать в этой игре, понимать, что это такое, и не иметь желания прекратить ее. Слишком уже много сказано, и не только словами, – слишком было бы глупо… И словно ты разбиваешь чьи-то ожидания… Не ее, не свои даже, а каких-то людей в тебе…" Вдруг он заметил, что Зоя смотрит мимо него вдаль. Он обернулся: среди пляжников царил переполох.
– Вот дураки, – сказала Зоя, приподняв очки и приложив козырьком руку к глазам. Тут и Андрей разглядел, что гонявшиеся друг за другом по кромке воды Сева и Юлия были абсолютно голыми. Они что-то кричали петушиными голосами, окатывали друг друга фонтанами брызг, и лихорадочно хохотали.
– Это, очевидно, и есть обещанный "пинок общественному вкусу", – усмехнулся Андрей.
– Сева в своем репертуаре, – проговорила Зоя, не спуская напряженного взгляда с жениха и невесты.
– Жалко Швеллера здесь нет, – сострил Андрей и понял, что сказал какую-то бестактность: Зоя сухо поджала губы.
– Нет, Севка, – конечно, идиот, – сказала она немного погодя, – но он гений.
Бо́льшая часть курортников приподнялась на ковриках и рассматривала нагую парочку. Две или три мамаши с детьми, уперев руки в многоэтажные бока, сверлили их с негодованием. Переполох совсем не коснулся "платиновых перьев": они, как сидели, потягивая пиво, так и продолжали пить, курить, спорить о чем-то, игнорируя нудистов. Один писатель-вагинист встал во весь рост, выкатив огромное, голубовато-белое брюхо, и с масленой улыбкой склонил пышную шевелюру к плечу, – очевидно, запоминал детали для будущего романа.
Деревенские мальчишки оставили свои игры, начали скакать вокруг резвящейся парочки. Влюбленные сразу остыли, подбежали к зеленому покрывалу, разостланному на песке, легли на живот. Было видно, как Сева что-то втолковывал усевшимся вокруг пацанам, те внимательно слушали, переспрашивали. Двое расположились в ногах и старались заглянуть под полотенце, которым девушка прикрыла зад.
Наконец Сева с невестой встали и направились к реке, пацаны не отставали от них ни на шаг. Нареченные бросились с разбегу в воду, сорванцы – за ними. Там маленькие негодяи неожиданно стали нырять и щипать девушку под водой. Она сначала пыталась отбиться сама, но когда те одновременно напали со всех сторон, невеста отчаянно завизжала. Сева бросился ей на выручку. Он расталкивал хулиганов, брызгал на них водой, рычал, кружась как зверь, пока девушка не выбралась на берег. На суше мальчишки приблизиться к ним не решились. Парочка вернулась к своим вещам, пацаны следовали за ней на почтительном расстоянии и расселись поодаль. Однако увидели, что Сева с невестой одеваются, сорвались и с криками побежали, выделывая своими худыми, загорелыми до черноты телами немыслимые кульбиты.
Зоя села, достала пластиковую бутылку и, набрав воды в ладонь, начала растирать руки и ноги, а также грудь, залезая под купальник. Протянула бутылку Андрею, но тот сказал, что пойдет искупается. После зрелища нудистов он сразу как-то остыл и не опасался уже встать во весь рост.
– Не боишься подцепить что-нибудь? – посмотрела она на него снизу вверх. – Купание запретили.
– Зараза к заразе не пристает, – сказал Андрей и почувствовал, что опять сморозил что-то не то.
"Ну и ладно…" – подумал он и нырнул с разбега в теплую воду. Неприятный озноб охватил подгоревшую кожу. "Надо будет в тень перейти", – решил Андрей. Течение снесло его к другой оконечности пляжа. Возвращаться пришлось мимо "перьев". Сева с невестой уже поднимались по береговому уступу.
– Идите к нам, – закричал ему Самуил, – у нас тут весело.
– Нет, спасибо, – крикнул Андрей, – там спокойнее.
– Ну, заходите вечером, номер вы знаете.
– Спасибо за приглашение.
– О чем тебя Светозар спрашивал? – поинтересовалась Зоя, глядя, как он отжимает волосы и скачет с пальцем в ухе.
– В гости звал, – ответил Андрей, прыгая то на одной, то на другой ноге.
– Пойдешь?
– Не знаю… Что там делать?
– Ну-у… Он гений, каких мало! – сказала Зоя, смеясь над собственной категоричностью.
– Тебя послушаешь, так их наоборот много, – сказал Андрей, лег рядом и почувствовал, как она отодвинулась от него.
– Но этот настоящий! – воскликнула Зоя с улыбкой. – Генератор идей!
– Ты же говоришь, он крадет идеи у других.
– Ну не все, у него и своих хоть отбавляй… Например, он преодолел… Как его? – дуализм квантовой механики. Сейчас работает над созданием новой монической картины мира, – вернее, их целая плеяда: физики, математики, работают, а он подводит философское обоснование. Сэм объяснял мне: что она перевернет мир!..
– Что? Картина перевернет – мир?
– Да… Только ты не смейся! – стукнула она его кулачком по плечу. – Он мне тоже это объяснял. Короче… Они приняли за неизвестное время и пространство … Вот…
– Как приняли?
– Как-как! – представили, будто не знают, что это такое.
– То есть для них время и пространство что-то такое несомненное, само собой разумеющееся, что мешают своей очевидностью… – проговорил, обдумывая услышанное, Андрей.
– Ну, почему! Я просто не помню… – надула она капризно губки. – Потом, он объяснял, по какой причине машина времени возможна, но я уже забыла… А сейчас он занимается ландшафтами.
– Как занимается? лес сажает? – Они снова касались друг друга плечом и ногами, и снова начался этот счастливый прилив к сердцу и внизу живота.
– Нет, конечно! Что – какой ландшафт значит. Сигни… сигнификативные связи изучает.
– Ну и что, например, этот ландшафт означает? – Андрей показал на противоположный берег, заваленный бревнами. Он сам заслушался, каким бархатным и вкрадчивым стал у него голос.– Кроме хищной безалаберности.
– Вот ты сам и сказал, что он означает. Светозар культурными ландшафтами занимается…
Андрей смотрел на ее разомлевший на солнце рот – была еще секунда колебаний, – и вдруг припал к нему губами, не дав закончить фразу. Рот тут же раскрылся, словно только того и ждал. Мягкий, горячий, липкий он не отпускал его губ, и сразу ее язык оказался во рту Андрея. Он обнял ее, но Зоя сама прижалась к нему, выгнув спину. Запустил руку ей сзади в трусы и подумал: ну вот и все, что требовалось доказать… Однако в ту же минуту понял: теперь не только встать, но даже на живот перевернуться будет невозможно. Ее рука тоже оказалась в его плавках и она, не отрывая губ, воскликнула:
– Wоw!.. – И тут же еще теснее прильнула к нему, а ее язык стал шарить у него во рту еще энергичнее.
– Нет… – Осторожно, но настойчиво отстранился Андрей. – Так нельзя… Сейчас зрителей соберем, – сказал он прерывающимся голосом.
– Ну и что? – придвинулась Зоя, лукаво улыбаясь и прикусив раскрасневшиеся губы.
– Это будет даже не пинок "общественному вкусу", а… а… – проговорил Андрей, с каждым "а" отодвигаясь от нее на столько, на сколько она приближалась к нему. – Подарок… Не пора ли домой… а то… обгорим… совсем?..
Всю дорогу до пансионата сначала по ивовому лесу, потом по бору, они целовались. Он прижимал ее к деревьям, и она, обхватывая его ногами, шептала:
– Ну, что ты делаешь! Только не здесь… – Ничего запретного уже не было между ними. Кроме ушей ─ Андрей боялся даже взглянуть на них. "Если бы я был моложе, одного их вида было бы достаточно, чтобы ничего не было", – думал он в странные минуты глубокого равнодушия посреди страсти.
Зоя привела его к себе в номер и отправила в душ, в котором не оказалось горячей воды. Минут пятнадцать Андрей ждал ее из ванной. Он заскучал, подумал, что надо было овладеть ею еще в лесу.
Потом она сидела у него на коленях, и Андрей целовал ее большие, холодные, пресные груди, не понимая, зачем он это делает, словно подчинялся какому-то долгу. "Может, просто я в зоне отвык от женской ласки?" – спрашивал себя Андрей.
Она часто вздыхала и ерошила его волосы, достала из тумбочки презерватив. Затем они никак не могли улечься на узкой кровати, и ему было то стыдно, то смешно, а Зоя быстро-быстро моргала и краснела. Его поразила механистичность происходящего. (У Андрея случился очередной "припадок": он стал видеть все в необычном свете.) Словно они были автоматы, со странными устройствами, забавными и уродливыми, для нелепых действий. Или чьи-то похабные игрушки. Он ощущал себя отдельным от своего тела, не было даже приятно. Ему вдруг стало все безразлично: и то как он ласкал ее холодную, точно студень, плоть, и то как она упиралась своими пятками в подъем его ступней – и зачем-то взяла в рот его палец… И еще: этот чужой, словно существа другой породы, запах на его коже…
Зоя стала по-детски, с капризными нотками, будто в порыве страсти, произносить скороговоркой: ну-ну-ну-ну… Андрей почувствовал, как возвращается желание. Была между ними минута нежности… Вдруг Зоя задрожала, передергивая, словно в ознобе, плечами, ее "ну-ну" слилось в один ноющий стон. Андрей решил, что пора, – и все потонуло в сладком забытьи, когда уже неважно – где, с кем и как.
– Что это было – оргазм? – спросил Андрей, едва буря утихла.
– А ты что думал? – сказала Зоя, вытирая слезы и поворачиваясь к нему.
– Сильная вещь… – Андрей снял резинку, завязал и кинул под кровать.
– Дурак, – стукнула она в плечо кулачком и приникла к его груди.
Наступило отрезвление, граничащее с отвращением, было даже мгновение, когда Андрей хотел встать и уйти. "Какие у нее уши! Это же уму не постижимо – какие уши!"
– Нам надо еще привыкнуть друг к другу, – сказала Зоя виновато и жалостливо, как маленькая девочка. "Ну нет, привыкать мы не будем, это однозначно! – закричал мысленно Андрей. – Почему до того как женское тело кажется гибким, безупречным, а после того как – неуклюжим, бесформенным? Остались только отвислый живот, разные груди, короткие ноги…" – думал Андрей, заставляя себя гладить ее вдоль желобка на спине. Однако прошло совсем немного времени, когда она снова показалась ему прекрасной.
Уже не такой сильный, но нежно-острый порыв сменился глубокой апатией. Наваждение рассыпалось, не оставив даже следа от желания, что еще полчаса назад заполняло его всего и вело к единственной цели. В сердце снова выросла и заслонила все остальное та безумная идея, ради которой он покинул город. Вспыхнуло страстное нетерпение: всякое промедление казалось смерти подобным. Их поездка представлялась ему теперь чуть ли не главным делом жизни. "Вот минута истины, – думал Андрей. – Минута чистого разума, когда он только и бывает свободен от Его власти…"
Вечером он должен был гулять с ней под руку. Зоя склонила ему на плечо голову и сказала:
– Странно, по гороскопу мы совершенно не подходим друг другу: ты "лев", а я "рыбка". Но чувствую себя с тобой так спокойно, как если бы ты был "рак".
Андрей только отплевывался про себя: «Вот старый дурак! Нашел дуру…» Ему удалось отделаться от нее под предлогом, что надо зайти переодеться на дежурство.
В номере он столкнулся с Борисычем, которого не видел со вчерашнего вечера. Тот был чем-то озабочен, рылся у себя в сумке, ни разу не взглянул на Андрея.
– Что там с их машиной, не починили еще, нет? – спросил Андрей.
– Не знаю, – сказал Борисыч, задумавшись над раскрытой сумкой.
– Потерял что?
– Да нет… – Саня направился к двери, там обернулся и добавил: – Вовчик сказал: завтра сделают.
– Так давай завтра и двинем. – Андрей сидел на своей кровати, уперев локти в колени. Саня взялся за дверь.
– В первой половине надо будет еще в город съездить… Посмотрим. – И он вышел из номера.
На следующий день после обеда Андрей, чтобы не встречаться с Зоей (всю ночь она провела у него в сторожке), отправился бродить по бору. Ноги сами несли в сторону пионерского лагеря. По дороге он встретил группу туристов с рюкзаками, палатками и закопченными котелками. Загорелые, потные, в солдатских панамах, смеясь и выясняя, кто ночью наступил в уху, они прошли мимо, не заметив его. От них веяло бодростью и каким-то кочевым задором. Андрей почувствовал одиночество, вызванное зрелищем чужого братства. Он подумал, что нигде и никогда, кроме раннего детства, не был так счастлив, как на войне. Он словно вновь пережил это единение и радость сознания единения…
Бравада при погрузке на борт сменилась страхом в полутемном брюхе ревущего транспортника. Только над головой радиста светились разноцветные лампочки. Было холодно. Солдаты лежали вповалку на полу, кто-то втихую курил, а он, желторотый старлей, сидел на ящике с оружием и думал о смерти. Он смотрел на бочкообразный корпус, заполненный молодой, упругой плотью и видел, как столб огня вспарывает пол, – и в следующую секунду все объято пламенем… А может, ракета разорвется как раз под ним, тогда он ничего не почувствует, или попадет в крыло, и смерть будет мгновенной. Это могло случиться в любую секунду – даже в следующую секунду: вот он только что подумал об этом – и оно случилось… Или так: вот он думает о смерти – а успеет ли додумать до конца? Вот еще раз успел… А сейчас?.. И так далее. Это было как наваждение, он ждал взрыва каждое мгновение: вот нет еще ─ еще жив… А вот сейчас?.. И прогнать эти мысли не мог: они завладели всем его существом – и думать о другом не получалось. Все силы были направлены на то, чтобы не выдать своей страх. Впоследствии под пулеметным огнем ему не было так жутко, как тогда при одной мысли об опасности. Может, просто некогда было бояться: он думал о других, о том, как лучше выполнить приказ, – наоборот бывало даже весело. Такого тягучего ужаса, как в брюхе самолета не было уже никогда. Там они были заперты, как те быки, которые высовывали мокрые морды между горбылей, с той разницей, что быки не знали, что их везут на бойню, а у него даже возможности выглянуть на свет не было. Вдруг самолет резко пошел на посадку – сердце ёкнуло: неужели, всё… "Илюшин" наклонился почти вертикально – и солдаты посыпались вперед, хватаясь друг за друга…
Самолет еще не остановился, а рампа уже открылась, в глаза ударило белое, как горящий магний, чужое солнце, стал спускаться трап. Сзади наезжал другой транспортник, и кто-то крикнул: «Сейчас поцелует!» Солдаты без приказа начали спрыгивать вниз, раздался смех – это была одна из счастливейших минут в его жизни. Он поднял покатившуюся по бетонке каску, протянул ее растерянному солдатику с русой, неровно остриженной головой на тонкой шее, и тот не по-военному сказал: «Спасибо». И это тоже было хорошо. Потом их везли на грузовиках в расположение полка, он сидел в кузове с рядовыми. Его охватила нежность, почти отцовская, к этим ребятам, чуть младше самого Андрея. Нет, думал он, рядом с ними и умереть не жалко, и слезы наворачивались ему на глаза. Через несколько месяцев под минометным обстрелом Андрей пробегал, пригибаясь за дувалом, и опять наткнулся на того солдатика. Он лежал в грязи из собственной крови. Взрывом ему оторвало ногу и распороло живот. Умирающий старался приподнять, как перевернутая черепаха, голову в той самой каске, сжимал рукой опутавшие его грязными веревками кишки. Андрея тогда поразило усталое, запыленное лицо, которое ничего не выражало кроме сосредоточенности смерти. Пока он лихорадочно доставал шприц с промедолом, солдат умер от потери крови. Разорванная, расчлененная плоть во всех видах в действительности не так страшна, как в кино или в воображении, но лицо… оно и сейчас стояло у него перед глазами. "И что получается: сначала, в детстве, Он обольщает нас жизнью, а затем – смертью, внушая гордость, мужество, любовь к войне. Не я один – все вспоминают войну, как лучшее время в жизни. (Кроме тех, конечно, кому оторвало голову или ноги.) Значит, жизнь создана для смерти, война – для жизни, а смерть – для войны. Вот почему столько пьяниц, психов, самоубийц и убийц – потому что нет войны. Все несчастливы, жалуются на жизнь, говорят лишь бы не было войны, но счастливы только во время бойни".
Захваченный этими мыслями, он не заметил, как подошел к брошенному лагерю. Миновал заколоченный корпус, столовую, повернул в сторону аллеи – и опять тот человек сидел на том же месте. Поджав под себя ногу, он склонился над большой книгой и вертел карандашом в ухе. Первым движением нашего героя было повернуться и незаметно уйти, но незнакомец поднял сердитый, отрешенный взгляд, и Андрей машинально кивнул ему.
Тот тоже кивнул в ответ, вынул карандаш и спросил: не найдется ли у него закурить.
– А то закончились, не хочется возвращаться, – показал он пустую пачку, лежавшую на перилах и, повертев ее в задумчивых пальцах, небрежно выронил на землю.
Андрей сказал, что не курит, но вдруг нащупал в кармане забытые Зоей сигареты.
Вблизи человек состарился еще лет на десять. Был он желтолиц, сухая кожа вокруг глаз, рта и ушей была покрыта мелкими морщинками. В повадках его было что-то от маленькой обезьянки: такие же быстрые движения, замиравшие на полпути в секундной задумчивости, которая тут же переходила в какое-то грустное фиглярство. Херувим, похожий на обезьянку, или обезьянка, похожая на херувима…
– Я уже второй раз тебя вижу. Ты, наверно, тоже тут отдыхал? – спросил он, закрывая книгу, из которой торчало множество закладок. Он еще раз коснулся ее кончиками пальцев сначала неосознанно, а потом – наигранно, словно нажимая невидимые клавиши.
– Да… после первого класса.
– В каком году? – Держа сигарету огоньком вниз большим и указательным, он шевелил и стряхивал нагоревший пепел безымянным пальцем.
Андрей назвал год.
– Я в том же году, но тебя не помню.
– Ну… столько времени прошло… – сказал Андрей.
– Н-да, – произнес незнакомец неопределенно. Глядел он то на сигарету, то вдаль, то на книгу, притрагиваясь пальцами к перилам, колену и лбу, и начинал тут же нажимать клавиши.
– Что за книга? – спросил Андрей первое, что пришло в голову. – Давно не видел человека с книгой.
– А… Пушкин, – сказал тот небрежно.
– Кто? – переспросил, не поверив своим ушам, Андрей.
– Черновики Пушкина. Это – моя работа: я филолог, – сказал незнакомец. – Пушкиным занимаюсь.
– Я и смотрю: необычный какой-то текст, – и, помолчав, Андрей добавил: – Пушкина изучаете, значит?
– Да, сижу вот… Волка ноги кормят, а филолога – зад. – Пушкинист достал из носа козюльку и задумчиво скатал из нее шарик.
– Разве он еще не изучен? – спросил Андрей с улыбкой.
– Да-а, его еще предстоит прочесть, – сказал задумчиво филолог.
– Кому?
– Всем нам.
– Я думал, он уже прочитан.
– Хуй там! – возразил, выходя из задумчивости, пушкинист. – За последние десять лет он еще меньше стал понятен, чем был. – С этими словами он выстрелил щелчком козюльку, и она прилипла к противоположному столбику веранды. Там уже висело с десяток высохших шариков.
– Мне кажется, берешь, читаешь – и все понятно, – сказал Андрей.
– Вот именно, что кажется, – проговорил безапелляционным тоном пушкинист. – Например, одно только место… Я сейчас над ним работаю, думаю, даже на статью натяну. В "Руслане и Людмиле", – может, помнишь? – Черномор с братом припадают к земле и слушают звон. Так вот, я почему-то уверен, что этот звон – подводный.
– Подземный, – уточнил Андрей.
– Залупу – подземный! Сказание о граде Китеже помнишь? Так вот, это тот самый звон и есть. Хочу я это доказать…
– Град Китеж, насколько мне… не изменяет память, ушел под воду во время монголо-татарского ига, а в "Руслане и Людмиле" речь о печенегах.
– Это ничего не меняет. Может, он анахронизм намеренно допустил. Он же был великий похуист. Если только удастся доказать, что звон подводный, – это сразу такие классные проходы открывает! Сразу меняет все прочтение…
– Слышат звон, да не знают, где он, – проговорил Андрей.
– Откуда эта поговорка?! Не из той же ли оперы, а? Какие проходы!.. – задумался пушкинист и вдруг встрепенулся: – А может, знают! Может, поэтому Карла и отрубил башку великану! Тут сразу такие проходы охуительные светят – можно на диссертацию натянуть.
– Еще не защитил? – спросил Андрей.
– Одну защитил, надо за докторскую браться. Теперь в похуистическом ключе.
– Как это?
– Такой постмодернистский эксперимент в духе новозастойного похуизма. Он же был похуист – вот и надо использовать его метод. – Пушкинист спустил ноги вниз, пересев лицом к Андрею. – Как он забил на традицию, так же надо забить на все пушкиноведение – да и на него самого, – тогда-то откроются новые проходы. Может, даже целая философия – "пушкинизма". Классно… – проговорил филолог мечтательно и стряхнул пепел уже второй сигареты.
– Ясно… А почему – Пушкин, – спросил Андрей, – а не кто-нибудь другой?
– Если честно, я сам об этом не раз задумывался, – проговорил пушкинист, подняв брови. – Просто как-то так получается… Занимался им еще в универе, ради прикола, ― потом было уже поздно что-то менять. И так все в жизни: хотел с девушкой перепихнуться – и женился… А потом дети пошли…
Он выпятил губы, сердито нахмурил брови и стал чесать двумя пальцами спинку носа, попробовал играть на нем, как на флейте. Затем состроил отрешенную мину, словно погрузившись в размышления, и сказал, не выходя из задумчивости:
– Сам бы я лучше Барковым занимался… Вот где настоящий похуист прошлого. Это же он, а не Пушкин, создал и язык, и литературу, Пушкин – лишь способный ученик. Я даже думаю, что это он себя изобразил в Сальери, а Баркова ─ в Моцарте. Но попробуй заикнись на ученом совете – прощай академическая наука! Если, конечно, не сам устанавливаешь правила… Ты где, в "Химреагентах" отдыхаешь?
– Проездом остановился.
– Ну все равно встречал, наверно… Там сейчас веселая компания симулякров собралась. Среди них есть лысый еврей – рожа у него цветная, волосы как щетка. Самуил Натанович, кличка Солнцедар. Пушкина трактует, как воплощение света на земле, причем в буквальном смысле. "Солнце русской поэзии"! Выискивает у него коды солярных мифов… Маразм крепчает. Я в "Ароматике" с семьей релаксирую – не от "ароматов", а от "Ароматических углеродов". Здесь прихожу от семьи отдохнуть… Кстати, сколько сейчас времени? – Он вдруг спохватился, хватая книгу, папку, ручку, карандаши. – Я же на ужин опоздаю!..
Они пошли вдоль обрыва, какое-то время им было по пути. Солнце, огромное, мглистое, плавясь красным золотом, стекало в лиловый дым над горизонтом. Им далеко был виден лес по вершинам, почти до самого города, но смотреть из-за ослепительного, повисшего вровень с обрывом огненного шара, было невыносимо.
– Мне не нравится солнце, – сказал вдруг пушкинист. – Не знаю почему… Что-то в нем есть ― злокачественное. Холодное, ненасытное. Именно – холодное. Оно мне напоминает изнуренную самку, которая уже и не может, а все равно продолжает рожать и рожать мириады уродов…
– Ты тоже это заметил? – спросил Андрей.
– Что заметил? – остановился на развилке пушкинист.
– Что мы не совсем то, за что себя принимаем, – произнес Андрей выжидательно.
– Слишком яркий свет… – произнес с раздражением его собеседник; он, очевидно, был уже недоволен разговором. Повернулся к Андрею и не мог поднять глаз из-за слепивших лучей. – Я, конечно, понимаю, что его в действительности нет, но лучше бы он был, однако не был бы "вещью для меня". То есть свет… Мне туда, – пушкинист показал в сторону ответвления тропинки и протянул для прощания руку: – Может, еще увидимся.
Они расстались. Андрей пошел дальше вдоль берега, а филолог углубился в бор, его сутулая фигура еще долго была видна среди сосен и оранжевых лучей, просеянных сквозь хвою и напоминающих огненный скат шатра. На ходу он жестикулировал, видимо, продолжал спор с самим собой.
Дверь в их комнату оказалась незапертой, Андрей толкнул ее и увидел на своей кровати Зою. Она листала взятый им в дорогу томик "Уолдена".
– Меня твой друг впустил, – сказала Зоя, поднимаясь с улыбкой ему на встречу, – а сам куда-то убежал. Ну, поцелуй же…
Она снова зажмурилась, как маленькая кошечка, встала на цыпочки и обхватила его за шею, не выпуская книгу из рук и потягиваясь.
– Фу, колючий, – отстранилась она от него. Андрей поцеловал, оглядывая комнату: не осталось ли чего-нибудь неприличного на поверхности. Вдруг снова потянуло к ней – и так же через полчаса он с трудом мог скрыть безразличие, охватившее его. Однако Зоя оказалась права: все выглядело не так глупо, как в первый раз. "Опытная, – подумал Андрей равнодушно. – Сколько ей лет? Двадцать семь – как же без опыта… Но отчего всегда одно и то же? – хоть бы раз что-то новое".
– Ты почему не бреешься? – сказала она, глядясь голая в зеркало. – Все лицо мне натер – как теркой.
– Готовлюсь к жизни в лесу, – кивнул Андрей в сторону брошенного на соседнюю кровать Торо.
– Нет, ну побриться можно раз в день! – с внезапной злостью воскликнула Зоя.
– Я не ожидал тебя встретить, – опешил немного Андрей.
– Ожидал – не ожидал, бриться все равно надо! Ну как я сейчас пойду на ужин? – Она повернулась, показывая свой покрасневший подбородок и шею. "Ага, – подумал Андрей, – не долго длился тот роман".
– Не ходи, давай займемся чем-нибудь более приятным, – и про себя добавил: "…в последний раз". – У нас есть сыр, хлеб, красное вино.
Зоя отвернулась к зеркалу и принялась разглаживать кожу тыльной стороной ладоней.
– Если только побреешься, – сказала она примирительно.
Глава десятая
Встретив его на следующий день, Зоя сообщила, что "платиновые перья" собираются идти вечером "на косогор", где состоится "джем-сейшн". Должен приехать кто-то из города, – в общем, будет интересно. Андрей, который после короткого дневного сна, чувствовал себя разбитым, сказал, что не пойдет, – и вообще, компания ему не нравится. Она изобразила на лице легкое разочарование. Он заметил, что в ее обращении с ним исчезла настойчивость, – не позвала даже на пляж. Ну и хорошо, решил Андрей, ну и ладно. Его больше беспокоило, куда пропал Борисыч: в номере он не ночевал, в столовой не появлялся, грузовик стоял в боксе. Он попробовал узнать у Веры Киприяновны, но та отмахнулась: «С Володей, наверно, где-нибудь пьют», – и сообщила, что нашла сторожа, поэтому сегодня ночью он может не выходить на дежурство.
Андрей пошел досыпать в номер: рано или поздно Борисыч должен был туда зайти.
Проспал он чуть не до самого ужина. Проснувшись, долго не мог понять, что сейчас – утро или вечер. Оделся с твердым намерением разыскать Борисыча и завтра же ехать. Опять в нем поднялись нетерпение и решимость действовать. Вдруг в дверь кто-то постучал и тут же ее распахнул. Это снова была Зоя.
Первым побуждением было придумать, почему он должен срочно уйти. Но она с порога без ужимок спросила:
– Ну что, идешь? Наши собрались на всю ночь – зарю встречать. Будет костер, гитары, Светозар обещал что-то экстраординарное… Он и тебя приглашает. – На ней была кофта, джинсы, бейсболка. Волосы она забрала в хвост, уши спрятала под бейсболку. В руках держала ветровку.
– Борисыча не встречала? – ответил вопросом на вопрос Андрей.
– Нет. Наверное, он тоже там будет. – Майор задумался.
– Хорошо, – сказал он. – Когда отправление?
– Все уже пошли.
Пока он спал, прошел дождь ─ и снова выглянуло солнце. В лесу сильно пахло хвоей, крупные, радужные капли градом летели с сосен при каждом порыве ветра.
– Пойдем дальней дорогой, – сказала Зоя и, преградив ему путь, попросила, чтобы он поцеловал ее. Так они останавливались несколько раз. В ее поцелуях была какая-то грустная жадность.
– Ну хочешь, не пойдем туда? вернемся к тебе или ко мне? – спросила она во время одной из таких остановок.
– Ну нет, идти, так идти.
"Косогор", на котором "перья" устраивали пикник, оказался на деле безлесным мысом на изломе реки. Здесь она, рассеченная на два рукава длинным островом, подходила почти к самому обрыву, отделенная от него полоской пляжа, поросшего травой и ивняком. Там кто-то уже купался, слышались крики и плеск. Понизу, вдоль откоса, вилась дорога. У подножия стояли две машины, одна принадлежала телепоросенку, Андрей видел ее в боксе пансионата. Из второй только что достали сумки, и рыжий, в летних брюках и рубашке мужчина захлопнул багажник. Вместе с ним поднималась девушка, похожая на индейскую скво, сходство добавляла накидка в виде пончо. Это, очевидно, и были приезжие из города. Они резко выделялись на фоне, успевших уже одичать, отдыхающих. Последние оделись кто во что горазд и представляли собой пестрое сборище. (Один Сева пришел в черном костюме и белой рубашке с бабочкой, он прогуливался, заложив руки за спину.) Мужчина с сумками был похож на опоссума: вытянутая вперед нижняя часть лица, прижатый к ней острый нос, синие равнодушные глазки, большие розовые ногти. Он казался покрытым белесым налетом, благодаря своей очень белой коже с бледными веснушками. Вокруг шеи был завязан голубой пуловер, за спиной у него и у девушки висели гитары в чехле.
– Вот идут два флейтиста!.. – возопил Светозар, выбросив в направлении приближающихся руку. Его сотрясала лихорадочная дрожь, как при ознобе.
– Играют отчетливо и чисто… – отозвался с кривой усмешкой мужчина. Светозар хотел заключить его в объятия, но тот, поставив сумку, предусмотрительно вытянул для пожатия, как можно дальше, руку и сдержал нежелательный порыв.
Опоссума сразу окружили несколько "перьев", он был словно освещен общим вниманием.
– Это Стоногин, главный редактор "Губернского осведомителя", – сказала озабоченно Зоя и, махнув за спиной рукой – "подожди!", подошла к девушке в пончо. Андрей высматривал Борисыча или хотя бы Володю, но их нигде не было видно.
– Здесь, на пеньке, мазь от комаров. Кто хочет – в термосе чай, и мы еще заварим. Сахар в банке. Во фляге питьевая вода, а в канистре для хозяйственных нужд, – распоряжался Светозар.
Мимо прошел Сева, уже нетрезвый, пряча подбородок в бабочку.
– Ну начинается! – пробурчал он, видимо, для Андрея, искоса бросив взгляд на оживленную толпу, окружившую вновь прибывших.
На месте старого большого кострища лежали три бревна, вросших в землю. Тут же торчал стоймя высокий обгорелый комель с острыми обломками сучков, на них повесили сумки и гитары. Вокруг валялись разорванные пакеты и бутылки. По всей вероятности, это место давно было облюбовано для пикников. Два незнакомых Андрею молодых человека рубили ветки на дрова. Кто-то уже сложил костер и поджег его. Пламя казалось белесым в лучах заходящего солнца. И снова огромный, малиновый, матовый шар садился в сиреневом чаду за серый лес на том берегу.
– Как только светило нижним краем коснется леса, – возвысил голос Светозар, стараясь перекричать тусовку, – я толкну накосогорную… не проповедь, нет… (Раздался смех.) Всего лишь речуху. Окей?
– Ноу проблем, – донеслись отовсюду радостные голоса..
– А вторую скажу, как только его диск появится с другой стороны, вон над тем лесом. Но это для тех, кто доживет до утра.
Большинство присутствующих пребывали в лихорадочном возбуждении. Девушки громко смеялись и много курили, мужчины сдерживали себя, но пальцы, с зажатыми в них сигаретами, дрожали и начинали плясать. Вдруг ни с того ни с сего кто-нибудь выделывал па и ногами, жестикуляция у всех была преувеличенной и очень быстрой. Только Сева не останавливался ни у одной из групп, проходил мимо с загадочным видом, словно знал что-то. Его невеста бродила сама по себе, он сам по себе. Главный "Осведомителя" и телепоросенок уединились в стороне и беседовали о чем-то серьезном, несколько девушек окружили скво. Среди них была Зоя.
– Светозар! – вдруг закричал кто-то истошно. – Сейчас солнце сядет!
Светозар засуетился, схватил бутылку и начал разливать водку по пластиковым стаканам.
– Водку наливайте, наливайте водку, – распоряжался он. Потом повернулся к солнцу, держа наготове свой стакан.
– Давайте караулить солнце, как говорили наши предки: смотреть, как оно садится. Никогда не удается засечь тот момент, когда его верхний край уходит за горизонт. Кажется, оно не движется, остановилось… И вдруг – раз! – моргнуть не успеешь, а его уже нет! – Все замерли в иронично-умильном ожидании. Щетка волос на затылке у Светозара горела, как сноп лучей, очки превратились в два маленьких зеркальца. Сева демонстративно выпил, не дожидаясь начала речи, повернулся спиной к закату и закурил. Опоссум с поросенком продолжали тихо беседовать уже со стаканами в руках.
– Светозар! – раздался снова истошный крик, оказывается, так кричал Макс. – Где речь – уже село!
– Нет еще… Еще секундочку… – поднял Светозар в напряжении дрожащую ладонь. – Вот, теперь село!
– Ну что… – Он стал в пол-оборота, как оперный певец. – "Поднимем стаканы, содвинем их разом! Да здравствует солнце, да здравствует разум! Ты, солнце святое, гори! Как эта лампада бледнеет при свете каком-то там зари (Он указал на костер.) – так ложная мудрость тускнеет и меркнет при свете бессмертном ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма!" – Произнося заключительные строчки, Светозар мельком взглянул в сторону Андрея – или тому так показалось.
Светозар пригубил из стакана, остальные опрокинули и пошли к столику закусывать. Там хозяйственные девушки нарезали колбасу, огурцы и помидоры, некоторые сразу закурили. Главный "Осведомителя" и телепоросенок продолжали говорить и выпили как бы не в связи с тостом.
– Это вся речь? – сказал презрительно Сева и плюнул в костер. – Ты все перепутал, Светозар: сейчас наоборот солнце скроется – да здравствует тьма! – Но на этот выпад никто не обратил внимания, оратор же продолжал:
– Братья и сестры! – не ищите аллюзии в моем обращении, ибо все мы, действительно, братья и сестры – дети одного отца, Даждьбожьи дети. Лице его только что скрылось от нас, но мы все равно несем в себе его огонь. Нам кажется, он уснул – нет, никогда не смыкает очей отец, без устали оплодотворяет мать землю. О, как он прекрасен, как сексуален!.. (Раздался смех.) Да-да, я не побоюсь этого слова – «сексуален»! Только так в речениях нового времени мы можем выразить то существо сущего, которое грядет в нас – уже здесь и сейчас… Не пробегайте в жару ежесекундности, замрите в предвосхищении истиностояния! Прочувствуйте эротичность замысла. Какие гиганты кружат в космосе, чтобы обогреть нас! Какие мегатонны энергии взорваны ради нас! Достаточно одного просчета, какого-нибудь микрона не хватило бы в небесной механике – и невозможна была бы жизнь. Однако мы не должны ощущать свою букашечность: энергия Солнца в нас превратилась в новый более мощный косм, способный охватить макрокосм. Наш разум не только вместил в себя все солнца вселенной, но и вызывал к бытию новые светила. Поэтому я пью за старое и за новое Солнце: Ярило, яви нам силу! – И Светозар поднес дрожащей рукой стакан к губам, водка заструилась у него по подбородку.
До конца речь дослушали немногие, стоявшие рядом с оратором. Остальная тусовка разбрелась по косогору: кто-то продолжал прерванный разговор, кто-то пил водку. Пьяный уже Макс сидел, схватившись за голову. Двое юнцов взяли гитары и пощипывали легонько струны, но только Светозар умолк, забренчали в полную силу.
– Вадим Станиславович, будь добр – утри нос молодежи! – крикнул Светозар. Кто-то тут же снял гитару с сучка обгорелого дерева и протянул Стоногину.
Главный "Осведомителя", улыбаясь, продолжал разговор с телеведущим и уже подкручивал колки на грифе.
– Все к костру, все к костру! – закричал Самуил Светлоокий, собирая публику.
Над темно-синим лесом на том берегу догорал опаловый закат, казавшийся тусклым в свете костра. Искры улетали с треском в прозрачное зеленовато-голубое небо, и опускались вокруг черными хлопьями.
Стоногин подождал, когда застелют бревно брезентом, ─ сел, расставив жирные ляжки. Рядом присела скво тоже с гитарой, и они, взглянув друг на друга, взяли аккорд… Голос у главного был слабый, гнусавый, но пел он самозабвенно, притопывая ботинком. Сначала они исполнили "Солнышко лесное" – все, сидевшие и стоявшие вокруг костра, сразу обнялись, стали раскачиваться в такт песне и подпевать. Андрей увидел Зою, она сделала ему знак присоединяться, но он покачал головой. Потом запели "как здорово, что все мы здесь сегодня собрались", и толпа начала раскачиваться и подпевать с еще большим энтузиазмом. Какой-то пьяный голос старался перекричать всех, выводя истошно вместо "собрали́сь" – "нажрали́сь".
Андрей хотел сразу уйти, но тут ему пришла одна мысль, которую он намеревался проверить. Для этого ему нужен был Стоногин, поэтому он решил дождаться конца номера.
Он отошел к краю косогора. Здесь было уже темно. Бурый отсвет костра едва освещал траву и обрывался чернотой. Несмотря на то что впереди ничего не было видно, чувствовалась пустота под ногами. Дальше снова поблескивала внизу река. А выше, над черным лесом на той стороне, синела узкая полоска – все, что осталось от вечерней зари. Маленькие тусклые звезды повисли над головой. По берегу краснели точками костры рыбаков.
Шагах в десяти остановился еще кто-то и стал мочиться.
– Что они делают, а? что делают!.. – по голосу Андрей узнал Макса. – Обязательно надо собраться, сбиться в кучу, – и раскачиваться туда-сюда, туда-сюда!.. Собраться – и раскачиваться…
– Я им устрою сегодня перформанс! – сказал второй пьяный голос, который тоже показался знакомым.
– Нет, зачем они раскачиваются, скажи? Зачем обязательно надо раскачиваться, а? И так тошно…
Андрей дождался, когда они уйдут, и тоже вернулся к костру.
Там перестали раскачиваться. Стоногин положил гитару и отошел покурить. Но тут же вскочил, пошатнувшись, поэт Шкворень и вытянул вперед руку:
– Нью по́эм! "Низвержение в Мальстрем" (подразумевается мейнстрим), – провозгласил он с гневом, глядя остановившимися, расширенными зрачками в огонь. И рявкнул: – Всё, тихо!
– Мы тебя слушаем, Иван, – сказал, как можно спокойнее, Светозар.
Шкворень опустил руку, а потом поднял ее медленно над головой, начал:
И все-таки мы падаем в Мальстрем —
Летим, опустошенные паденьем.
Вся жизнь была для нас сомненьем —
И вот сомненья нет: низвержены, как спермь…
Он рубанул рукой воздух.
– Как что, Иван? – спросил Светозар. Шкворень отшатнулся, словно впервые увидел его, разглядел и сказал:
– Как сперма.
– Извержены или низвержены? – не отставал ученый.
– Низвержены, блядь!
– Сперма обычно извергается…
– А у меня низвергается! – заорал и наклонился к Светозару чтец.
– Хорошо, продолжай, – сказал тот и, когда Шкворень набрал воздуху в легкие, пожал извинительно плечами: – Гневлива порода поэтов.
Шкворень продолжал чтение:
Все затопил счастливый визг.
Наш дивный вождь, с глазами павиана —
Близкопосаженность есть признак мана, —
Зовет назад, но мы сорвались вниз…
– Иван! – прервал его снова Светозар. – Это – сложное для восприятия на слух произведение. Давай, мы с ним познакомимся, когда ты опубликуешь его в "Графомане", хорошо? Сейчас мы все равно ничего не поймем. Для первого ознакомления достаточно: сразу чувствуется, что это ─ программная вещь, которую нужно еще осмыслить. Договорились?
Шкворень задумался: смеются над ним или нет – решил, что нет, и мотнул головой в знак согласия.
– Значит, в "Графомане"… Для тех, кто не знает: это – наш литературный альманах. – Шкворень еще раз мотнул головой, очевидно, поклонился и сел на бревно, но с размаху повалился на спину, задрав кверху ноги. Раздался смех, он с трудом поднялся и хотел снова вскочить, однако ему не дали.
Андрей между тем решил исполнить то, ради чего остался. Он подошел к Стоногину, курившему за кругом с телепоросенком и Максом.
– А-а, – воскликнул скорпион. – Охрана! Это – наш сторож… Как его? – запамятовал… Ай-м вери, вери сорри!
– Извините, я хотел с вами поговорить, – сказал Андрей, пропустив мимо ушей выпад Макса. Они отошли в сторону, и Стоногин, изобразив на лице внимание, наклонил голову, расставил ноги.
– Тут есть деревня неподалеку… – Андрей, не вдаваясь в подробности, рассказал о том, что случилось с деревней Тишкино.
– Видите ли… во всякой игре есть свои правила, – приступил к разъяснению с начальственным терпением Стоногин. – Но есть одно общее: не играть против своей команды. Я не могу помещать материалы даже против одного игрока, если это противоречит нашей идеологии.
– Какая игра? при чем тут это? – погибли люди, – возразил Андрей.
– Для этого существуют правоохранительные структуры…
– Боюсь, они тоже в вашей команде, – усмехнулся майор.
– Обратитесь к оппозиционной прессе, – сказал Стоногин ледяным тоном.
– Где она? – развел руками Андрей.
– У вас за спиной стоит. – Андрей оглянулся и увидел Макса.
– Да их там нет! Их нет!.. – завопил в стельку пьяный скорпион. На шум подошли Светозар, Зоя, еще кто-то из "перьев".
– Это вас нет, – сказал Андрей, и хотел уйти. Он почувствовал, как в нем все закипает, но решил еще что-то объяснить:
– Здесь в тридцати километрах есть деревня…
– Не-ет!.. – завопил истошно Макс.
Стоногин отвел поросенка в сторону, подальше от скандалистов.
– Нет, есть. Она из пепла встанет и в аду будет гнаться за вами!.. Как за мной – кишлак… – последнее Андрей кинул главному вдогонку.
– Нет деревни – и ада нет! Ничего нет! – верезжал Макс. – Да он же никто, никто – он сторож! Ну-ка пшел вон, мразь!.. – Андрею кровь ударила в голову. Он приподнял Макса за шиворот, встряхнул его и разглядывал, держа на весу (лишь носки кроссовок касались земли), словно придумывал, что с ним сделать.
– Немедленно опусти его! – Он увидел настороженное лицо Зои и поставил присмиревшего скорпиона на ноги. Тот сразу обмяк, уснул – или притворился спящим: стал оседать, как мешок, – его подхватили и увели.
Когда туман перед глазами рассеялся и ярость утихла, Андрей разглядел рвущегося в бой Шкворня: того удерживал писатель-вагинист.
К майору, как укротитель к разъяренному льву, приблизился Светозар.
– Вам надо было сразу ко мне обратиться: я вхожу в общественный совет при губернаторе – есть такой совещательный орган. А они люди подневольные – поденщики пера, – сказал он мягко, делая кому-то знаки, чтобы не беспокоились за него. – И я уверен, глава области не оставит без внимания вашу просьбу. Мы с ним как раз на следующей неделе встречаемся, чтобы обсудить наболевшие проблемы. Как правило, к нам прислушиваются. Давайте сядем, – пригласил он Андрея на бревно.
Они сели. Рядом стали садиться разбежавшиеся "перья". Стоногин с индианкой снова что-то наигрывали себе под нос, – видимо, собственного сочинения.
– Вы слишком все близко принимаете, – начал, прикасаясь к его локтю, Светозар. – Потом, вы делаете одну расхожую методологическую ошибку, свойственную м-м-м… всем самородкам. Вы смешиваете онтологию с этикой. Нельзя с нравственными мерками подходить к природе, космосу, социуму, который тоже часть косма. Они за гранью добра и зла, в нашем узком понимании. И все-таки там есть свое зло и свое добро – это хаос и гармония. В ходе восхождения от простого к сложному они достигли своей вершины в человеческой морали…
– С чего вы взяли, что я делаю эту ошибку? – прервал раздраженно майор.
– Ну-у.. Вы, кажется, сами вчера говорили – разве нет?.. Или ваш друг говорил?.. – немного смешался Самуил и тут же продолжал без тени смущения: – Не отрицаете же вы гармонию в природе? Посмотрите вокруг… (Он раскинул руки.) Все взаимосвязано, одно насквозь пронизано другим. Каждое звено цепи не может существовать без других звеньев. Как хорошо дышится: кажется, этот хвойный запах и есть бог, разлитый в природе!..
– Кто же отрицает гармонию, – сказал Андрей, он уже пришел в себя, и ему было стыдно, что он обидел таких милых, умных людей. – Гармония, конечно, есть – и дышится легко. А в "социуме" гармонии хоть отбавляй…
– Ну вот, наконец-то! Нет, бывают кризисы – бывают, но это болезни роста…
– …гармонии, где одни поедают других и лишь благодаря этому процветают. – Все-таки не мог обойтись майор без ложки дегтя. – Это ведь тоже гармония – для того, кто находится на вершине пищевой пирамиды… – Он заметил: несмотря на то, что Светозар пьет наравне с другими, но совсем не пьянеет, и запаха от него нет никакого. Андрей вспомнил, что наливал ученый себе из отдельной бутылки, которую ставил потом за пенек.
– Стоп-стоп-стоп,– поднял ладонь и наклонил лысину Светозар, словно и вправду останавливал кого-то. – Давайте разберемся. Мы опять допустили смешение онтологического с этическим… Никто никогда и не утверждал, что этот мир – верх совершенства. Эйнштейн продумывал эту проблему: мог или нет бог создать мир другим? И пришел к выводу, что не мог.
– Я тоже думаю, что не мог, – сказал Андрей.
– Почему? – искренне удивился ученый.
– Потому что он вовсе не бог…
– Опять двадцать пять! – воскликнул Светозар. – А вот красота, прекрасное? Не можете же вы отрицать прекрасное…
К ним подсел, подставив под себя ведро, Самков. От нетерпения он начал потирать слоновьи колени.
– А что, господа, – встрял писатель, понявший по последней фразе, что речь о прекрасном. – Что вы думаете о женской кьясоте? в чем, по-вашему, женская пьелесть?
– В нарушении "золотого сечения", – сказал серьезно Светозар.
– В нас самих, – усмехнулся Андрей.
– Вот сьязу видно: ничейта-то вы не понимаете в женской кьясоте! А я вам вот что откьёю: ни в гьязах, ни в гьюдях, ни в сечениях… Я сам недавно поняй. – Он поднял палец, большое, с детским пушком лицо его сияло плутоватым восторгом. – В диаметье вуйвы. Чем узе вуйвочка, тем зенсина пьекьяснее. Потому сто узенькая вуйва, "мышиный гьязок", пееносит нас сьязу в какое-то дикайское, звеиное сьядостастие…
– Ну, ты, Витенька, как что ляпнешь, так хоть стой, хоть падай! Да еще при дамах… – распрямился Светозар в негодовании. Вагинист захлопал себя по коленям и залился клокочущим, по-детски заразительным смехом. Несколько девушек, слышавшие его речь, сделали каменные лица.
Андрей встал и сказал, что уже поздно и ему пора.
– Где же поздно – уже рано! – воскликнул Светозар. – Да вы и дорогу впотьмах не найдете. Давайте рассвет встречать.
– Берегом дойду.
– Да по берегу тут идти, знаете сколько? Как раз к обеду придете.
– Я вот еще что хотел спросить, – повернулся к нему Андрей. – Откуда такие названия: "Осведомитель", "Графоман"?..
– А-а… Сначала подразумевалось, что они ─ нечто противоположное, хотя в действительности то самое и есть. Происходит как бы удвоение смысла – и соль в том, что они сами этого удвоения не замечают. Будете в городе, заходите в сентябре на семинар. Вы достаточно оригинально мыслите. – И Светозар вынул из кармана, и протянул Андрею визитную карточку.
Вагинист продолжал заливаться колокольчиком, Шкворень, как упал с бревна, так и заснул с торчащими вверх коленями, Макс спал на куче сумок и одеял. Телепоросенок показывал пантомиму. Он успел как-то моментально по-свински набраться. Еще минуту назад казался вполне вменяемым и вот сел перед догоравшим костром на стул, который специально привез с собой, и несколько раз уже чуть не упал с него. Это, по-видимому, и вызвало смех зрителей: что означала сама пантомима, понять было трудно. Он закидывал ногу на ногу и пытался изобразить, что завязывает шнурок, но начинал заваливаться набок, нога соскальзывала – все повторялось сызнова, и так до бесконечности.
Начался разброд и шатание. Все разошлись по парам и без пар. Стоногин исчез, его гитару кто-то с размаху повесил на сук обгоревшей сосны, пробив насквозь деку. Скво целовалась взасос с каким-то юнкором. Севина невеста тоже ушла с молодым литератором, самого Севы нигде не было видно. Не нашел Андрей и Зою.
У прогоревшего костра осталось человек шесть, они кутались в одеяла и сонно попивали радужный, со свинцовой пленкой чай, который разогрел на углях Светозар. Продолжалась затянувшаяся пантомима, артисту было уже безразлично, что про него все забыли. Наконец и он упал, уполз и захрапел на надувном матрасе.
На востоке начинало сереть. Вдруг синий, затянутый наполовину туманом бор озарился багровым заревом. Светозар, сидевший спиной к реке, вскинул руки и воскликнул в экзальтации:
– Вот и Отец наш пробудился от сна! Хотя нет, Он никогда не спит… – Он повернулся на восток: но солнце еще не появлялось над лесом. Яркий свет, озарявший и противоположный берег, шел откуда-то снизу.
– Там горит что-то! – воскликнули девушки сонными голосами, и все побежали к краю обрыва, из-за которого выбивался язык пламени.
Внизу полыхало два факела: "волга" была уже вся объята огнем, а у "десятки" пламя вырывалось из-под капота, из салона валил пока только дым. По берегу бежали двое мужчин, один без трусов, а другой в черном костюме, с горящим рукавом, – первый, очевидно, гнался за вторым. В стороне, забежав за куст, спешно одевалась голая девушка. Это была Зоя.
Убегавший скинул горящий пиджак и бросился в реку. Его преследователь тоже нырнул с разбегу, но захлебнулся, тут же вскочил и, откашлявшись, визгливо закричал:
– Я тебя все равно, гнида, достану! – Все узнали Стоногина. Он ополоснул лицо, вышел на берег и сел, обхватил руками голову.
Беглец в белой рубашке – теперь уже все в предрассветных сумерках разглядели, что это был Сева, – догреб кролем почти до середины протоки, перевернулся на спину и, проплывая мимо стоявших на косогоре, прокричал:
– Светозар, это – Солнцу, Ваалу!.. – Сквозь лес вдруг прорвался первый луч зари и окрасил нежно-розовым светом реку, другой берег и рубашку пловца.
• Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя твое; да пребудет царствие твое… Хлеб наш халявный даждь нам днесь. И души нас, якоже и мы душим должников своих; и введи нас во искушение, якоже мы вводим… своих… – орал с надрывом, уплывая, Сева.
Андрей повернулся и пошел в сторону пансионата. Навстречу ему из леса сбегались разбредшиеся парочки. Вдруг весь бор в глубину осветила яркая вспышка, и через секунду раздался хлопок, но он не оглянулся. Ему было легко и весело. Сначала в нем заговорило его непомерное самолюбие, но вдруг стало смешно: "Кто же тебя заставлял со псы ясти из един сосуд? Хочешь отнять у них то, что принадлежит им по праву? Зачем?.."
– Зачем? – вдруг крикнул он на весь освещенный не то пожаром, не то зарей лес и громко рассмеялся: – Заче-е-ем?..
В номере Андрей застал Борисыча. Тот лежал в одежде на кровати, закинув руки за голову, и смотрел в потолок.
– Ну что, вздремнем – да поедем? – спросил Андрей сонно и весело. Он был в хорошем расположении духа, как всегда накануне перемен.
– У меня права забрали, – сказал тихо Борисыч.
– Кто? Менты?
– Нет, картежники. Я все баксы продул, и еще шесть штук должен… Говорят, пока не вернешь, права не получишь – или машину отдавай.
– А зачем играл?
– Вовчик сказал, что они лохи деревенские… А они шулера! – сел в кровати и закричал Саня, размахивая руками. – Сто пудов – шулера! Я же видел, как он передергивает!
– Зачем же ты играл, если видел?
Борисыч пожал плечами:
– Отыграться хотел…
– Как можно у шулера отыграться? – Борисыч опять пожал плечами.
– Сутулый, лысый, нос крючком и глазки бегают?.. – спросил, раздеваясь Андрей.
– Да…
– Кажется, знаю я твоего "лоха деревенского": на него ползоны за долги работало. Ладно, раз права забрали, значит, никуда не денутся – надо вздремнуть немного. – И Андрей подкинул ногами одеяло, потом с удовольствием заерзал, хрустнул суставами, укладываясь поудобнее, и тут же заснул. Борисыч тоже разделся, но ворочался, как на углях. Оделся, вышел покурить, сходил на завтрак. Андрей все еще спал.
Проснулся он ближе к обеду, и они сразу отправились на поиски картежников.
– Что в тебе, Саша, не перестает удивлять… Вот ты вроде таксист, прошел Крым и Рым, но только увидишь какого-нибудь аферюгу, у которого все на роже написано, сам к нему в рот ползешь, словно кролик, – рассуждал по дороге Андрей.
– Да ладно тебе… – мрачно ронял Борисыч.
– Вовчик тоже с ними?
– Нет, Вовчик тут ни при чем.
– Ну да!..
Остановились они перед дверью номера, который указал Борисыч. Андрей легонько толкнул ее, она была заперта. Тогда он толкнул сильнее и вырвал замок.
За столом под горящей лампочкой сидел похожий на нахохлившегося грифа субъект, с лупой в глазу, и тонким пером крапил карту. Нос у него действительно был крючковатый, розовый; длинные пальцы напоминали дождевых червей, так они были гибки. На столе перед ним лежало несколько колод, новых и уже распечатанных, стояла чернильница. Он сдвинул на лоб лупу и, склонив набок голову, сощурил на незваных гостей свои колючие глазки. Рядом, навалившись на стол, положив голову на локоть, следил за ювелирной работой Вовчик. На кровати поигрывал грудными мышцами голый по пояс культурист. У него были непомерной величины, выступающие, словно жабры, челюсти. При появлении незнакомцев он привстал на кровати, Вовчик вытянулся на стуле и растерянно оглянулся на культуриста.
– Ляжь, – зыркнул туда-сюда глазками носатый, вставил назад лупу и демонстративно продолжил свое занятие. Атлет опустился на подушку и, сложив на груди руки, надул бицепсы.
– Что ж ты, майор, без стука врываешься, так и заикой можно сделать, – произнес носатый певучим, с блатными обертонами голосом. – Тебя не узнать: патлы отпустил, хиповым заделался.
– А ты, Малиновкин, все такой же. Вот только пару перстеньков себе лишних пририсовал, – сказал Андрей, опершись на стол, и добавил для Борисыча: – Видишь, и Вовчик твой тут – вся компания в сборе.
Урка сдвинул лупу, убрал на колено синюю от наколок руку и с прищуром спросил.
– Лавэ принес?
– Отдай ему права – и разойдемся по-хорошему. – Андрей взял со стола запечатанную колоду и покрутил ее в руке.
– Не гони пургу, майор, – сказал картежник, откинувшись на спинку стула, и вдруг резко подался вперед. – Он мне еще шесть косых должен! Может, ты за него ответишь? – Он прищурился и повернул по-птичьи голову.
Культурист снова приподнялся на кровати. Андрей взял колоду двумя руками и разорвал ее пополам. Культурист опустился, больше он не надувался.
– Давай гони права – хватит с тебя баксов.
– А как же долг? – долг платежом красен…
– Твоя игра, Гога, известная: никакого долга нет – права на стол! – хлопнул Андрей по столу.
– А дудуку… – начал, было, Малиновкин, приподнимаясь, но недоговорил, потому что Андрей взял его согнутыми пальцами за нос. У картежника слезы брызнули из глаз.
– Помнишь, за что я срок мотал? – спросил майор, как можно спокойнее.
– Пусти, сука… – промямлил гундосо Малиновкин. – Отдай ему права…
Культурист полез во внутренний карман пиджака, висевшего на стуле, и кинул права на стол. Борисыч забрал их. Андрей отпустил шулера, из посиневшего носа хлынула кровь.
– А это тебе, гаденыш! – Майор с размаху влепил щелбан Вовчику, от которого тот перевернулся вместе со стулом.
Когда они уже шли по коридору, Борисыч спросил:
– За что ты сидел?
Андрей ответил не сразу.
– Нос жене оторвал.
– Как оторвал? – улыбнулся недоверчиво Саня.
– Вот так вот взял и оторвал. – Андрей сложил два согнутых пальца и повернул в воздухе.
– Зачем? – Борисыч пожал озадаченно плечами.
– С любовником застал. Перемкнуло у меня, со мной это бывает. Сейчас, конечно, жалею… Нет, ей потом пришили. Не такой, конечно, красивый получился, но для гарнизонного блядства сойдет.
Борисыч посмотрел на него с любопытством.
– Зайдем за расчетом, – повернул он к директорскому кабинету.
Вера Киприяновна в своем золотом костюме была на месте, она считала на калькуляторе и вписывала результаты в расчерченную от руки таблицу.
– Как! – и это все! – вырвалось у Борисыча, когда он увидел выложенную на стол сторублевую бумажку.
– А вы что тут, тыщи ожидали? А номер, а питание, а стекло в его дежурство разбили?.. – она кивнула в сторону Андрея.
– Сестра! – заговорил вдруг с пафосом Борисыч. – Какой номер, какое питание – ты что буровишь? Ты же все бесплатно обещала!
– Бесплатно у нас куры дают…
– Ах, ты паршивенчишка такая! – стал приближаться к столу Борисыч. Андрей удержал его за рукав:
– Пойдем отсюда.
Вера Киприяновна задышала всей грудью.
– У меня тут кнопка экстренного вызова милиции! – Директриса опустила руку под стол, голос у нее стал писклявым: – Считаю до трех. Сейчас же покиньте кабинет ─ или на счет три будет осуществляться вызов патрульного наряда! Раз…
– Всё, мы уходим, – сказал Андрей и потащил Борисыча в коридор. Но Саня вырвался, вернулся к столу, оперся на него – Киприяновна от страха откинулась на спинку стула, – наклонился к директрисе и тихо, но отчетливо произнес:
– Чтоб у тебя хуй на лбу вырос! – Потом повернулся и направился к двери.
– Всё, – сказал он, когда друзья вышли на крыльцо. – Денег нет ни копья – едем в город.
– Может, нас еще в столовой накормят, – предположил Андрей. Однако в столовой на их месте сидели отдыхающие. Встретившаяся кастелянша сказала, чтобы они освободили номер для нового заезда.
– А что нас тут держит? – спросил Андрей и подтолкнул Борисыча. – На машину, автобат! Нам же все равно: наступать или отступать – лишь бы кровь лилась!..
Борисыч еще забежал в столовую и взял у знакомых поварих плюшек и пирожков. Через полчаса, собрав нехитрые пожитки, они сидели уже в кабине грузовика. Когда выезжали за ворота, Андрей увидел идущих на пляж литераторов. Среди них была Зоя, обернутая в воздушное, индиговое парео, – но тут Саня повернул в другую сторону, и "платиновые перья" пропали из виду.
Борисыч был чернее тучи. Они приближались к развилке: одна дорога вела в город, другая – на Кутерминский тракт.
– Ну что, куда? – испытующе спросил Андрей.
– В город, куда еще? – проговорил мрачно Александр.
– А бутылки не собрали?..
– Какие в… баню бутылки! Денег нет! – воскликнул Саня.
– У меня есть немного – надо же убытки возмещать.
Борисыч ничего не ответил, но выжал сцепление и пошел накатом перед перекрестком, задумчиво глядел на бегущий под капот пятнистый от солнца асфальт. И вдруг перегазовал, воткнул вторую передачу и выкрутил руль влево – в противоположную от города сторону. Грузовик взревел, заскрипел, сорвался в занос – их мотнуло, как на русских горках, – но водитель успел выровнять машину…
Глава одиннадцатая
Недолго их провожали сосны, и вот снова пошли кружить белоствольные околки. Какое-то время они ехали молча, закусывая пирожками с творогом. У Борисыча заметно улучшилось настроение.
– Кроме детей и слуг, есть еще черти, – прервал молчание Андрей. Он, напротив, впал в обычную свою задумчивость и словно продолжал размышлять вслух: – Это никакая не метафора: они самые настоящие черти без всякого преувеличения. У человека должна быть совесть, стремление к истине, любовь к ближнему… и так далее. Все то что вырабатывалось, вопреки Создателю, на протяжении тысячелетий. Иными словами, душа – то, что называют душой. Она только и отличает людей от чертей. Если же этого нет… (Андрей посмотрел на Борисыча.) Или хотя бы большей половины этих качеств нет, значит, он не человек. А так как по форме напоминает человека и говорит, как человек, то это – нечистый. Недаром же и в народе их называют чертями. И то, что они состоят из плоти и крови, ничем не отличаются от людей: едят, спят, пукают, ходят к докторам, женятся, учатся в институте, – ничего не решает, потому что это все – одна видимость. Истинная реальность – только в духе. Нет его, или он какой-то другой, – значит, и человека нет, или он что-то другое. Так и должно быть: они и не должны отличаться от нас. Кто же соблазнится, если к нему придет чудище с рогами и хвостом? Все сразу разбегутся, и некого будет сбивать с пути. Даже если допустить, что существует материя, это все равно ничего не меняет. Потому что они так же отличаются от людей в реальном мире, как булочка от пирожка…
– Как что – от чего? – спросил Борисыч, задумавшись.
– Ну, если ты пирожок без начинки, ты уже не пирожок, а булочка или плюшка. Должна быть какая-то человеческая начинка, – сказал серьезно Андрей.
– Человечинка?.. – посмотрел на него выжидательно Саня.
– М-м-м… – помычал раздумчиво Андрей. – Можно и так сказать.
– Пирожки с человечинкой! Тогда лучше быть булочкой!.. – И Борисыч застучал по рулю.
– Подожди… – Андрей понял, что сморозил не то, и сам улыбнулся. – Не придирайся к словам: мысль была верной.
– Хорошо, ладно… – сказал Борисыч, напустив на себя серьезность. – А слуги тогда кто такие?
– Это те, у кого есть какая-то часть души, но они сознательно пошли служить богу. – Андрей указал на потолок.
– А может слуга стать чертом?
– Я думаю, что да – за особые заслуги, – хотя чаще черти рождаются уже готовыми.
– А как можно черта отличить от человека, вот в жизни?
– Пока только по делам. Это самый верный способ, правда, не самый быстрый. Иногда пройдет слишком много времени, и черт столько дров наломает, миллионы людей погубит, а ему всё будут поклоняться, как богу. Но обычно его сразу видно – по шельмовской роже. Хотя тут могут быть ошибки. Это может оказаться и слуга, и заблудший человек, который уже стал похож на черта. Но, с другой стороны, черт может скрываться под добропорядочной внешностью и словами, это ─ самые опасные, изощренные бесы, архангелы бога Сатаны. Рядом с чертом чувствуется какая-то пустота, будто одна оболочка стоит и разговаривает. И говорит он все правильно, но-о… лишь бы говорить, лишь бы сойти за человека, а мысли совсем о другом. Становится сразу муторно и противно… И еще: черти любят объединяться.
Борисыч молчал, обдумывая услышанное.
– А мы, случайно, не черти? – спросил он, пригнувшись к рулю и ерзая, словно усаживаясь поудобнее.
– Ну, это каждый сам должен решить, – усмехнулся Андрей, откидываясь на спинку кресла. – Обычно черт знает, что он черт.
– Я не знаю…
– Значит, еще – нет. По большому счету, мы все, разумеется, черти, но черти, которые не хотят быть таковыми. В человеке появляется то новое, что отличает его от бесов. Я об этом уже говорил.
– Так, наверно, и есть… – сказал задумчиво Борисыч.
– Ты о чем?
– Да так… – Они снова молчали и смотрели на дорогу, каждый, думал о своем. Борисыч проехал одну деревню, другую… Андрей поинтересовался:
– Ты что не заедешь? бутылки не спросишь?
– На обратном пути, – сказал тот, сосредоточенно глядя вперед. – Сначала к манихейцу.
Андрей был приятно удивлен переменой в Борисыче, и приписал ее своему влиянию. Вдруг Саня досадливо вздохнул.
– Жалко, конечно, – столько бабок продул!..
Андрей посмотрел на него настороженно.
– Те деньги как пришли, так и ушли, – сказал он суховато.
– И та тварь нас обула – одни обломы! Может, она меня ночью видела, когда я к ней подкрадывался?
– Зачем ты подкрадывался?
– Хотел шишечку помочить, да мне поплохело…
– А… Ну тогда твоя вина: разочаровал женщину.
– Хорошо еще, массажер увели, – сказал Борисыч.
– Какой массажер?
– Голландский, в кузове стоит, – ты разве не видел? – искренне удивился Саня.
– Нет, не видел, – усмехнулся Андрей. – Зачем он тебе?!
– Как зачем? Продадим – деньги свои вернем.
– Ну что ж, для начала, может, условным сроком отделаешься.
– Да его никто не хватится, он в кладовке у них стоял! Мы здесь кому-нибудь толкнем.
– Кому здесь массажер нужен?
Борисыч съехал на обочину, они спрыгнули на землю и распахнули будку. В углу, за мешками с бутылками, действительно стоял белый стационарный массажер.
– Как же ты его погрузил один-то? – спросил Андрей, наклоняя увесистый аппарат.
– Я не один, мы с Вовчиком… – осекся Борисыч, словно пораженный какой-то догадкой. – Но это было еще до карт!..
– Тогда ладно, – сказал Андрей с усмешкой и покачал головой.
– Если здесь не продадим, то на обратном пути скинем.
Андрей ничего не ответил, пошел садиться в кабину.
Борисыч все же решил заехать в одну деревню. Они свернули в первое попавшееся село.
На улице перед будкой сразу собралось несколько мужиков. Саня открыл дверь и выставил табличку. Но мужики идти за бутылками не спешили, толклись с неуверенно-нагловатыми улыбками деревенских, ожидающих чего-то от городских.
– Нам они самим нужны, – отвечали на призывы Борисыча нести бутылки.
– Да на что они вам? Солить, что ли, собираетесь? – усмехнулся он сверху.
– Мало ли – надо.
– Да на что надо-то?
– А тебе на что?
– Коллекционирую я их! – сказал уже с раздражением Саня.
– Ну вот и мы тоже…
– Что – тоже?
– Ну, что ты сказал…
– Анализы мы в их сдавать будем, – крикнул какой-то остряк.
– Ладно. Я повезу их в город, там сдам: у меня есть точка. А вы что будете с ними делать?
– Мы тоже у городе сдадим.
– Да вы там никого не знаете – кому вы сдадите? Тьфу!..
– Вот народ упертый! – ругался Борисыч, выезжая ни с чем из несговорчивой деревни.
– Их столько раз обманывали, что они никому уже не верят, – сказал Андрей.
– Ладно, может, подальше от города будут не такие твердолобые, но сначала к твоему другу. А зачем мы, вообще, к нему едем?
– Вопрос разрешить.
– Что за вопрос?
– Так сразу не скажешь… Он один, вопрос, но состоит как бы из многих. Вот если их разрешить, то и этот вопрос откроется. В двух словах не объяснишь, и даже в двух тысячах – такой это бессловесный вопрос…
Борисыч посмотрел на него и кивнул с пониманием: мол, еще и не таких видали.
Снова поехали по кругу поля и перелески. Будто серая лента была зажата меж двух огромных шестерен, которые гнали ее под капот из-под зеленой стены леса, выраставшей на горизонте. Оттуда же вдруг выезжали, как по транспортеру, игрушечные автомобили и грузовики, реже трактора и телеги, запряженные лошадью. Дорастали до размеров настоящих автомобилей, телег, грузовиков. В них сидели какие-то люди, которые смотрели на него с Борисычем и тут же с шумом, похожим на хлопок, исчезали, словно лопались и рассыпались в воздухе. "Зачем они смотрят? – думал Андрей, не замечая, что так же сам смотрит на них. – Что они хотят увидеть? Что за ненасытность такая – на все смотреть? Все нужно увидеть, ощупать глазами… Зачем?" И снова наползала на мозг одуряющая дорожная скука, когда от мироздания остается только зеленое мельтешение вокруг, слепящая серая пелена вверху, сухость во рту да свинцовая тяжесть в пустой голове. Закрываешь глаза: то ли пытаешься заснуть, то ли борешься со сном. И ни то ни другое не удается: остаешься где-то посередине, в каком-то межеумочном состоянии, неспособный подумать о самых простых вещах. Впадаешь в анабиоз и почти перестаешь существовать – завидуешь коровам по сторонам шоссе, которые так легко переносят скуку.
И вдруг за поворотом – сине-неоновое мелькание, мешанина из людей и машин. Сна как не бывало, жадно вглядываются глаза. Все сбилось в один клубок: любопытство, радость, страх. Две искореженные машины лежат в кювете, на асфальте белая россыпь стекла. Несколько мужчин раскачивают одну из них, пытаются открыть заклинившую дверь ломом. Милиционеры что-то пишут в своих протоколах, натягивают ленту. Из-под смятой двери "тойоты" набежала кровь, окрасив в черный цвет траву. "Приехали! – сообщает один пассажир. – Вряд ли кто живой". "Консерва в собственном соку", – добавит какой-нибудь острослов. Но никто не поддержит: таким не шутят. И уже шевельнулось назидательно: вот, мол… а мы еще едем. На мгновение вспыхнет страх: а что как и нас… Но тут же его вытеснит уверенность: во всяком случае, я уже удачливее, успешнее – уже вечнее, чем они… Но и это утешение как-то расплывается, тает – снова на мозг наползает хмарь скуки. Только и остается, что следить за тем, как взлетают с обочины ленивые вороны. Вот зазевалась – раздался глухой стук о кабину. "Есть!" – разведет руками водила. И опять все то же: те же березы и поля, поля и березы – и так до самой тайги.
Вдоль всей дороги то там, то здесь лежат на траве бедно одетые дети с былинками во рту. На обочине стоят ведра, в ведрах белые грузди и красная картошка. Руки их так же красны, как эта картошка, "накладенная с горкой". В серых лучистых глазах над веснушчатыми щеками терпеливая вековая надежда. Как грустны наши дороги, как нестерпимо печальны! Черная, похожая на брошенные избы, тоска навсегда поселится в сердце у того, кто ездит по ним. Кажется, так было и сто, и тысячу лет назад. Такая унылая – прекрасная земля!..
– Вот то место, где меня столкнули в кювет, – сказал Андрей, показывая на сломанный желтый куст, почерневший на изломе. Борисыч на секунду оторвал взгляд от дороги и снова вперился вдаль. Уже чувствовалось дыхание севера. Облака нависали ниже. Все меньше становилось полей, больше – нетронутых лугов, порыжевших, бурых, седых от пуха и метелок, клонящихся в разные стороны. Леса здесь были угрюмее. Осины росли не куртинами, но вперемежку с раскидистыми березами, попадалось все больше елей. И лица стали скуластее – какие-то другие: неправильные, но в самой неправильности их заключалась красота и дикая свежесть.
Они въехали в Кутерьминку, однако не повернули вдоль реки, в сторону гуру, а пошли прямо, на мост. С грохотом перенеслись через светло-коричневый, бурный поток – за мостом стояли две милицейские машины, но их не остановили – и вонзились в золотой гигантский частокол тайги, навевающий представление о древних великанах, населяющих бескрайний лес. Черный с зеленым отливом шатер хвои уходил ввысь и терялся за собственными сверкающими куполами. Веселое шоссе, с белыми столбиками и разметкой по сторонам, змеилось среди корабельного бора, с падающими стволами, с буреломом, с деревьями, лежащими на деревьях, с непроглядной тьмой в глубине.
Дорога была широкая, ровная – они мчались, завороженные мельканием солнца и сосен, забыв о цели своего путешествия, и проехали нужный поворот. Борисыч остановился и, глядя в зеркало, стал разворачиваться. Они вернулись к перекрестку, на котором стоял указатель: "с. Халдеево – 13 км.". Повернули на ухабистый проселок, он весь был изрыт колеями и вел в дальний березняк. В лесу дорога часто разделялась на несколько объездов, но и они были разбиты не меньше главного пути. Их кидало и подбрасывало чуть не до самой крыши; грузовик скрипел, словно корабль во время шторма. Тут и там виднелись вросшие в колеи ветки и сучья, как напоминание о тех, кто пытался проехать здесь в распутицу.
– Если пойдет дождь, мы отсюда не выберемся, – сказал невозмутимо Борисыч. Андрей ничего не ответил, он был занят изучением карты.
– Правильно едем? – спросил Саня.
– Да вроде… – сказал неуверенно майор.
После березняка началась обширная пустошь, перемежающаяся зарослями ивняка и болотцами, поросшими камышом. На ее краю снова вставал бор.
Сосны, в два обхвата, расступились, и они въехали под их сень. Солончаковый проселок сменился песчаной дорогой. Вдруг слева мелькнула голубая полоска и побежала, прерываемая колоннадой стволов, словно трассирующая очередь.
– Лунево озеро, – сказал Андрей. – Правильно едем.
Они подъехали к просеке, ведущей к воде. Пляж был пуст. Борисыч сбавил скорость и остановился.
– Ну что, искупнемся? – спросил он, стягивая рубашку прямо в кабине. – Да и перекусить не мешает, неудобняк приезжать к незнакомым людям голодными.
Вода была голубой и прозрачной. Перед стеной начавшего желтеть рогоза, с черными сигарами соцветий, окаймлявшей все озеро, колыхался настил из кувшинок. Сразу за рогозом вставал бор, поэтому казалось, что озеро находится на дне широкого колодца. Для спуска к воде были срублены подгнившие уже мостки. По ним они миновали полосу кувшинок, и вдруг Борисыч воскликнул:
– Смотри! И тут новый русский поселился – целый замок себе отгрохал!
На другом берегу наполовину скрытый соснами стоял кирпичный терем под серой черепицей, с балюстрадой вместо карниза. Все сооружение было обнесено высокой стеной и напоминало замок с четырехугольным донжоном в центре. По углам стены по всем правилам высились над выступающими бастионами квадратные башни.
– Да, серьезная фортификация, – произнес Андрей и бросился вниз головой в воду.
"Перекусить" расположились на слабеющем уже солнцепеке, разостлав одеяло. Потом Борисыч мечтательно закурил и проговорил:
– Я, наверно, чего-то недопонимаю… В природе вроде бы все друг друга поедают – и все равно тут душой отдыхаешь. А в городе никто никого не ест – ну, может, и едят, но не так явно, – а чувствуешь себя гораздо хреновее. Почему так?
– Не знаю, – ответил Андрей, посасывая соломинку. – Наверное, потому что-о…
– Почему – что?
– Потому что… тут хоть и царит жестокость, но нет лицемерия, фальши – все открыто. – Он не сводил глаз с замка на другом берегу.
– То есть получается: человек стал хуже по сравнению с дикой природой?
– Конечно. А для чего же еще он был создан? Чтобы, как можно, глубже погрузить мир во зло. Однако вопреки божественному замыслу всегда появлялись люди, которые не хотели увеличивать страдания и других отговаривали. Их поэтому и называют гениями, то есть даймониями, духами. Собственно, они уже перестали быть людьми и приобрели новую сверхчеловеческую природу. Правда, им приходилось говорить, что бог добр и что злые поступают против его воли, иначе бы их не послушали, – а может быть, они сами в это верили. Но их становилось все больше и больше, несмотря на то, что их жгли, распинали… Слушай, за нами кто-то наблюдает из замка: окуляры сейчас блеснули на башне… – Андрей приподнялся, опершись на руку.
Борисыч, как лежал, так весь переворотился и подскочил:
– Где?..
Андрей указал на выступавшую ближе всех башню. Там действительно на мгновение что-то сверкнуло и пропало. Или им привиделось, что сверкнуло…
– Может, зеркало или еще что-нибудь…
– Ты спугнул.
– Да ну, кому мы нужны?
– Кому?.. Ты сам знаешь Кому.
– Так это, ты думаешь?.. – Борисыч замер и, как завороженный, глядел на замок. Только шуршание ветра в кронах да шелест камыша нарушали тишину. И вдруг он засуетился, не зная за что хвататься. – Ну так, поехали скорей, чего еще ждать!
– Я что-то не пойму, – спрашивал Саня уже в машине, – если Он есть в тебе и во мне, зачем ему еще являться в материальном обличии?
– Для концентрации вокруг себя той энергии, которая ослабла в нас, чтобы нанести по нам упреждающий удар. – Андрей произнес это с каким-то ожесточением, глаза его сузились и заблестели.
"Эге, – подумал Борисыч. – Нет, таких мы еще не видали".
Они ехали с полчаса, пока не выбрались из леса. Их взорам сразу открылась полуразрушенная водонапорная башня, с похабными рисунками, и другое озеро, на этот раз справа от дороги. Весь берег здесь был изрыт копытами. Поднялись на взгорок и увидели деревню в одну улицу. Халдеевка расположилась в вырубленном в тайге прямоугольнике, со всех сторон ее обступал сосняк. Следуя объяснениям гуру, проехали в другой конец и остановились у последнего дома.
Дом стоял на отшибе, и там, где должен был заканчиваться огород, снова поднимался бор. Андрей хотел толкнуть калитку, но во время заметил, что она просто прислонена изнутри к штакетнику. Гнилой забор напоминал беззубую расческу. Под нижним, словно обгрызенным венцом домового сруба выстроились аккуратные горки ржавой трухи разной высоты – работа древоточцев.
– Может, тут никто не живет, – предположил Борисыч.
– Да вон вроде белье сушится. – Андрей указал на пару раздутых, как паруса, рубашек в огороде. Он отодвинул калитку, и они прошли внутрь. Посреди двора валялось дырявое корыто, на крыльце веник и чуни. Само крыльцо было сильно перекошено, не хватало двух или трех досок, на их месте зияли огромные щели. От большинства построек сохранились только покривившиеся каркасы, очевидно, они были разобраны на дрова.
Андрей постучал в окно и остался ждать внизу у крыльца. Где-то в глубине дома что-то слабо стукнуло, и снова настала тишина. Потом осторожно скрипнула какая-то дверь, и вновь все стихло. Борисыч показал на выпавший сучок в дощатой стене рядом с дверью: в отверстие на них глядел чей-то глаз. Глаз сразу скрылся.
– Алексей Зернов здесь живет? – спросил громко Андрей.
– Его нет, – проговорил, откашлявшись, сонный голос. – Что передать?
– Когда он будет?
– Не знаю: уехал, ничего не сказал.
– А вы кто?
– Я его брат, – отвечал из-за дощатой стены все тот же голос.
– У него нет брата, – недоуменно пожал плечами Андрей.
– Я – двоюродный, – ответили за стеной. – Так в чем дело?
– Ну, передайте ему, что приезжал Андрей Зубов, хотел с ним повидаться…
В сенях послышался какой-то шорох, звякнул крючок и, соскочив с порога, отворилась просевшая дверь. Из нее, сильно согнувшись, вышагнул с отмашкой немалого роста "человек брадатый и лохматый". На нем был брезентовый оверкот, который он держал запахнутым на груди. Под оверкотом, очевидно, не было ничего, как и на журавлиных, безволосых ногах, длинные пальцы которых он загибал кверху. Человек склонил большую голову на бок и недоверчиво посмотрел подслеповатыми глазами на Борисыча. Поймал ногой одну, потом вторую чуню и, наступая в шахматном порядке на заскрипевшие, прогибающиеся ступеньки, спустился с крыльца.
– Ну, здравствуй, – протянул он Борисычу руку.– Тебя не узнать…
– Он – Андрей, – показал Борисыч на Андрея. Человек выпучил маленькие глаза на майора и протянул руку ему.
– А что, теперь в армии с косами ходят? – спросил он. Кисть у него была длинная, сухая.
– В нашей с Сашей ходят. – Андрей представил Борисыча и спросил: – Ты от кого прячешься?
– От энергонадзора: у меня там … ну, химия, в общем… – сказал Алексей, запахиваясь в оверкот поглубже.
– Неужели и до вас доезжают? – спросил Андрей.
– Доезжают… Ну, пойдемте в дом, только наступайте на те же ступеньки, что я. – Он стал подниматься, показывая куда ставить ногу: – На эту не вставайте, а с этой сразу сюда… Это специально для надзора ― капканы, – объяснил хозяин.
─ Ловухи! ─ отозвался сзади весело Борисыч.
Они прошли темные сени и оказались в комнате с русской печью. Здесь царил беспорядок, который, по всей видимости, должен был остановить прорвавшихся через крыльцо контролеров. В доме пахло плесенью, гнилыми тряпками.
– У нас ремонт, поэтому такой разгром, – продолжал Алексей извиняться и в то же время прятать какие-то вещи в перевернутую постель. – Я сейчас… – Он ушел в другую комнату.
Это была обычная пятистенка. Пока хозяин одевался, они смогли осмотреться. В ногах кушетки установлен на табуретке старый черно-белый телевизор. Он шипел и показывал мутный негатив. Перед диваном – кухонный стол с неубранной посудой, объедками и шелухой от семечек. По столу, словно среди сюрреалистического ландшафта, бродили мухи. В углу в изголовье кровати возвышался книжный шкаф, наполовину заполненный какими-то папками, школьными учебниками, "философским наследием", а наполовину книгами по строительству и ремеслам: "Как построить сельский дом", "Баня своими руками", "Бочарное искусство" и т.п. Все устроено было, по-видимому, так, чтобы легко доставать с дивана: и книги, и стол находились на расстоянии вытянутой руки. Вот только до телевизора не дотянуться. В другом углу стояла газовая плита с баллоном, у входной двери рукомойник, вокруг которого весь пол уже сгнил. Под ним переполненное ведро с белесыми помоями.
– Я тут холостякую – бардак развел… – сказал Алексей, выходя к гостям. – Что ж вы не садитесь? – садитесь куда-нибудь.
Однако сесть было некуда: на табуретках лежала одежда и книги. Хозяин сгреб все в кучу и кинул на холодильник, но промахнулся, и половина посыпалась на пол. Движения у него были размашистыми, с перехлестом. Во время ходьбы он словно подгребал под себя руками и выбрасывал вперед ноги. Не было ни одного косяка, стула, который бы он не сшиб по дороге. Наконец он нашел очки, и стулья стали падать реже. Он тут же принялся наводить порядок: застлал одеялом кровать, сгреб грязную посуду в таз (при этом разбил стакан), поставил на электрическую плитку кастрюльку с водой.
Борисыч достал из сумки банку тушенки и две бутылки водки.
– Это бы не к чему… – проговорил манихей, почесывая задумчиво спину.
– За знакомство… Чтоб разговор завязался, – сказал Борисыч и тут же распорядился, чтобы предупредить все возражения: – Ну-ка, убери пока в холодильник. – Он уже чувствовал себя как дома. Сейчас и Андрей подумал, что водка не помешает: разговор не клеился, как если бы стал виден скрытый механизм беседы, который скрипел и застревал, и все внутренне морщились из-за этого скрипа. Алексей время от времени замирал в нерешительности, словно не совсем понимал, что он, вообще, тут делает.
Хозяин убрал водку в холодильник и достал оттуда соленые грибы и капусту. Потом высыпал рис в кастрюльку и стал там помешивать.
– Как у вас тут с грибами? – спросил Борисыч.
– Нормально… – сказал Алексей и прибавил, чтобы смягчить ответ: – Жена в город уехала, а то бы грибные места показала.
– А давайте по соточке – чтобы рис варился, – предложил Борисыч. Тут же сам извлек из холодильника водку и налил в приготовленные мензурки с делениями. – Ты смотри, – восхитился он. – Так даже удобне́е: сразу видно, кому сколько налито.
И они выпили «за встречу».
Тотчас же стало просторнее и светлее. Алексей вывалил в рис тушенку, сказал, что будет плов. Андрей почувствовал, как расширяется мир, как он наполняет его собой и даже начинает любить. И до чего было приятно хрустеть огурцом после обжегшей внутренности огненной горечи, наполнявшей его беспричинным ликованием, как и он ― мир.
– Сначала человек пьет молоко матери, а потом – водку, – проговорил после второй Алексей. – Это изрек один философ, – правда, ничего путнего он больше не родил…
– Ты же университет закончил. Я помню: в школе на олимпиадах первые места занимал… – начал издалека Андрей. – Как ты с твоей головой в этой дыре оказался?
– А город – не дыра? или Москва – не дыра? – с раздражением, скорее, на остатки собственной скованности отвечал Алексей. – Париж, Нью-Йорк, – все это большие дыры. Я бы еще дальше, на Алтай, уехал, если бы деньги были.
– Почему на Алтай? – спросил Борисыч.
– Там природа другая – горы… Так что лучше жить в маленькой дыре, чем в большой.
– Я тоже так считаю, – сказал Борисыч, цепляя на вилку целый груздь. – В деревне совсем другим человеком становишься, правда, Алексей?
– Нет, все-таки университет не за тем заканчивают, чтобы потом в глуши себя похоронить, – продолжал Андрей вызывать хозяина на откровение.
– Я даже больше скажу: диссертацию пишут не для… в общем, не для этого, – начал с подъемом Алексей, но вдруг осекся, очевидно, передумал развивать тему. – В городе у меня бессонница, голова болит – задыхаюсь там…
– А ты диссертацию написал? – удивился Борисыч, жуя скомканный пук лука. Он сидел с прямой спиной и повел себя немного чопорно, услышав, что Алексей бывший диссертант.
– Был грех, когда еще преподавал в универе, – сказал тот. Он навалился на стол локтями и походил сейчас на большую нахохлившуюся цаплю, поправлявшую очки.
– Какой предмет вел, если не секрет? – спросил Борисыч.
– Самый бессмысленный – философию.
– Что так? разочаровался? – проявил живой интерес Андрей.
– Да нет, как раз наоборот – в том-то и беда. Ученый должен относиться к своей дисциплине, как жрец к священной корове. Хоть она и священное животное, но можно иногда пинка дать, когда никто не видит. А я не мог: слишком всерьез все было.
– И какой ты философии придерживаешься? – снова спросил Андрей.
– Никакой уже. Смотрю просто на жизнь и жду, что будет дальше. И даже не жду, потому что все и так известно…
Разговор не получался: не хотел манихей вот так с наскока раскрываться, почти физически ощущалось его сопротивление говорить о чем-то серьезном. Андрей решил не припирать к стене: глядишь, сам разоткровенничается – а так еще дальше уйдет в себя. Он помнил эту черту школьного друга. Борисыч пустился в расспросы о возможностях бутылочного бизнеса "в здешних местах".
– Навряд ли что-то здесь соберете… А пойдемте на крыльцо, возьмем с собой водку, закусь. Погоды стоят отменные – что в избе париться? – предложил Алексей, и они, прихватив бутылку, рюмки, тарелки, вышли на крыльцо. Там расселись на ступеньках в порядке, который указал манихей.
– Огурцы у тебя Леша, выдающие, – похвалил Саня. – Собственного посола?
– Жена солила. Овощи – мои священные животные, – сказал тот не без гордости.
Они полулежали на разостланном одеяле, опершись на ступеньки, и смотрели на чернеющие ели и сосны, на голубое, прозрачное небо над ними, подрумяненное гаснущим закатом.
– А массажер тут у вас продать можно? – спросил Борисыч. – Дорогой – Голландия.
Алексей надолго задумался, стараясь, по-видимому, ответить точнее.
– Не-ет… Тут ты его никому не продашь. Если еще километров тридцать проехать, дальше есть большая деревня. Там председатель богатый, – может, он купит. Но я вам туда ехать не советую.
– Почему?
– Место нехорошее. Болота… и вообще… – Алексей смотрел прямо перед собой, потом поправил очки и продолжал: – Фамилия у него Швачко. Устроилась эта Швачка не хуже лендлорда. У нас бывшие председатели такую власть взяли, какая помещикам не снилась. Все у них: зерно, корма, лес, техника. А этот – просто рабовладелец: крестьян на площади порет. Восстановил колхоз сталинского образца. Правда, раздал часть земли, но ввел подушное обложение и теперь со своими опричниками собирает подать. Раз в неделю каждый должен отработать барщину на его наделе. Говорят даже, учредил право первой ночи: если понравилась ему девушка, ведут сначала к нему, а потом под венец. Содержит у себя целый гарем: не можешь вернуть долг, отдай жену или дочь на месяц-два, в зависимости от размера долга, – якобы в работу…
– Стоп! Я что-то не пойму: мы в каком веке живем? – Андрей привстал даже.
– Ты что, веришь, будто есть какое-то время и что-то изменяется?
– Человек меняется – черти не меняются, – сказал категоричным тоном Борисыч.
– Ну и что, они не могут на него управу найти? – спросил Андрей, чтобы возобновить разговор о председателе.
Алексей внимательно посмотрел на Борисыча и потом ответил:
– Пытались – одних посадил, других запугал. Несколько человек пропали бесследно, и никто их не ищет ─ места глухие. У него в друзьях – прокурор района и начальник милиции. Сын женат на дочери главы районной администрации. А первый зам губернатора у него каждую зиму на охоте.
– Почему они его не повесят – я имею в виду крестьян – или на вилы не насадят?
– Его голыми руками не возьмешь. Он всю родню сюда перевез: братьёв, дядьёв с семьями. Создал из них что-то вроде дружины, вооружил якобы для охраны скота от воров. На самом же деле – себя и своих присных от крестьян, и вся эта свора кормится теперь за их счет. Построил что-то вроде крепости за деревней и живет там со своей челядью. Выходит оттуда только под охраной. Да и народ у нас смирный, лишь погалдеть мастера…
– Пусть тогда уйдут от него, – сказал Андрей.
– Чтобы уйти, уехать, нужны деньги, паспорта. Он же зарплату не платит, в город их торговать не пускает, товар из своей лавки под запись по дорогой цене им сбывает. Паспорта отнял – и вот сидит этот паук в своем углу, плетет паутину…
– Это не его замок около озера мы видели? – перебил вдруг Борисыч.
– Видали да? – поднял глаза Алексей. – Нет, у него попроще, я думаю. Куролесовка совсем в другой стороне. А этот несколько месяцев назад как из-под земли вырос. Только вы туда не попадете, и близко не подъедете: там охрана кругом – ротвейлеры, ризены. А чей он, даже деревенские не знают. Хотя народ у нас дошлый, обычно все выведают. Никто хозяина замка ни разу не видел. Говорят, только черный "мерин" из ворот выезжает и заезжает потом, но никто из него не выходит. Он там себе асфальт до самого шоссе проложил.
При упоминании о "мерседесе" Андрей с Борисычем переглянулись, но ничего не сказали.
– Это озеро у нас считается целебным… Пойду еще огурцов и грибков принесу, – сказал Алексей, поднимаясь. Наступил в тарелку и ушел в дом.
– Черный "мерин" – не наш ли знакомый? – спросил Борисыч, как только манихей скрылся за дверью.
– Мало ли черных "мерседесов". Потом, тот был не черный, а темно-зеленый, – сказал Андрей, вылавливая вилкой последний гриб из банки.
– Разбираются деревенские, где черный, а где зеленый! – возразил Борисыч.











