Читать онлайн Побежденный. Барселона, 1714
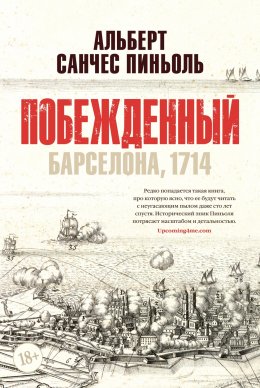
Pugna magna victi sumus.
Тит Ливий[1]
© Н. Аврова-Раабен, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®
Предисловие
Некоторые из читателей, которые ознакомились с первым вариантом рукописи, спрашивали меня об исторической достоверности описанных в книге событий. В ответ я могу только сказать, что следовал общепринятым правилам написания исторических романов, согласно которым автору следует не отклоняться от документально засвидетельствованных событий, но при описании подробностей личной жизни героев не возбраняется дать волю воображению. Все даты и события, связанные с действиями исторических лиц, все политические и военные операции соответствуют действительному ходу истории. К счастью, Война за испанское наследство и осада Барселоны 1713–1714 годов описаны в хрониках так подробно, что позволяют изучить все детали событий. Так, дебаты в парламенте в Барселоне 1713 года были буквально воспроизведены мною по документам той эпохи. Даже в том, что касается второстепенных персонажей, я предпочел следовать историческим источникам. В них можно найти свидетельства безумия супруга Жанны Вобан, пытавшегося создать философский камень, стычки в Бесейте, когда Сувирия знакомится с Бальестером, гибели доктора Басонса и атаки студентов факультета права во время сражений в августе 1714-го, а также событий, связанных с экспедицией военного депутата. Это лишь некоторые факты, которым можно найти подтверждение. Совещания Бервика, приведенного в отчаяние сопротивлением жителей Барселоны, с офицерами его генерального штаба можно проследить как по хроникам, так и по автобиографии этого полководца. Даже большая часть ругательств, которыми генерал Вильяроэль осыпает героя романа, Марти Сувирию, были позаимствованы мною из различных документов, хотя в этом случае там указывается, что генерал обращался «к одному из офицеров». Что же касается самого Сувирии, то в исторических хрониках он упоминается редко и приводимые при этом сведения не отличаются точностью. Он фигурирует то как «генеральный адъютант» генерала Вильяроэля, то как переводчик, то как член различных комиссий и даже выступает координатором внешних сношений города во время осады. Как бы то ни было, он оказался среди тех немногих высших офицеров проавстрийской армии, участвовавших в обороне Барселоны в 1713–1714 годах, которым удалось достичь Вены и избежать таким образом преследований со стороны режима Бурбонов.











