Читать онлайн Это было давно: Дневники. Воспоминания. Путешествия
- Автор: Алла Демидова
- Жанр: Биографии и мемуары, Книги о путешествиях
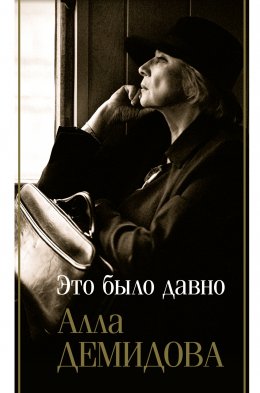
© А.С. Демидова, 2024
© МИА «Россия сегодня»
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Часть первая. Путешествие на озеро Гарда
Одну половину жизни я разбрасываю вещи, а другую половину жизни я их собираю. Так проходит жизнь. В вечных поисках нужной квитанции или куда-нибудь засунутой любимой книжки. Если, например, я снимаю платье, я его не вешаю аккуратно в шкаф, а бросаю на стул или диван. Постепенно там образуется куча вещей, в которой очень трудно найти нужную тебе кофту, а если все-таки ее находишь, то она мятая-перемятая, а гладить я ненавижу. Вы скажете: «Какая неряха!» Но я думаю, что это чисто профессиональная актерская мерзкая привычка. В театре и в кино за костюмами следят костюмеры. А так как 90 процентов твоего времени – в профессии, то нет необходимости учиться вешать вещи аккуратно на плечики и расставлять все по полочкам.
С годами вещей становится все больше и больше.
Как хорошо было в молодости! Мы с мужем переезжали с одной съемной квартиры на другую с одним чемоданом. А когда я приехала на кинофестиваль в Карловы Вары в 1968 году с фильмом «Шестое июля», то портье удивленно спросил: «А где ваши вещи?» – потому что в руках у меня была небольшая дорожная сумка, в которой лежали два шелковых платья. Все!
Помню, смотрела я как-то давно спектакль по пьесе Беккета. На сцене стояли два больших мусорных ящика и в одном жила мама, а в другом отец, и их сын перебегал от одного ящика к другому. Смотрела я этот спектакль на непонятном мне языке, может быть, что-то я там не так поняла, но только надолго запомнила эти мусорные контейнеры – «Pubelle», – в которых живут люди.
Так вот, мне тоже кажется, что я сейчас живу в таком «пубелле». За всю жизнь накопилось много ненужных книг. Например, старые телефонные справочники кинематографистов, по углам рассованы рукописи моих книг и сценариев моего мужа, на полках стоят какие-то привезенные из дальних стран безделушки, которые жалко выбрасывать, ибо с ними связаны воспоминания. В шкафах пылятся платья, вышедшие из моды, но, может быть, они когда-нибудь пригодятся, ведь мода возвращается. А мои концертные платья! А мои старые игровые костюмы!
И вот в этом бедламе я часто натыкалась на странную папку, в которой лежала тетрадка в линеечку, и там каллиграфическим почерком были написаны чьи-то воспоминания о путешествии. Тетрадка была без начала и конца. Кто писал эти воспоминания – неизвестно. Я пробовала их читать, но тетрадка опять надолго пропадала в моих завалах бумаг.
И вот однажды она мне опять попалась на глаза, я ее наконец прочитала, позавидовала неспешности рассказчика о поездке на озеро Гарда на севере Италии и подумала: «А почему бы и не поделиться этими записками с другими людьми».
Есть один литературный прием: где-то, предположим, найдена рукопись неизвестного автора, и другой уже автор публикует эту рукопись со своими краткими комментариями.
У меня оказалась такая рукопись, вернее дневник неизвестной мне женщины. Кто эта женщина – я так и не поняла. Равно как и не поняла, каким образом эта рукопись оказалась в нашем доме среди моих старых бумаг, писем, дневников и маминого архива.
Может быть, читателю будет интересно, как и мне в свое время, познакомиться с этой рукописью. Поэтому я и решилась опубликовать этот дневник.
Но только советую читать не «по диагонали», как мы привыкли, а не спеша, не торопясь. Медленно. Тогда вместе с автором этого дневника переместитесь точно в другое время.
«Время бежит? – писал Конфуций. – Бежите вы! Время стоит!»
Дневник-воспоминание 1911 года
19 июня 1911 года в 9 часов вечера на Брестском вокзале в Москве к одному из вагонов отходящего в Варшаву, а затем далее за границу поезда, собралась та полусотня людей, которым с этого дня предстояло 6 недель жить общей жизнью. Жизнью интенсивной, так как для огромного большинства отъезжающих впечатления от заграничной жизни и культуры совершенно новы. Короткое прощание с провожающими, остающимися родными и близкими; прощание без тоски и печали, по крайней мере со стороны уезжающих, слишком занятых предвкушением нового, – и поезд тронулся.
После суеты и небольших пререканий, все оказались на своих местах и начали жадно всматриваться в соседей, с которыми свела их судьба на такой интересный, полный ожидания перемен отрезок времени, который в будущем мог изменить их жизнь.











