Читать онлайн Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 2. Скептицизм и пессимизм
- Автор: Валерий Алексеевич Антонов
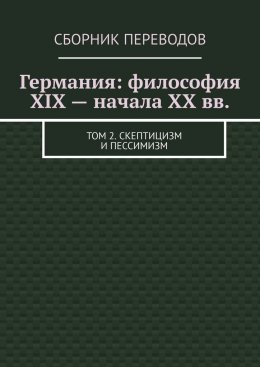
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-7774-2 (т. 2)
ISBN 978-5-0064-7775-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Данное собрание из 7 томов включает следующие тома: 1 том «Причинность и детерминизм», 2 том «Скептицизм и пессимизм», 3 том «Идентичность», 4 том «Вещь, объект», 5 том «Номинализм», 6 том «Иррациональность», 7 том «Материализм».
Эрнст Платнер (1744 – 1818)
О критике высшей способности познания
§693. Критика высшей познавательной способности рассматривается здесь только в той мере, в какой она вытекает из высшей логики, и, таким образом, только в связи с вопросом о возможности системы метафизики. [Даже если господин Кант чувствительно отнесся к отказу от чести быть первым, кто придумал критику разума, я надеюсь, нельзя оспаривать, что критика познавательной способности, особенно в новейшее время, была центральной темой философии. Труды Локка, Лейбница, Вольфа, Юма, Рида и Тетенса наполнены исследованиями, направленными на это].
§694. Можно представить себе два типа такой критики: догматическую и скептическую. Природа каждого из них будет раскрыта в следующих рассуждениях.
§695. I. Догматическая критика стремится измерить пределы всей познавательной способности и таким образом с демонстративной точностью определить границы метафизики. Она отчасти предполагает определенность исследуемого ею аппарата познания, предполагая определенность самого аппарата познания и типов выводов, которые при этом возникают.
§696 Подробной догматической критикой является кантовская.
Элементами ее являются следующие отчасти психологические, отчасти диалектические идеи: Широкое отделение чувственности от рассудка, интуиции от понятия; различие аналитических и синтетических суждений a priori и недостаточность первых для метафизики; отношение категорий к предметам; отношение предметов к категориям. Ограничение способности познания опытом, а разума – идеями без предметов. Антиномия разума. Вера по причинам, которые скорее субъективны, чем объективно достаточны.
§697.1 Широкое отделение чувств от рассудка, а представления от понятия.
Как можно доказать, что чувственность так отделена от рассудка в способности воображения, как в аналитике? Разве это не тот же самый орган воображения, который получает впечатления, а затем формирует их в понятия? По какой причине мы утверждаем, что формирование чувств (в пространстве и времени) и формирование рассудка (в категориях) – это два совершенно разных действия, и что пространство и время – это совершенно отдельные от категорий способности воображения? Не являются ли пустые, десенсуализированные, формальные категории, возможно, просто логическими разделениями? Как доказать, что они формально содержатся в познавательной способности в качестве основных способностей? На каком основании исключается объяснение, согласно которому основные способности факультета познания заключаются в способности представлять себе высший вид мыслимого – материальный мир? Не будет ли, таким образом, схема формой восприятия, частью понятия и неотделимой от него? Если чувственность – всего лишь страдательная способность, то как она может смотреть? Почему интеллект не может одновременно и смотреть, и мыслить? Какое противоречие мешает этому?
[Abel’s «Plan einer systematischen Metaphysik», page 73. Christian Gottlieb Selle’s «Grundsätze der reinen Philosophie», page 26. Brastberger’s «Untersuchungen über Kants Kritik», page 28, 36. Г-н Маймон, в остальном друг кантовской системы, также находит это разделение неестественным; «Transzendentalphilosophie», page 63, 183. Поскольку эта посылка действительно является основой всей критики и имеет наибольшее значение при критическом рассмотрении способности воображения, я хотел бы, чтобы она была доказана либо г-ном Кантом, либо г-ном Рейнгольдом. Пока же мне кажется, что категории и формы чувствительности – познания – все еще не более чем метафора. В конце концов, я перехожу к способностям.]
§698.2 Различие между аналитическими и синтетическими суждениями a priori и неадекватность первых для метафизики.
Разве нельзя доказать реальное отделение форм чувственности в способности представления от форм рассудка, восприятия от понятия; разве категории могут быть изначально связаны с определениями пространства и времени и в этом отношении изначально чувственны: что же тогда вызывает необходимость в искусстве синтеза и схематизма? Как можно представить себе понятие без всякой схемы, т.е. способность представления без способности созерцать то, что представляется? Но ведь каждое понятие априори связано с априорным восприятием (то есть способностью к форме восприятия): не будет ли тогда то, что содержится в восприятии, содержаться и в понятии? В соответствии с этим не будут ли все суждения аналитическими,1 за исключением математических суждений? Более того, не состоит ли различие между аналитическими и синтетическими суждениями обычно лишь в том, что в первых предикат содержит субъект, а во вторых субъект содержит предикат?.2
§699.3 Отношение категорий к предметам.
Является ли вывод: поскольку предметы опыта возможны не иначе, как через разумные категории; следовательно, пустые категории обладают объективной реальностью: также убедительным и достаточным для так называемой дедукции?3 Каким неинформированным объяснением можно было бы избежать возражения, что все, что здесь называется объективным, в конечном счете является лишь субъективным? Ибо объективны ли познания, если я отношу их к предметам, которые, однако, являются чем-то произведенным моей способностью представления, а значит, по большей части чем-то субъективным? Не должны ли мы признать общую субъективность человеческого познания, если от объективности не может спасти ничего, кроме имени? Является ли кантовская необходимость также чем-то иным, чем субъективная необходимость мыслить предметы таким образом?4 Не является ли, таким образом, преувеличением утверждение, что природа управляется нашим познанием, а не наше познание природой? Не является ли эта мысль, в более умеренном смысле и выражении, верной, даже если форма нашего представления имеет некоторую аналогию с формой природы и определяется ею? Если эти сомнения имеют какое-то значение, то не будет ли все отношение категорий к предмета излишним, а отношение предметов к категориям достаточным?
§700.4 Отношение предметов к категориям.
Почему здесь рассматривается только время, а не пространство? Если, в силу отделения форм чувственности от форм рассудка, мы предполагаем, что время, как форма чувственности, отделено от категорий, то как категории, до того как они чувственно восприняты, могут находиться во времени? и как к ним могут приходить определения времени? Но если они приходят к ним сами по себе, то как они сначала соединяются с ними? Иначе что значит сказать, что категории стоят под условиями времени? Не противоречит ли это отделению чувственности от понимания? Не должны ли мы впредь объяснять отношение объектов к категориям следующим образом? Категории – это врожденные способности к восприятию высших видов мыслимого, и в этом отношении они являются понятиями: если в восприятии происходит нечто, аналогичное характеристикам одного из этих понятий, то восприятие подводится под это понятие, т. е. ему придается эта форма мыслимого. Откуда мы знаем, что, поскольку вещи сами по себе являются вещами, они не оказывают никакого влияния на форму наших представлений, что, как только они погружаются в первичные формы чувственности, все растворяется в грубом, бесформенном многообразии, что, следовательно, для формы представлений нет никакого реального основания, кроме способности воображения? Неужели мысль о возможной аналогии вещей в себе с нашими представлениями уже тождественна нефилософскому утверждению, что представления – это отпечатки или образы вещей в себе?5 Если ничто в вещах самих по себе не соответствует формам наших представлений, то как критическая психология объясняет тот факт, что сейчас я представляю себе субстанцию, а в другое время – случайность? Без того, чтобы нечто не определяло формы чувствительности, а затем через них формы понимания, к той или иной концепции.6
§701.5 Ограничение способности познания (и, следовательно, всякой уверенности) чувственным опытом, а разума – идеями без предметов.
Не является ли определение слова «познание» слишком произвольным? На чем основано различие между чувственным опытом и разумом, которое считается столь существенным в свете определенности? В трансцендентальном идеализме не являются ли предметы представления его собственными продуктами? И если в этой системе предполагается существование вещей-в-себе: как это происходит, кроме как через разум? Или же реальность также не может быть познана из вещей-в-себе: что есть познаваемые явления, как не субъективные изменения способности представления? и что есть объекты, которые так характеризуют чувственное познание опыта? Неужели идеи разума не имеют предметов потому, что разум не принимает чувственный способ представления и отрицает чувственные предикаты тех же предметов? Если трансцендентальный идеализм оставляет открытым вопрос о том, все ли мыслящие существа наделены чувственной формой способности представления, то не ограничивает ли он тем самым утверждение, что весь возможный опыт должен быть чувственным? Если в действительности человеку не дано никакого другого опыта, кроме чувственного: почему разум, отрицая предикаты чувственного опыта своих предметов, не может поместить себя в нечувственный опыт? Разве трансцендентальный идеализм сам не помещает себя в такой опыт, объявляя единственную возможность чувственного опыта немыслимой? Если разум должен отказывать своим предметам в чувственных предикатах из-за идеи возможного и необходимого: не должен ли он тогда убедиться в нечувственности или сверхчувственности своих предметов Как рассудок может уклониться от правила разума? Почему он должен скорее думать о противоречивом, чем допускать отрицание чувственных предикатов? Если нечувственный предмет связан с чувственным предметом с помощью закона разума, то не признается ли его существование разумом косвенно? В чем, кроме как в отношении представления к предмету, состоит цель чувственного познания опыта? Но разве идеи разума также не связаны с предметом? Или почему трансцендентное не может быть предметом? Разве учение, отрицающее этот вопрос, не предполагает всегда произвольно, что всякий предмет должен быть чувственным?
§702.6. Умаление принципа противоречия.
Не покоится ли это умаление целиком на насильственном отделении чувствительности от познания и на зависимом отделении интуиции от понятия? Почему этот принцип представлен только как правило того, что логически мыслимо, а не как источник пропозиций основания и необходимости? Если, в зависимости от принципа противоречия, наш разум не может мыслить (хотя и только логически) необходимое: как можно не мыслить предмет, небытие которого противоречит принципу причинности и существование которого, таким образом, необходимо? Не является ли невозможность мыслить о чем-то как о нереальном признанием реальности предмета мысли? Разве необходимость признания чувственного мира принципиально отличается от невозможности не иметь представления о нем?
[Я предпочел бы считать, что не вполне понимаю утверждение о сознании, выдвинутое г-ном Рейнгольдом вместо принципа противоречия в качестве высшего принципа философии, в его значении или объеме; а не думать, как предполагает автор «Энесидема» на странице 60, что этот проницательный философ упустил из виду, как утверждение о сознании явно предполагает утверждение о противоречии. Ведь действительно, если эта достоверность не установлена сначала, то предмет может быть связан с представлением в той же мере, в какой представление может быть связано с предметом, или даже вообще ни с чем. Однако сам г-н Рейнгольд отмечает («Основание философского знания», стр. 85), что утверждение о сознании не должно противоречить утверждению о противоречии: ограничение, которое Кант также неоднократно повторяет в отношении своих синтетических суждений, что никогда не имело для меня смысла]. Ибо не противоречить принципу и быть подчиненным ему: как это различается? И в любом случае не был бы Энесидем, по крайней мере, прав, говоря так (стр. 127): Таким образом, S. d. B. есть также только пропозиция, которой не могут противоречить другие пропозиции, поскольку они, следовательно, не подчинены ей; см. Schwab, «Über die Reinholdischen Beiträge; in Eberhard’s Magazin IV. 3. Крузий, который в своей системе должен был доказать многие понятия, которые не должны быть освещены ярким светом положения противоречия, отвергает его; выдвигая его снова под названием principium inconiungibilium et inseparabilium, но выражая высший принцип в истинном круговом утверждении так: Что не может быть мыслимо иначе, как истинным, то и есть истинное. («Метафизика», §258) Но теперь возникает вопрос, какова характеристика того, что нельзя мыслить иначе, чем истинным? – Базедов («Филателия», т. 2, §143) ничего не меняет в этом вопросе, желая ввести свое правило противоречивых выражений вместо пропозиции противоречия. – Ламберт («Архитектоника», первый основной раздел, §7) только замечает, что теорема об истине не распространяется на простые термины].
§703. 7 Антиномия разума.
Не является ли то, что так называется, скорее спором воображения с разумом, чем разума с самим собой?
[Антиномия будет обсуждаться в следующих скептических вопросах, где я всегда ее рассматривал].
§704.8 Вера по причинам, которые скорее субъективно, чем объективно достаточны.
Как психологически следует понимать этот вид веры? Где, кроме убеждения чувства, которое совершенно отлично от него, можно найти веру, которая более субъективна, чем объективна? Означает ли это убеждение, когда человек не убежден? Или можно ли быть убежденным, когда человек признает, что пропозиция не является определенной, хотя ради цели он относится к ней так, как если бы она была определенной? Разве такая вера не лишена психологической возможности на данный момент? Не приводит ли эта теория к заблуждению, что вера произвольна? Разве, например, не гораздо естественнее сказать: способность познания вынуждена по законам разума признать реальность Бога истинной, чем: спекулятивный интерес разума требует от неё верить в Бога, потому что разум хочет мыслить телеологическое единство? И если в конце концов мы признаем невозможность отказаться от идей разума, не принимать их: не значит ли это, другими словами, признать, что они имеют для нас реальность? что мы должны быть убеждены в их истинности? Но если мы должны быть убеждены в их истинности: почему, учитывая их неоспоримую субъективность, они стоят меньше, чем столь же субъективные прозрения опыта? [Кант говорит о своей доктринальной вере, что она неустойчива, потому что из нее так легко выбрасываются спекулятивные трудности. Но как практическая вера может быть твердой, для меня психологически непонятно, как и вся эта вера в целом. Даже если установить цель, которая служит вместо причины; даже если быть уверенным (как бы это ни было несомненно), что без практической веры все мои моральные принципы были бы низвергнуты: тогда, даже если вера, то есть истинное убеждение, возможна при отсутствии достаточных причин, являются ли приложения с моральной точки зрения менее достойными страха в человеке, чем спекулятивные трудности? Или они менее способны? Пока что я придерживаюсь мнения, что, когда мы говорим о каком-либо виде убеждения, в первую очередь важно, возможно ли оно психологически. Практическая вера, которую Кант хочет поставить на место теоретической, может возникнуть у некоторых людей даже под влиянием предрассудков в ее пользу и благодаря активным и многократным усилиям, направленным на ее производство: это я допускаю; и таким образом я объясняю то рвение, с которым некоторые смельчаки утверждают ее как реальную. Но что оно, как и полное (хотя и субъективное) убеждение, заложено в природе человека вообще и может существовать постоянно во всех умах, даже при необходимых условиях, я никогда не смогу осознать].
§705. II. Скептическая критика.
Когда умы, обладающие высокой степенью психологической проницательности и диалектической проницательности, обладают особым темпераментом, т. е. даром и склонностью смотреть на вещи с их собственной стороны, рассматривают внутреннее устройство человеческой способности познания и все отношения, от которых зависят понятие, суждение и убеждение, и в то же время смотрят на противоречивые способы мышления и мнения людей: в них возникает некая головокружительная прерывистость, которая делает невозможным всякое убеждение: – пока, наконец, с помощью своеобразного движения ума не выработается и не будет приведено в исполнение решение: ничего не утверждать и ничего не отрицать; отвергать все идеи людей, не принимая ничьей стороны (epoche), и в самых очевидных поводах для веры упорствовать в непоколебимой независимости (ataraxia) – следовательно, спокойно смотреть на загадку мира и отказаться от всех метафизических исследований о нем. Такой образ мышления и есть скептицизм.
[Истинный, совершенный скептицизм, как я его здесь описал, впервые возник в сознании Пирра, великого во многих отношениях человека, прославившегося около 110-й Олимпиады. Его школа, однако, угасла со смертью Тимона, одного из его самых выдающихся слушателей, и была возрождена только во времена третьего триумвирата Энесидемом, из чьих hypotyposei pyrrhoneioi можно прочесть довольно длинный отрывок в Photii Biblioth. Трудно поверить, что все учителя, перечисленные Диогеном (IX. 116) от Энесидема до Секста Эмпирика, были настоящими скептиками. Ведь скептицизм – это образ мышления, который не может распространяться формальными сектами так же, как системами. Предположительно, в своих школах эти люди занимались только расширением и объяснением доктрины Пиррона, которая, по-видимому, очень рано оформилась в определенную форму и, вопреки своему истинному характеру, превратилась в своего рода систему. Основную часть составляют так называемые tropoi tus epoches, которых Секст последовательно рассматривает 17 (Hypot. I, 14—16). Первые десять были написаны самим Пирром, следующие пять – Агриппой, более поздним преемником Энесидема (Diogenes IX, 88). Последние две написаны неопределенным автором. Во всех этих тропах, однако, главная мысль одна и та же: все наши идеи, без исключения, лишь субъективны: следовательно, нет никакого постижения в способности представления, а значит, нет и образца истины (Sext. Emp. P. H. II. 4—7). С незапамятных времен к скептицизму причислялись многие виды учения, которые не имеют истинного характера, я имею в виду эпохею и атраксию. Поэтому Секст не хочет признавать скептиками даже академиков, за исключением Аркесилая. А Энесидем исключает и его, потому что он, по крайней мере, утверждал, что ничего нельзя утверждать: но это противоречит свидетельству Цицерона. Аркесилай считался учеником Пирра без достаточных доказательств, хотя такую возможность нельзя полностью отрицать, принимая во внимание время. Карнеад, который уже, кажется, приближается к характеру старых софистов, теряет большую часть строгости своего предшественника Аркесилая, утверждая […], что ничто не является определенным». Г-н Тидеманн («Geist der spekulativen Philosophie», vol. 2, p. 575) видит здесь противоречие, которого я не нахожу. Софисты тоже не являются истинными скептиками, хотя они, как элеатский Зенон и мегаряне, породили скептицизм своим искусством ведения диспутов. Мы должны больше узнать о софистах из древних писателей, особенно из диалогов Платона, чем из кратких биографий Филострата; хотя можно предположить, что Платон не всегда точно соблюдал истину в тех ролях, которые он заставлял их играть. По крайней мере, Горгий, прочитав платоновский диалог своего имени, заявил, что никогда не слышал ничего подобного от Платона и не разговаривал с самим Платоном. Ни один писатель не определил более правильно ценность и недостойность софистов, чем г-н Мейнер в своей «Истории науки», т. 2, VI, 2. и г-н Тидеман, указ. соч., т. 1, гл. 15. Их сомнения в достоверности человеческого знания заходят уже очень далеко. Горгий говорит в своей книге, что ничто не истинно; даже если бы что-то было истинным, человек не мог бы постичь это; и даже если бы человек мог постичь что-то, он не мог бы выразить это. Протагор учил, согласно рассказу Диогена (IX, §50), что человек есть мера всех вещей. Начало его книги о богах также весьма скептично. Протагор упраздняет различие между чувственным восприятием и рациональным пониманием, как и Демокрит и некоторые другие философы этого направления. Эта ошибка, которую призван опровергнуть платоновский «Теэтет», неизбежно приводит к выводу, что истинно то, что каждый человек воспринимает как истину. Именно так следует понимать и утверждение Аристиппа и Эпикура о непогрешимости органов чувств. Они не отрицают обманы чувств, а лишь показывают, что, хотя и не существует общего стандарта знания, каждый отдельный человек, тем не менее, судит правильно, если он судит в соответствии со своими конкретными представлениями. Аристотель очень ясно показывает, что даже простого раздражения органов чувств недостаточно для сенсорных восприятий, но требуется сравнение и различение объектов, а значит, и рациональное понимание. То, что, кроме софистов, другие философы до Пирра должны были сомневаться в действенности разума, а также чувств, не кажется мне ни исторически, ни иным образом вероятным. Большинство из них, однако, под влиянием своих физических гипотез склонялись к определенной критике знаний органов чувств; а это, как мы видели выше на примере Аристиппа и Эпикура, очень естественно привело к утверждению, что органы чувств в целом обманывают, но в частности дают каждому отдельному человеку истинные идеи, то есть истинные для него. Таким образом, из систем, приписываемых Ксенофану и Пармениду, разумеется, следует, что чувственное познание обманчиво. У меня всегда было одно и то же представление об учении Гераклита, в котором либо вообще ничего нет, либо очевидна точная связь между физикой и логикой. Единственная независимая сила (огонь), которую предполагает Гераклит, является, с одной стороны, правилом природы, а с другой – источником разума. Явления, исходящие от этой фундаментальной силы, находятся в постоянном движении и в то же время в постоянном конфликте и противоречии друг с другом; ведь он прямо говорит, что в материи всегда одновременно происходят два различных противоречивых состояния. Таким образом, наши органы чувств не могут постичь ничего независимого, единодушного или истинного. Согласно Аристотелю (Метафизика IV, 3), Гераклит, похоже, почти отрицал предложение о противоречии. Однако Секст прямо отмечает, что Гераклит, приведя в замешательство знания органов чувств, признал разум истинным. Эту физику и, соответственно, эту логику Секст приписывает Эмпедоклу. – Среди современников лишь немногие выражают истинный характер скептицизма: кроме Ле Вэра, Шаррона и Юэ. Дэвид Юм превосходит всех древних и современных скептиков по остроте и силе (кроме «Трактата о человеческой природе», сюда относится «Эссе о человеческом понимании» в «Эссе о нескольких предметах»). Я считаю, что Бейль был не столько скептиком, сколько манихеем; когда он играет роль пиррониста, он делает это для того, чтобы провести определенное сведение к абсурду против теологии своего времени. Другие, такие как Санчес и Агриппа («De Vanitate Scientiarum»), стремились лишь посрамить тщеславие и дух демонстративности ученых. – Что касается конкретно исторического скептицизма, то я должен отметить, что у древних его почти не встречается. То, что говорит о нем Секст, ничтожно. Очевидно, что сомнения против религии сначала вызвали более вдумчивые замечания по поводу исторической достоверности. Исторический скептицизм мог бы быть очень поучительным и полезным, если бы воздержался от такого применения. […] – В опровержениях скептицизма никогда не было недостатка (см. примечание в §710).
§706. Поскольку скептицизм, побуждаемый догматизмом, обосновывает свой образ мысли, исходя из сомнительности человеческих познавательных способностей, возникает скептическая критика7.
§707. Цель скептической критики – не доказать правильность познавательной способности, а обсудить причины, по которым скептицизм отказывается признать содержащийся в ней эталон истины.
§708. Образ мысли скептицизма основан прежде всего на этой идее, которая также является центральным пунктом всей скептической критики: все человеческие понятия оказываются не более чем отношениями, следовательно, нельзя убедить себя в их объективной истинности.
[Скептицизм не отрицает реальность представлений. Однако – это напоминание прежде всего для новичков: но даже для тех, кто в философской науке более чем новичок, это напоминание может оказаться необходимым: скептики признают не только существование чувственных и образных представлений, но и тех, которые зависят от разума, а значит, и существование всего человеческого знания в целом. (Да и как может быть иначе?) Они просто не допускают объективного использования ни этих представлений, ни тех; хотя в остальном они мыслят и живут в соответствии с впечатлениями чувств и разума. Автор «Энесидема» точно указал на то, что скептики не отрицают. Г-н Якоб называет это принципами скептицизма, от которых ему в конце концов пришлось отойти. И то, и другое не в духе этого образа мышления: придерживаться принципов и отступать от чего-то].
§709. Скептицизм показывает эту подозрительную внешность способности познания,
1) с точки зрения низшего и
2) с точки зрения высшего, из психологической истории его образа действия; и выводит
3) бесконечное разнообразие человеческой мысли, как естественное указание рассматривать все понятия и убеждения не более как субъективные и отчасти индивидуальные определения человеческой природы.
Все это можно разложить на следующие основные идеи, составляющие элементы скептической критики.
1) Чувственные представления рассматриваются, даже самыми строгими догматиками, лишь как результат отношений неизвестных предметов с необъяснимыми органами, а тех, в свою очередь, с совершенно непонятной способностью представления. Поэтому они лишь иллюзорны.
2) Все основополагающие понятия так называемого познания, все принципы так называемого разума являются, насколько можно судить по внешним признакам, не чем иным, как абстракциями; следовательно, это продукты чувств, а значит, и явления, как и чувственные представления, из которых они вытекают.
3) Если способность познания может быть признана критерием объективной истины, то мы должны ясно видеть подлинно объективное основание всеобщности и необходимости наших рациональных суждений.
4) Все, что приводится в качестве априорно определенного в высшем, да и в низшем звене познания, есть не что иное, как гипотеза в пользу какой-либо догматической критической системы. Человеческая способность к познанию не имеет репутации способной объяснить себя.
5) Даже если бы то, что определено a priori, было доказуемо, из этого не следовало бы, даже согласно догматическим рассуждениям, что какое-либо чистое понятие или принцип объективно всеобщи и необходимы, а лишь субъективное расположение нашего так называемого факультета знания, что никогда не отрицается скептиками.
6) Таким образом, реальный критерий объективной истины не может быть изобретен, а чисто формальный недостаточен.
7) Если бы существовал реальный критерий, то все человеческие суждения должны были бы ему соответствовать; и влияние физических предрасположенностей и условий, а также внешних обстоятельств (небо, тип страны, обычай, религия, законодательство) на человеческий образ мышления перестало бы существовать.
8) Ввиду этой очевидной ограниченности и ненадежности способности познания, вполне естественно, что мы не можем позволить себе создать систему о тайне мира и человеческих дел; и нет никаких оснований среди тысячи различных систем считать одну более истинной, чем другую.
9) Согласно всему этому, мы не вправе считать истинным и определенным ничего, кроме существования наших идей, чувственных и рациональных: предметы последних и причины их возникновения нам совершенно неизвестны.
10) Но с нашими идеями, как чувственными, так и рациональными, связана невозможность изменить их, пока они у нас есть, и не следовать той видимости, которую они создают.
11) Эта видимость наших представлений порождает совершенное субъективное убеждение, которое мы столь же мало способны разрушить догматическими разборами, сколь и подавить скептическим сопротивлением: так же бесполезно искать для наших суждений что-либо вне и сверх этой видимости. Поэтому мы судим и живем в соответствии с этой видимостью, то есть принимаем за истину и правило то, на что она нам указывает.
12) Однако это теоретическое и практическое следование субъективной видимости отнюдь не есть ценность открытого нами интереса и мудро принятого на его основе правила для веры и жизни: это – неизменное воздействие идей на нашу природу, которая нам неизвестна. Следовательно, это не сдержанный скептицизм, когда мы признаем реальность материального мира и истинность всех способов мышления и рассуждения, соответствующих нашей способности к познанию; но это просто признание реальности наших представлений и власти, которую они осуществляют над всей нашей мыслью и жизнью, и которую нельзя ни изменить, ни опровергнуть.
§710. Скептицизм абсолютно неопровержим 8:
1) потому что он ничего не утверждает и не отрицает и, следовательно, не содержит ничего, что противоречило бы какому-либо другому утверждению;
2) потому что он не доверяет первым основаниям человеческого знания, с помощью которых только и должно было бы быть сделано опровержение;
3) потому что он не претендует на всеобщность своих сомнений (примечание к §708).
§711 В той мере, в какой скептицизм допускает субъективную убежденность в представлениях низших и высших способностей познания, он является единственным последовательным способом мышления для философии и единственной последовательной философией для богооткровенной религии.
[Здесь крайне важно не забывать то, что уже напоминалось в примечании к §709, – что скептик не только в своей жизни, но и в своей мысли и вере следует тем представлениям, которые он имеет благодаря опыту и разуму. Поэтому он отличается от догматического критика только тем, что не создает искусственно объективное знание для своего убеждения. Поскольку, как показывает множество неудачных попыток, это совершенно бесперспективно, скептицизм как философия, очевидно, является последовательным. Что касается его отношения к явленной религии, то скептицизм не только не исключает веры в ее историю и доктрину, но скорее требует ее, а именно в той мере, в какой его образ мышления предполагает, что он следует за впечатлениями воображения и интеллекта, в частности, за своим убеждением. Таким образом, скептик верит в явленную религию, как только ее доказательные основания действуют на него как идеи таким образом, что они должны, согласно устройству природы, породить убеждение. А поскольку у него нет мысли найти нечто объективное для своего познания, он не исследует и не препарирует далее свое убеждение в нем, довольствуясь мыслью: это для меня истина. Таким образом, скептик может верить в богооткровенную религию так же твердо, как в реальность материального мира. При каждом удобном случае Секст пресекает мысль о том, что скептицизм связан с нерелигиозностью, и скорее восхваляет его противоположность. [Ученые богословы знают, что (истинный, хорошо понятый) скептицизм всегда считался лучшей философией, особенно для христианской религии. Но не нужно думать, что такая философия выигрывает в борьбе с правами разума. В определенное время было тоном постоянно говорить о слабости и хрупкости разума. Кто знаком с трудами Ле Вэра, Монтеня и Юэ, которые, вероятно, не относились к этому так серьезно, как, например, Пуаре, тот поймет, что за этой кажущейся философской скромностью часто скрываются самые опасные нападки на религию, как я показал в конце моих «Бесед об атеизме». Для меня остается загадкой, как это понимает Декарт, когда говорит, что противоречивое, возможно, мыслимо в божественном разуме].
§712 Если скептицизм не допускает даже такого субъективного убеждения, то это, поскольку такое допущение вынуждается природой человека, является либо ролью, либо полным отклонением интеллекта. Такому скептицизму можно противопоставить следующие соображения (§713—717).
§713.1 Хотя чувственные представления часто искажаются, отчасти из-за постоянных особенностей, отчасти из-за временных состояний инструментов и сил, принадлежащих к способности воображения, тем не менее в представлениях органов чувств есть единство и правило. И это единство и правило чувственных представлений является стандартом чувственного познания; таким образом, то, что представляется человеку в наиболее естественном состоянии способности воображения, является чувственно истинным.
[Я часто читаю, что органы чувств не обманывают: но как назвать то, что с самого раннего детства они приносят человеку представления и сообщения о внешнем мире, которые не являются объективно истинными; говорят ему, что здесь пространство и протяженность, а там цвет, а там движение, тогда как все это – лишь видимость? Да, говорят они, глупо требовать от органов чувств суждений о внутреннем устройстве внешнего мира. Возможно, это и так, но таким образом они обманывают меня; ведь они представляют мне нечто внешнее, что по большей части находится внутри меня. В итоге получается, что не чувственность судит, а разум. Но что такое чувственность, как не интеллект, работающий через органы чувств? Признаюсь: для меня все это кажется каким-то искомым и вынужденным. Однако я понимаю, что имеется в виду. (Кант «Кр. д. р. В.», стр. 350; Борн «Grundlagen», стр. 61).
§114. Как отдельные разумные идеи истинны, так и общие понятия и принципы, выводимые из них.
§715. Рациональные идеи возможного и необходимого и зависящие от них фундаментальные законы разума не являются следствиями чувственных впечатлений: следовательно, в них нет ничего от чувственного обмана: ведь постижение возможного и необходимого – это не идея, а способ соединения идей9. Соответственно, разум есть критерий истины в самом себе: и как разум неодолимо требует, чтобы все мыслимое соответствовало его правилам, так и рассудок может заставить его, вопреки им, считать истинным то, что невозможно, или не считать истинным то, что противоположно невозможному, т. е. необходимое.
§716 Все люди согласны в идеях возможного и необходимого и в фундаментальных законах разума, которые от них зависят. Разнообразие человеческих мнений и способов мышления проистекает лишь из различий в способности воображения, из-за которых одна и та же идея принимает в разных умах совершенно разную форму. Это психологический облик, который можно объяснить влиянием вторичных идей и особенно языка.
§717. что разнообразие человеческих мнений происходит только и исключительно от разнообразия способностей воображения: это доказывается общим единодушием всех умов относительно предметов чистой математики;10 в том, что математические понятия
1) совершенно определенны, неизменны и совершенно свободны от всякого влияния психологической внешности,
2) облечены в существенные знаки, не подлежащие двусмысленности,
3) совершенно безразличны ко всякому образу мыслей; вместо того чтобы философские понятия были связаны с предрассудками и страстями всякого рода.
§718 Особенно поучительны и достойны внимания следующие намеки и максимы в скептической критике:
1) Что реальный мир есть нечто совершенно отличное от чувственного;
2) Что материальный мир для нас не что иное, как обычное явление, организованное для использования в опыте;
3) Что особенности чувственных проявлений у отдельных людей и в отдельных состояниях оказывают большое влияние на эмпирические восприятия;
4) Что психологические явления, в которых понятия не сразу приближаются к законам чистого разума, должны иметь большое разнообразие человеческих мнений;
5) Что существуют также большие препятствия к исторической достоверности, отчасти во внешнем виде вещей, отчасти в рассудке и моральном облике людей;
6) Что общее единообразие человеческих мнений невозможно;
7) Что каждый, кто считает истинным или ложным то, что кажется ему, согласно его собственному чувственному или психологическому восприятию, таковым, судит правильно и истинно до тех пор, пока обратное не станет для него полностью очевидным, либо на основании ясного опыта и правил общей видимости, либо на основании ясных доказательств, вытекающих из принципов чистого разума;
8) Поэтому известное изречение Протагора [Человек есть мера всех вещей – wp] в некоторых отношениях очень верно.
LITERATUR: Ernst Platner, Philosophische Aphorismen [nebst einigen Anleitungen zur philosophischen Geschichte] Leipzig 1793
Иоганн Феофил Буле (1763 – 1821)
Секст Эмпирик, или Скептицизм греков
Предисловие
Едва ли можно найти лучшее средство для воспитания философского таланта в целом и более целесообразную подготовку, особенно для правильного понимания и оценки духа, тенденции и достоинств философии нашего века, чем изучение скептицизма греков. Как они придали позитивному и негативному философскому догматизму совершенство, пусть даже само по себе еще только кажущееся и неудовлетворительное, которое заслужило и обеспечило им восхищение спекулятивного потомства, так и они довели противоположный скептическому способ философствования до того, до чего его можно было довести. Их догматическая философия впоследствии получила некоторые отклоняющиеся формы благодаря усилиям новейших философов; но их скептицизм не был превзойден и усовершенствован новейшими, что касается существенного характера этого философского образа мышления; скорее, новейшие скептики по большей части только сомневались вслед за греками, а некоторые из них даже не смогли принять скептицизм последних во всей его полноте, или, возможно, даже неправильно поняли и использовали его. Догматическая философия греков была опровергнута еще до появления критической философии, учитывая принципы и результаты наиболее выдающихся систем, особенно платоновской и аристотелевской; ее скептицизм часто оспаривался, высмеивался и издевался до этого времени; но в силу природы философствующего разума он оставался неопровергнутым; и, возможно, проблематично, опровергла ли его даже критическая философия наших дней, принимая этот термин в самом широком смысле. Что бы ни думали об этом в настоящее время, по крайней мере, скептицизм греков отчасти прямо, отчасти косвенно послужил толчком к появлению новейшей критики. Тот же метод философствования, который наблюдали греческие скептики и с помощью которого они вскрывали необоснованность и противоречивость старых философских систем, ставших им известными, мог быть применен и к более новым системам, а также выявлял их слабые стороны для исследующего разума. Поэтому именно греческий скептицизм можно считать истоком критической философии, разрушение которого является и должно быть ее главной целью, если бы она могла выполнить свое предназначение каким-либо другим способом. В этом отношении изучение последней, бесспорно, является не только самой поучительной пропедевтикой к ней, но и дает неоценимое преимущество научиться разумно сомневаться в ней, то есть основательно судить о ней, как и о любой другой философии. Учитывая огромный интерес, который греческий скептицизм представляет для философии в целом и особенно для новейшей, приходится удивляться, что наши современники-спекулянты в целом уделяют ему так мало внимания, а труды Секста Эмпирика, самые важные, самые богатые и в некоторой степени единственные источники по нему, почти совсем не читаются многими; об этом явно свидетельствуют частые ложные взгляды на пирронизм, которые можно найти в некоторых новейших философских трудах. Поэтому я был вынужден сделать немецкий перевод этих работ и приложить к нему, помимо некоторых примечаний, непосредственно поясняющих текст, несколько трактатов о духе, характере и философской ценности греческого скептицизма, а также его родоначальников и защитников в античности в целом, чтобы таким образом напомнить о нем заново и способствовать его изучению. Настоящая первая часть содержит только «Пирроновы гипотипосы»; во второй части будут опубликованы другие работы Секста против догматиков и упомянутые трактаты. В примечаниях, которые уже имеются в этой первой части, в той мере, в какой они касаются просто исторических сведений, я больше всего пользовался комментарием Фабриция, который очень полезен в своем роде, так как более обширные ученые дискуссии были здесь очень излишни, где важно было только необходимое разъяснение философской аргументации того же самого. Мне хотелось бы изменить обычное деление глав на более мелкие разделы или параграфы и организовать их в соответствии с контекстом текста, но я воздержался от этого, поскольку отдельные отрывки Секста всегда цитируются после предыдущих разделов. Я должен извиниться за частые опечатки, убрав место печати; я отметил те из них, которые искажают смысл. Кстати, я надеюсь, что мои общественные судьи проявят любезность и дождутся публикации второй части, прежде чем принимать решение о плане и ценности моего труда.
Часть первая. Набросок пирронизма
Первая глава
О самом общем различии философов.
Тот, кто ищет что-то, либо находит это, либо признается, что не нашел и не может найти; либо продолжает искать.
2. Возможно, по этой причине одни философы утверждают, что нашли истину; другие не считают возможным ее найти; третьи все еще ищут ее.
3. Догматики, такие как Аристотель, Эпикур, стоики и другие, считали, что они нашли истину. Клитомах Карнеад и другие академики объявили ее непостижимой. Скептики ищут истину.
4.Таким образом, мы можем предположить три основных типа философствования: догматический, академический и скептический. Первые два нас сейчас не интересуют, мы лишь дадим общее представление о скептическом образе мышления.
Вторая глава. Две основные части скептической философии
5. Скептическую философию можно разделить на общую и частную. Общая часть касается характера скептицизма в целом; понятия, принципов, причин, критерия и цели его; различных способов отказа от одобрения; значения скептических отрицаний; наконец, различия между скептицизмом и родственными ему способами философствования.
6. Специальная часть содержит аргументацию против всех отдельных предложений так называемой философии. Поэтому сначала я буду развивать общую часть скептицизма, начиная с объяснения различных терминов, которыми он обозначается.
Третья глава. О названиях скептической философии
7. Скептический образ мышления называют также ищущим, потому что он состоит в поиске и исследовании. Его также называют нерешительным из-за настроения ума, в котором оказывается исследователь после исследования; или сомневающимся, либо, как считают некоторые, потому что человек сомневается во всем и сохраняет сомнения, либо потому что он находится в состоянии решения, утверждать или отрицать. Наконец, оно также получило название пирроновского, потому что Пирр также получил название пирроновского, потому что Пирр, кажется, более заметно отказался от скептицизма и продвинул его дальше, чем его предшественники.
Глава четвертая. Понятие скептицизма
8. Скептицизм – это способность определенным образом противостоять явлениям чувств и объектам рассудка, так что благодаря равновесию противоположных объектов и причин мы поначалу вынуждены сдерживать свои аплодисменты и тем самым достигаем философского спокойствия.
9. Мы называем скептицизм способностью, но не в строгом смысле этого слова, а лишь в общем смысле. Под чувственными явлениями мы понимаем здесь все, что воспринимается; по этой причине мыслимое также противопоставляется им. Противопоставление в некотором роде может быть отнесено к факультету, так что понятие этого факультета берется в целом; или также к противопоставлению чувственных явлений и мыслимых объектов как таковых; (ибо поскольку они могут быть противопоставлены друг другу различными способами, либо как явления явлениям, либо как объекты понимания объектам понимания, либо как явления объектам понимания, и наоборот, мы говорим о противопоставлении в некотором роде, так что оно охватывает все эти противоположности;) или же ее можно отнести к неопределенной природе явлений и объектов понимания как таковых, не исследуя, как появляются объекты ощущения или как понимаются объекты понимания, но беря их в целом.
10. Под противоположными причинами мы понимаем не обязательно утверждение или отрицание, но в целом противоречащие друг другу причины, которые не могут существовать вместе. Мы приписываем противоположным причинам равновесие, когда они производят убеждение и контр-убеждение с одинаковой силой; так что ни одна из противоположных причин не предпочитается другой как более убедительная. Сдержанность аплодисментов – это такое состояние души, при котором человек не отменяет ничего и не устанавливает ничего. Философское спокойствие – это безмятежность и свобода ума от всякого беспокойства. Но как это философское спокойствие возникает одновременно со сдержанностью аплодисментов, я покажу ниже, когда будет обсуждаться цель скептицизма.
Пятая глава. Кто такой скептик?
11. Понятие пирроновского философа также определяется понятием образа мышления. Ведь он – тот, кто обладает описанными до сих пор способностями.
Глава шестая. О принципах скептицизма
12. Мотивирующим принципом скептицизма является надежда на обретение душевного покоя. Поскольку непостоянство вещей и событий опутывало самые выдающиеся умы тревожными сомнениями, они были вынуждены выяснять, что в них истинно или ложно, чтобы, размышляя над ними, вновь обрести спокойствие. Главный принцип скептицизма, однако, заключается в том, чтобы противопоставить каждой пропозиции столь же сильную пропозицию. Ведь таким образом, как кажется, можно прийти к тому, чтобы ничего не утверждать догматически.
Глава седьмая. Догматизирует ли скептик?
13. Когда мы говорим, что скептик не утверждает догм, мы не имеем в виду догмы в том смысле, в каком некоторые объявляют догмой утверждение о любой вещи вообще, а только в более общем смысле. Ведь даже скептик должен признать ощущения, определяемые органами чувств, и если, например, он чувствует тепло или холод, он не скажет, что считает, что ему не тепло и не холодно. Под догмой мы понимаем решение относительно любого из темных и сомнительных объектов, к которым обращаются науки; и в этом смысле мы говорим, что скептик не догматизирует, если он не решает относительно темного и сомнительного объекта.
14. Так и пирронианец не догматизирует, когда выдвигает скептические выражения о неопределенных вещах, например, о том, что больше ничего нет, или я ничего не решаю, и другие, которые будут рассмотрены позже. Догматик предполагает, что объект, к которому относится его догма, реален. Скептик же не нуждается в этих выражениях, как если бы они просто констатировали нечто реальное; ведь он считает, например, что выражение: Все ложно, само ложно в то же время, что и все остальное; что то же самое с выражением: Ничто не истинно: Ничто не истинно, и что оно не более, даже не более, чем другие вещи, и потому ограничено ими в одно и то же время.
15. Итак, поскольку догматик представляет объект своей догмы как действительно таковой, а скептик использует свои выражения таким образом, что они одновременно и ограничивают себя, и включают себя в обозначаемую ими сферу, то нельзя сказать, что последний догматизирует в силу использования этих выражений. И что самое важное, используя эти выражения, скептик лишь констатирует то, что ему кажется, объясняет свое чувство, ничего не утверждая о нем объективно.
Глава восьмая. Принадлежит ли скептик к философской партии?
16. Мы не можем иначе ответить на вопрос, принадлежит ли скептик к философской партии. Если под духом философской партии мы понимаем приверженность нескольким догмам, которые согласуются друг с другом и с объектами, а догма – это решение по какому-то неопределенному объекту, то мы скажем, что скептик не принадлежит ни к какой партии.
17. Если же понятие философской партии зависит только от того, что, принимая во внимание явления чувств, человек придерживается какого-то образа мыслей, который, как ему кажется, ведет к правильному жизненному пути (слово правильный понимается не только в отношении добродетели, но и в более широком смысле) и имеет своей целью сдерживание аплодисментов, то мы, конечно, ответим, что скептики составляют философскую партию. Ибо у нас есть определенный образ мыслей, который, принимая во внимание то, что поддается чувствам, учит нас жить в соответствии с патриотическими обычаями, законами, институтами и нашими естественными чувствами.
Глава девятая. Является ли исследование природы
делом для скептика?
18. Нечто подобное можно сказать и на вопрос, является ли исследование природы делом скептика? Мы не физиологи в том смысле, что должны принимать догматически твердые решения по любому вопросу исследования природы; но мы также занимаемся исследованием природы в том смысле, что противопоставляем каждому предложению равное по силе предложение, чтобы успокоить ум; и точно так же мы занимаемся логической и этической частями так называемой философии.
Глава десятая. Отменяет ли скептик явления органов чувств?
19. Те, кто утверждает, что скептики упраздняют явления чувств, похоже, не поняли наших рассуждений. Ведь, как мы уже отмечали, то, что мы ощущаем и к признанию чего мы невольно побуждаемся, не отменяется нами. Таковы, стало быть, явления чувств. Но если нас спрашивают, является ли объект тем, чем он кажется, мы признаем, что он кажется, и не сомневаемся в этом, но сомневаемся в том, что утверждается о кажущемся объекте, что совершенно не похоже на сомнение в самой видимости. Например, мед кажется нам сладким на вкус; это мы признаем, поскольку сами ощутили сладость; но в том, есть ли сладость по отношению к знанию, мы сомневаемся; это не значит сомневаться в самой видимости сладости, а только в том, что о ней утверждается.
20. Если сомнения возникают в отношении самих чувственных явлений, то они направлены не на то, чтобы отменить их как таковые, а лишь на то, чтобы разоблачить самонадеянность догматиков. Ведь если разум настолько обманчив, что заставляет даже предметы чувств почти исчезать на наших глазах, то как же ему не стать подозрительным по отношению к неопределенным вещам и не побудить нас не следовать за ним, чтобы уберечь нас от самонадеянности? Одиннадцатая глава. О критерии скептицизма
21. То, что мы остановились на явлениях чувств как таковых, станет ясно из последующего обсуждения критерия скептического образа мышления. Слово «критерий» имеет двоякое значение. Во-первых, оно обозначает основание знания, с которого видно бытие или небытие чего-либо (об этом речь пойдет в трактате «Против догматиков»); во-вторых, оно обозначает правило, согласно которому мы делаем и не делаем что-то в жизни, и именно об этом мы говорим здесь.
22. Критерием скептического способа рассуждения мы объявляем теперь то, что представляется органам чувств, в том смысле, в каком мы обозначаем субъективное восприятие этого. В той мере, в какой оно заключается в непосредственном сознании и в непроизвольной аффектации, оно несомненно. Поэтому, пожалуй, никто не сомневается в том, что тот или иной предмет представляется ему тем или иным образом; но сомневаются в том, является ли он таким, каким представляется.
23. В обычной жизни мы ориентируемся на видимость и действуем в соответствии с ней, поскольку не можем быть полностью бездействующими. Но действия в обычной жизни, по-видимому, бывают четырех видов и основаны отчасти на природном инстинкте, отчасти на импульсе чувства, отчасти на законах и привычках, а отчасти на научном обучении.
24. Естественный инстинкт основан на врожденных способностях чувств и интеллекта. Это импульс чувств, когда голод побуждает нас есть, жажда – пить. Законы и привычки заставляют нас считать, что в обычной жизни хорошо поступать правильно, а плохо – плохо. Научное образование делает нас не праздными и не бесполезными в тех искусствах и знаниях, которыми мы занимаемся. Между тем все это мы определяем лишь скептически, а не догматически.
Глава двенадцатая. О цели скептицизма
25. Согласно порядку, мы должны теперь также рассмотреть вопрос о цели скептического образа мышления. Цель – это то, ради чего все делается или рассматривается, но что само по себе не существует ради чего-либо еще. Или цель – это предел желаемого. Теперь мы говорим, что цель скептика – спокойствие ума по отношению к объектам мнения и умеренное поведение по отношению к непроизвольному влечению.
26. Скептик начал философствовать, чтобы судить о явлениях чувств и понять, насколько они истинны или ложны: в этом он натолкнулся на противоположные мнения, имеющие одинаково веские основания, и не удовлетворил свой ум; он не мог решить ни за, ни против одной из противоположностей; поэтому он удержался от аплодисментов; случайно он снова обрел в этом спокойствие ума по отношению к предметам мнения.
27. Тот, кто верит и утверждает, что нечто по природе своей является добром или злом, всегда находится в беспокойстве, и пока ему не хватает того, что кажется ему благом, он считает себя угнетенным природным злом и борется за то, что считает благом. Когда же он приобретает это, то становится еще более беспокойным, потому что желает неразумно и неумеренно; и из страха перед изменчивостью вещей он делает все, что в его силах, чтобы не потерять предполагаемые блага.
28. С другой стороны, тот, кто не решает, что хорошо, а что плохо по своей природе, не желает с яростью и не стремится бежать от определенных вещей; его разум, таким образом, находится в покое. То, что сказано о художнике Аппеллесе, относится и к скептику. Однажды он рисовал лошадь; пена лошади так ему не удалась, что он в отчаянии бросил работу и бросил на картину губку, которой вытирал краски с кисти; губка коснулась лошади и совершенно случайно образовала пену.
29. Так и скептики надеялись обрести душевное спокойствие, исследуя несоразмерность между явлениями чувств и объектами рассудка; но поскольку они не могли достичь своей цели, они сдержали свои аплодисменты, и за этим сдерживанием аплодисментов последовало успокоение ума, как тень следует за телом. Мы не считаем, что скептик полностью свободен от беспокойства; но мы допускаем, что его беспокоят только те проблемы, которые ему не подвластны. Мы допускаем, что он может испытывать холод и жажду или страдать от чего-то подобного.
30. Но великое множество и здесь страдает вдвойне: сначала от самих неприятных ощущений, а затем от мнения, которое он лелеет, что они являются злом; тогда как скептик, который в то же время не считает, что эти ощущения по своей природе являются злом, допускает и более умеренное поведение по отношению к ним. По этим причинам мы считаем целью скептика спокойствие в отношении мнений, а также умеренность в отношении непроизвольных привязанностей. Некоторые известные скептики добавили к этому сдерживание аплодисментов даже в философских изысканиях.
Тринадцатая глава. Об общих основаниях скептицизма
31. Мы уже говорили, что полное сдерживание аплодисментов приводит к душевному спокойствию. Теперь мы должны объяснить, как это сдерживание аплодисментов возникает в нас. В общем, можно сказать, что оно возникает через противопоставление вещей. Но мы либо противопоставляем явления явлениям, либо объекты понимания объектам понимания, либо второе первому, и наоборот
32. Например, мы противопоставляем явления явлениям, когда говорим, что одна и та же башня издали кажется круглой, а вблизи – квадратной; мы противопоставляем объекты понимания объектам понимания, когда возражаем тому, кто доказывает провидение на основании порядка небесных тел, что хорошие часто несчастны, а плохие часто счастливы, и делаем противоположный вывод, что провидения не существует; 33. Мы возражаем против утверждения, что снег белый, как Анаксагор возражает против утверждения, что снег – это сгущенная вода, но вода черная, и поэтому снег черный. В другом смысле мы устанавливаем контраст, когда иногда противопоставляем настоящее настоящему, как в приведенных случаях, а иногда настоящее прошлому или будущему. Например, если кто-нибудь предъявляет нам аргумент, который мы не можем опровергнуть, мы отвечаем ему,
34. что до рождения основателя философской партии, к которой он принадлежит, его собственное рассуждение еще не было признано правильным, хотя теперь оно считается действительным в отношении своих объектов; точно так же противоположное рассуждение может быть действительным, хотя оно еще не ясно для нас; поэтому мы все равно не должны соглашаться с рассуждением, каким бы сильным оно нам порой ни казалось.
35. Но чтобы еще точнее объяснить эти противопоставления, я добавлю также конкретные причины, из которых вытекает необходимость воздержаться от аплодисментов, не решая, однако, ни их количества, ни их веса. Ведь не исключено, что они тоже слабы и что их больше, чем мы упомянем.
Глава четырнадцатая. Об особых основаниях скептицизма
36. Старые скептики приводили некоторые причины, по которым они считали необходимым воздерживаться от аплодисментов, в количестве десяти, которые они также называли общими местами. Они таковы: Во-первых, разнообразие животных; во-вторых, разнообразие людей; в-третьих, различное устройство орудий чувств; в-четвертых, обстоятельства; в-пятых, разнообразие положений, расстояний и мест; в-шестых, смешения;
37. в-седьмых, величины и состав предметов; в-восьмых, отношения; в-девятых, редкость или частота явлений; в-десятых, условный порядок, обычаи, законы, мифические заблуждения и догматические мнения. 38. Мы просто помещаем эти скептические общие слова в этот ряд, не намереваясь установить сам этот ряд. Кроме того, существуют три основания скептицизма, которые все подчинены друг другу; они берутся: а) из субъекта суждения, б) из объекта суждения, в) из обоих. А именно, первые четыре из вышеперечисленных оснований скептицизма входят в одно, взятое от субъекта суждения; ведь субъект суждения – это либо животное, либо человек, либо орган ощущения, и действительно все три всегда при определенных обстоятельствах. Но седьмая и восьмая из вышеперечисленных скептических причин могут быть добавлены к той, что взята от объекта суждения. А та, что взята от обоих (субъекта и объекта), включает в себя шестую, восьмую и девятую из вышеперечисленных скептических причин.
39. Но три более общих основания скептицизма в свою очередь могут быть прослежены до отношения, так что отношение можно рассматривать как наиболее общее основание скептицизма, под которым три приведенных частных основания стоят как виды, которым в свою очередь подчинены те десять. О количестве этих оснований можно с уверенностью сказать многое; об их весе – еще больше.
О первом скептическом основании
40. Первое скептическое основание, как мы сказали, заимствовано из различия животных, в силу которого одним и тем же предметам не соответствуют одни и те же идеи. Но то, что это так, мы выводим из разного способа порождения животных и их разной телесной организации.
41. Что касается порождения животных, то одни из них возникают без полового смешения, другие – с его помощью. Из первых одни производятся из огня, как животные, появляющиеся в дымоходах; другие – из гнилой воды, как блохи; третьи – из испорченного вина; четвертые – из земли; пятые – из клея, как лягушки; иные из грязи, как дождевые черви; иные из ос, как кантариды [масляные жуки – wp]; иные из растительности, как множество червей; иные, наконец, из разложившихся животных, как пчелы из быков и осы из лошадей. 42. Но из тех, что производятся путем полового смешения, некоторые, и их большинство, производятся от животных одного вида; другие – от животных разных видов, как, например, мулы. Кроме того, среди животных вообще одни рождаются живыми, как люди; другие вылупляются из яиц, как птицы; третьи рождаются в виде бесформенных кусков плоти, как медведи.
43. Поэтому вполне вероятно, что эти неравенства и различия в производстве животных также порождают большие различия в их способах ощущения, поскольку они получают, таким образом, очень разную, несовместимую и противоречивую смесь и организацию своих частей.
44. Но даже разнообразие самых прекрасных частей тела, особенно тех, которые по природе своей служат для ощущения и суждения, может, в соответствии с разнообразной конституцией животных, породить величайший конфликт между их представлениями. Желтушники считают желтым то, что нам кажется белым, так же как и те, кто страдает от воспаления глаз, видят все красным. Поскольку у одних животных глаза желто-зеленые, у других – красные, у третьих – белые, у четвертых – другого цвета, вполне вероятно, что и одни и те же цвета они воспринимают противоположным образом.
45. Даже если мы долго смотрим на солнце, а потом смотрим в книгу, буквы кажутся нам золотыми и движутся по кругу. Более того, поскольку есть животные, у которых от природы в глазах есть некое тугоплавкое вещество, из которого исходит тонкий и легко подвижный свет, так что они могут видеть даже ночью, мы вправе полагать, что внешние объекты кажутся им не такими, как нам.
46. Маги смазывают фитили в светильниках ржавчиной и чернилами и, слегка посыпая их этой смесью, заставляют присутствующих выглядеть то железного цвета, то черного. Поэтому гораздо вероятнее, что различные смеси соков в зрительных органах животных приводят к различному восприятию предметов.
47. Кроме того, если мы вытянем глаз горизонтально в длину, формы и фигуры предметов покажутся нам вытянутыми и узкими; поэтому следует предположить, что животные, у которых зрачок поперечный и вытянутый, такие как козы, кошки и им подобные, представляют себе предметы иначе, а не так, как животные, у которых зрачок круглый.
48. Зеркала, в соответствии с их различной конституцией, иногда показывают внешние объекты очень маленькими, как вогнутые зеркала; иногда очень длинными и узкими, как выпуклые зеркала. Некоторые показывают человека, смотрящегося в зеркало, наоборот, головой вниз, а ногами вверх. 49. Так как некоторые сосуды глаз выступают больше из-за своей выпуклости, другие более полые, а третьи горизонтальные, то, вероятно, это также изменяет восприятие, и собаки, рыбы, львы, люди и саранча видят одни и те же предметы не по размеру и не по форме одинаково, но так, как орган зрения каждого из них изменяет впечатление.
50. То же самое происходит и с ощущениями других органов чувств. Ведь как можно утверждать, что моллюски испытывают прикосновение так же, как и животные, покрытые плотью, шипами, перьями или чешуей? Как могут животные, у которых очень узкий или очень широкий слуховой проход, чьи уши покрыты волосами или гладкие, испытывать одинаковые ощущения от слуха, ведь наш собственный слух страдает иначе, когда мы немного затыкаем уши, чем когда мы слушаем с полностью открытыми ушами?
51. Запах тоже может изменяться по-разному в зависимости от вида животных. Мы сами по-разному воспринимаем запахи, когда нам холодно и в нас скапливается слизь; мы по-разному воспринимаем запахи, когда кровь слишком сильно поднимается к голове, и нам противны запахи, которые кажутся приятными другим, и мы вздрагиваем от них. Так как одни животные имеют влажную и слизистую природу; у других много крови; у третьих преобладает желто-зеленая или черная желчь, и они слишком обильные; вероятно, по этой причине и предметы обоняния кажутся им разными.
52. То же самое происходит и с ощущениями вкуса. У одних язык очень шершавый и сухой, у других – очень влажный. Когда у нас сухой язык при лихорадке, пища кажется нам землистой, с неприятным привкусом или горькой; такое различие вкусовых ощущений объясняется избытком в нас определенных соков. Поскольку животные также имеют разные органы вкуса и избыток различных соков, они также могут получать различные вкусовые ощущения от предметов.
53. Более того, одна и та же пища, перевариваясь, становится иногда веной, иногда артерией, иногда костью, иногда сухожилием и т. д., в зависимости от того, что части, принимающие пищу, проявляют по отношению к ней различные формирующие способности. Вода сама по себе имеет один и тот же вид.
Одно и то же дыхание, вдуваемое в флейту, становится иногда тонким, иногда грубым; точно так же, как одно и то же давление руки на лиру производит иногда грубый, иногда тонкий тон. Также правдоподобно, что внешние объекты воспринимаются по-разному в зависимости от различной организации животных, которым дано это восприятие.
55. Это становится еще более понятным на примере объектов, которые животные желают и от которых бегут. Ароматные мази кажутся наиболее приятными для людей, но они непереносимы для жуков и пчел. Масло полезно для людей, но оно убивает ос и пчел, если побрызгать на них. Морская вода отвратительна и вредна для людей; она приятна и пригодна для питья рыб.
56. Свиньи предпочитают валяться в самых вонючих фекалиях, чем в самой чистой и прозрачной воде. Одни животные питаются травами, другие – кустарниками; одни живут в лесах, другие едят семена; одни едят мясо, другие – молоко; одни предпочитают гнилое, другие – свежее; одни едят сырую пищу, другие – только приготовленную. Наконец, то, что приятно одному животному, неприятно, опасно и смертельно для другого.
57. От болиголова толстеют перепела, а от широких бобов – свиньи, которые тоже любят есть саламандр, так же как олени едят ядовитых животных, а ласточки – кантарид. Муравьи и черви, проглоченные человеком, вызывают у него тошноту и боли в животе; медведь же, напротив, охотно поедает их, когда заболевает, и таким образом излечивает себя.
58. Гадюку оглушает одно лишь прикосновение буковой ветки, как и летучую мышь, когда на нее падает лист платана. Слон убегает от барана, лев – от петуха, а тигр – от звука литавр. Мы могли бы продолжать и продолжать. Но если одни и те же вещи неприятны одним животным и приятны другим, а приятное и неприятное основано на воображении, то у животных также должны возникать различные представления об этих объектах.
59. Если одни и те же предметы представляются неодинаково в зависимости от разнообразия животных, то мы вполне можем сказать, как предмет воспринимается нами; мы должны оставить нерешенным вопрос о том, как он устроен в соответствии с его природой. Ведь мы сами не сможем судить ни о своих представлениях, ни о представлениях других животных, поскольку мы сами входим в сферу различных воображаемых субъектов и поэтому нуждаемся в другом существе, которое судило бы о наших представлениях и представлениях животных больше, чем мы сами могли бы судить о них. Более того, мы не можем предпочесть наши идеи идеям неразумных животных ни без доказательства, ни с доказательством.
60. Ибо, не считая того, что доказательств может не быть нигде, как мы покажем, так называемое доказательство либо правдоподобно для нас, либо нет. Если оно для нас неправдоподобно, мы не станем приводить его с убеждением. Но если оно для нас правдоподобно, то мы всегда будем говорить о чем-то, что представляется животным; само доказательство будет чем-то, что представляется нам как животным; поэтому мы должны будем спросить, истинно ли оно, если оно представляется.
61. Но теперь непоследовательно хотеть доказать то, что должно быть доказано, с помощью того, что само требует доказательства, ибо в этом случае можно было бы убедиться в одном и том же предмете и не убедиться, что невозможно; убедиться, если хочешь доказать, но не убедиться самим доказательством. Поэтому мы не можем доказать, что наши идеи предпочтительнее идей так называемых неразумных животных. Если, следовательно, в зависимости от разнообразия животных имеют место различные представления, о которых нам невозможно судить, то мы вынуждены ничего не решать о внешних объектах.
Есть ли разум у так называемых неразумных животных?
62. Что еще хуже, мы также хотим сравнить так называемых неразумных животных с людьми в плане воображения. Ибо мы не прочь немного подразнить заблуждающихся и напыщенных догматиков, после того как они до сих пор серьезно спорили. Это правда, что наша партия имеет привычку сравнивать неразумных животных, взятых в целом, с человеком.
63. Но поскольку рациональные догматики утверждают, что такое сравнение не может быть правомерным, поскольку животные так неравны друг с другом, мы, чтобы иметь больше материала для философских шуток с ними, остановим наши рассуждения на одном виде, например, на собаках, если угодно, которые кажутся самыми плохими животными. И здесь мы обнаружим, что животные, о которых идет речь, ничуть не уступают нам в убежденности относительно природы своей внешности.
64. Догматики признают, что собака превосходит нас в остроте своих чувств; ведь она воспринимает по запаху больше, чем мы, поскольку таким образом обнаруживает животных, которых не видит; она также быстрее видит глазами, чем мы, и слух у нее не менее острый.
65. Что касается разума, то он частично находится внутри, а частично проявляется вовне через речь. Сначала рассмотрим внутренний. По мнению стоиков, как наиболее противоположных нам догматиков, внутренний разум проявляется в желании того, что соответствует природе, и избегании того, что ей противоречит; также в знании необходимых для этого искусств и в приобретении того совершенства чувств, которое соответствует особой природе существа.
66. Собака, на примере которой мы остановимся, выбирает то, что соответствует ее природе, и убегает от того, что ей вредит; она ищет пищу и отступает, когда ей угрожают кнутом; она владеет искусством добывать пищу, искусством охоты.
67. Не лишен он и добродетели. Если справедливость состоит в том, чтобы воздавать каждому должное, то собака льстит и оберегает своих знакомых и благодетелей, а чужаков и обидчиков отталкивает; поэтому она не лишена справедливости. Но если он обладает этой добродетелью, то, поскольку добродетели не могут быть отделены друг от друга, он обладает и другими добродетелями, которыми, как говорят мудрые, обладают не многие люди. Мы также видим, что он мужественен и умен в своей защите от оскорблений.
68. Об этом свидетельствует уже Гомер, который изображает Одиссея чужим для своих спутников-людей и узнанным только благодаря своему Аргусу. Собаку не обманули ни перемены, произошедшие в теле Одиссея за время его отсутствия, ни утрата прежней концепции, которую она сохранила прочнее, чем люди.
69. По мнению Хрисиппа, наиболее энергичного противника мнения о разумности животных, собака также участвует в знаменитой диалектике. Этот человек сам говорит в пятом из так называемых неопровержимых аргументов, что если перед собакой три пути, по которым могла бы идти дичь, и она промахивается мимо следа на двух из них, то она не ищет сначала след на третьем, а сразу же преследует его с большой стремительностью. Это так же хорошо, говорит старый философ, как если бы собака сделала следующий вывод: дичь пошла либо по первому, либо по второму, либо по третьему пути; но теперь она не пошла ни по первому, ни по второму; следовательно, она должна была пойти по третьему.
70. Собака также распознает природу своих болезней и старается облегчить боль. Если собака натоптала занозу в лапе, она спешит вытащить ее зубами или освободиться от нее, потирая лапу о землю. Если у него где-то образовалась язва, он аккуратно слизывает вытекающий гной, потому что нечистые раны трудно заживают, а чистые – легко.
71. Он также очень хорошо соблюдает правило Гиппократа. Поскольку покой способствует исцелению ноги, он поднимает ее, когда у него есть рана, и старается держать ее как можно дольше неподвижной. Если он чувствует, что его мучают дурные соки, он ест травы, которые их выводят, и таким образом восстанавливает свое здоровое состояние.
72. Таким образом, очевидно, что животное (к которому, для примера, мы привели этот вопрос) желает того, что соответствует его природе, и бежит от того, что ей противно; что оно владеет искусством добывать свои потребности; что оно распознает и стремится облегчить свои болезненные состояния; что, наконец, оно не лишено добродетели. Поскольку это совершенство внутреннего разума, собака будет совершенной с учетом этого. Именно по этой причине, я полагаю, некоторые философы старались отличиться, приняв имя этого животного.
73. В настоящее время нам нет необходимости обсуждать разум в той мере, в какой он выражает себя через язык. Некоторые догматики сами отвергали использование языка как пагубное для воспитания добродетели и требовали молчания в течение всего периода обучения. Кроме того, мы можем представить себе человека, который был бы немым; никто не назовет его неразумным по этой причине.
74. Но если даже не принимать это во внимание, то, во-первых, мы заметим, что животные, о которых мы говорим, тоже произносят человеческие слова, например сороки и некоторые другие. Если же предположить, что мы не понимаем звуков, издаваемых так называемыми неразумными животными, то совсем не вероятно, что они говорят друг с другом, хотя и не понимают их. Мы также не понимаем языка варваров, но считаем его монотонным криком.
75. Мы слышим, что собаки издают другие звуки, когда отталкивают чужаков; другие – когда воют; третьи – когда их бьют; четвертые – когда льстят. В общем, как только мы обратим на это внимание, мы обнаружим большое разнообразие звуков не только у собак, но и у других животных, в зависимости от различных обстоятельств; так что можно с уверенностью сказать, что даже у так называемых неразумных животных есть язык, основанный на разуме.
76. Итак, если животные не уступают людям ни в остроте чувств, ни во внутреннем понимании, ни, как можно добавить, в языке, основанном на понимании, то их убеждения, в той мере, в какой они определяются воображением, вероятно, не менее надежны, чем наши.
77. И это можно показать таким же образом на примере каждого из неразумных животных. Кто может отрицать, что птицы отличаются умом и что они сообщают друг другу свои идеи с помощью речи, поскольку они распознают не только настоящее, но и будущее и указывают на него либо звуками, либо другими знаками тем, кто понимает его смысл?
78. Как я уже напоминал вам, я привел это сравнение животных с человеком только ради изобилия, поскольку я уже, как мне кажется, достаточно показал выше, что мы не можем предпочесть наши идеи идеям неразумных животных. Но если в суждении об идеях убеждения неразумных животных столь же надежны, как и наши, и если сами идеи различаются в зависимости от разнообразия животных, то я смогу сказать, каким представляется мне каждый предмет; но как он устроен по своей природе, я должен буду оставить нерешенным по причинам, о которых я только что говорил.
LITERATUR stopper Johann Gottlieb Buhle – Sextus Empiricus oder der Skeptizismus der Griechen, Lemgo 1801
Готтлоб Эрнст Шульце (1761 – 1833)
Основные моменты скептического образа мышления
§1 Вопрос: «Способен ли человек познать что-либо?» – касается высшей точки, до которой мы можем подняться в умозрении. Ибо ответом на него определяется ценность всего того, что, как предполагается, мы узнали о природе вещей благодаря нашим исследованиям этой природы.
§2 Не является само собой разумеющимся, что человек способен познать что-либо. Ведь поскольку нашему разуму часто приписывают совершенства, которых он полностью лишен, способность знать что-либо вполне может быть лишь одним из его мнимых достоинств.
§3 Вопрос о том, может ли человек обоснованно претендовать на знание, можно решить, только рассмотрев, с одной стороны, что необходимо для знания и при каких условиях оно происходит; а с другой стороны, выяснив, встречается ли и в какой степени то, что относится к этим условиям, в возможных для человека видах знания. Так как все вопросы, касающиеся силы и бессилия человеческого разума, относятся, собственно, к области учения о естественной организации этого разума и могут быть разрешены только на основании данных, получаемых при наблюдении за ним, то исследование возможности знания имеет также психологическое содержание.
§4. Спор между догматизмом и скептицизмом касается способности человека познавать что-либо. Первый утверждает, второй отрицает такую способность.
§5 Знание представляет собой особое совершенство нашего познания и означает обладание проницательностью, не допускающей никаких сомнений, в отношении определений, по существу принадлежащих каждому познанию как таковому. Эти определения и есть объективная и всеобщая достоверность знания.
§6. Каждое познание, какого бы рода оно ни было (чувственное или интеллектуальное), содержит в себе двойное отношение, по которому оно прежде всего познается, а именно: к познающему субъекту и к познаваемому объекту. Взятое в первом отношении, познание зависит от познающего субъекта и представляет собой особую модификацию его сознания. Согласно второму отношению, однако, оно выходит за пределы того состояния сознания, в котором состоит. Ибо объект, по отношению к которому и в согласии с которым познание есть прежде всего познание чего-то, а не просто воображение, всегда, будь то внешний или внутренний объект, должен представлять собой нечто отличное от и независимое от того определения сознания, которое является его познанием. Теперь, как известно, это отношение выражается суждением, что познание истинно, а под ошибкой, приписываемой познанию, понимается, что объект, по отношению к которому модификация сознания прежде всего обладает достоинством познания, существует только в воображении.
§7. Общая же достоверность состоит в том, что она имеет место в каждом существе, способном к познанию, как только в нем наличествуют условия, при которых оно имеет место, при условии тех же самых детерминаций. Общая достоверность знания является лишь следствием его объективной достоверности. Ибо под ней понимается такое качество познания, в силу которого оно зависит от природы познаваемого им объекта; уже считалось, что где бы познание ни происходило и не было фальсифицировано, оно должно быть совершенно одинаковым. Поэтому все действительные познания вещи должны быть согласны друг с другом во всех отношениях и везде.
§8. То, что всякое познание прежде всего отличается от простого воображения своей объективной и всеобщей обоснованностью, абсолютно предположительно. Тот, кто не признает эту предпосылку действительной, сваливает истину и ошибку в один класс и не может принимать участия ни в одном из споров о них.
§9. Наше сознание, согласно своей первоначальной организации, содержит детерминации, которые включают отношения к объектам и, следовательно, относятся к знанию. Эти отношения возникают в нем без всякого действия с нашей стороны, и никто не может заставить их возникнуть по своему желанию или, если они возникли, немедленно уничтожить их. Но мы можем подвергнуть их исследованию и выяснить, насколько мы понимаем их истинность и обоснованность.
§10 Догматизм, в той мере, в какой он претендует на знание чего-либо, гордится тем, что обладает пониманием объективной достоверности знания, выходящим за пределы свидетельства человеческого сознания. Так вот, поскольку познание бывает либо позитивным, либо негативным, поскольку оно определяет либо то, чем вещь является, либо то, чем она не является, догматизм также можно разделить на позитивный и негативный. Оба они отличаются друг от друга главным образом только по результатам их познания. Знание первого распространяется на положительные, второго – только на отрицательные качества вещей, к которым относится знание, соответствующее человеческой природе.
§11 Скептицизм же состоит в признании того, что ничего нельзя сказать о правильности притязаний на объективную и общую достоверность, которые выдвигаются в случае знания, соответствующего нашей природе. Согласно ей, неразрешимой проблемой является вопрос о том, вытекает ли эта достоверность только из определенной способности человеческого разума и, следовательно, является простым воображением, или же имеет свое основание и существование помимо этой способности.
§12 Утверждение скептицизма, что объективная и общая достоверность знания, соответствующего нашей природе или согласующегося с правилами опыта и рассуждения, является неразрешимой проблемой, распространяется на любое такое знание, будь то положительное или отрицательное, внешнее или внутреннее, чувственное или просто интеллектуальное; согласно ему, мы даже не в состоянии получить какую-либо информацию о том, что утверждение об этой достоверности более верно в одном виде знания, чем в другом.
§13 Скептицизм не уничтожает претензий, которые наши познания изначально и сами по себе предъявляют к объективной достоверности; он лишь не позволяет нам предположить знание о правильности этих претензий. Он просто приводит разум в состояние отказа от категорических суждений о том, имеют ли объекты, к которым относится наше знание, реальность, независимую от нашего сознания о них. Это состояние называется сомнением (epoche). Сомнения скептика, между прочим, не являются таковыми в той мере, в какой они представляют собой определения разума, а лишь отличаются по своим основаниям, предмету и объему от сомнений, которые также имеют место в разуме не скептика в отношении истинности некоторых познаний.
§14. Скептические сомнения не являются делом произвола и скорее имеют свои причины, из которых они неизбежно вытекают. Эти причины, однако, не являются прозрениями в отношении того, как знание возникает в человеке, и выводами из этих прозрений, с помощью которых можно показать, что человеческое знание не может совпадать с предметами, к которым оно относится, – ибо все эти прозрения также подвержены скептическому сомнению в их объективной достоверности, – но заключаются в размышлении, отчасти об условиях знания, отчасти об определенном устройстве человеческой природы, благодаря которому невозможность знания становится очевидной. Кто не занимается этим размышлением, у того эти сомнения возникнуть не могут. Поэтому она является отправной точкой скептического образа мышления (topos tes epoches).
§15 Для познания необходимо понимание того факта, что объективная действительность, которая имеет место в познании, не есть нечто, происходящее от познающего субъекта. Если теперь учесть, что без самосознания никакое познание невозможно и что всякое познание есть лишь представление отношения вещи к познающему субъекту, то ясно также, что никто не может уничтожить это отношение в любом познании, чтобы обнаружить, что представляет собой объект познания, очищенный от всех дополнений, которые могут исходить от субъекта. Иными словами, чтобы претендовать на знание, необходимо понять, что останется от познаваемых вещей после разрушения и изменения природы познающего субъекта или что будет уничтожено этим разрушением и уничтожением. Если мы примем во внимание, что самосознание абсолютно необходимо для всякого познания, то станет ясно, что ни один объект не может быть познан в соответствии с его независимостью от познающего субъекта.
§16 Если познания не могут быть представлены отдельно и очищены от того, что познающий субъект мог добавить к ним от себя, то ни одному из них не может быть приписана абсолютная, а только относительная достоверность. И даже если мы все еще чувствуем сильное принуждение приписать познанию отношение к вещам, которые существуют сами по себе, это принуждение относится только к нашему субъекту и ничего не говорит о том, является ли вещь чем-то или ничем, помимо ее отношения к нашему способу познания. Но если не существует абсолютно или внутренне достоверного знания, то не может быть и абсолютно достоверного знания.
§17 Поскольку абсолютно общая достоверность познания является следствием его объективной достоверности, так как познания, совпадающие со своим объектом, должны быть также абсолютно равны между собой, то скептические сомнения в предельной достоверности познания также оправдывают сомнения в первой. Однако достоверность прозрения для всех людей следует отличать от его абсолютно общей достоверности. И хотя эта обоснованность еще ничего не говорит о правильности претензий познания на объективную истинность, познания, в отношении которых люди полностью согласны друг с другом, имеют преимущество перед теми, в отношении которых это не так. Ибо последние уже несут на своем лбу знак своей ложности. Поэтому особым моментом в исследовании ценности человеческого знания остается вопрос о том, можно ли и если да, то с каким общим согласием можно считаться среди представителей нашей расы.
§18. Можно ли надеяться на общее согласие между людьми в связи с каким-либо знанием, это ясно только из того успеха, который имело занятие этим знанием нескольких людей, у которых были различия в талантах, культуре, привычках, наклонностях и вообще во всем, что имеет влияние на человеческое суждение. Если такое занятие всегда приводило к одним и тем же результатам, то из этого можно сделать вывод, что в человеческой природе существует общее и постоянное устройство, определяющее содержание и форму знания.
§19. Не нужно, однако, указывать, что мы говорим здесь только о сравнительном общем согласии между людьми в отношении того, что они считают знанием. Поэтому нельзя отрицать реальность универсально достоверного знания на том основании, что существуют различия в знаниях любого рода, обусловленные индивидуальным и часто лишь временным характером некоторых людей. Например, понимание того, что все углы треугольника, взятые вместе, равны двум прямым углам, не может быть лишено всеобщей достоверности из-за того, что кто-то отрицает правильность этого понимания из-за незнания его причин.
§20 Однако в отношении некоторых видов того, что люди считают знанием, можно принять во внимание только что описанное общее согласие, а в отношении других – нет, и они, как бы часто и как бы долго ни занимал ими человеческий разум, будут, ввиду их истинности, предметом спора, который, хотя и ведется самым искусным образом, тем не менее никогда не имеет иного исхода, кроме того, что каждая из спорящих сторон претендует на исключительное обладание истиной.
§21. Знание первого рода включает в себя как математическое знание, так и знание, полученное из внутреннего и внешнего опыта.
§22. Вероятно, излишне упоминать о той всеобщности, с которой до сих пор предполагалась правильность предложений в математике, поскольку, насколько известно, никто не мог отрицать эту правильность, не вызывая в то же время подозрения, что ему не хватает способностей и проницательности, необходимых для суждения о ней. Примечательно, однако, что математика не только демонстрирует свое превосходство над всем остальным, что порождает различия в человеческих суждениях, когда ею занимается интеллект, отделенный от всякого эмпиризма, но и в своем применении к законам движения в природе обеспечивает постоянно действующее знание этих законов и их следствий, чему астрономия и физика служат столь блестящими примерами.
§23 Кроме того, на то, что эмпирическое знание об объектах опыта способно к исправлению, ввиду того, что в нем действительно есть знание, и, таким образом, не принадлежит к тому способу воздействия на наш субъект приятных или неприятных вещей, благодаря которому оно становится общедействительным, указывает также то, что мы можем наблюдать ввиду этого знания; и нет никаких оснований предполагать, что постоянная организация человеческой природы делает различия в этом виде знания общими и необходимыми. Поэтому, как бы ни было неудовлетворительно эмпирическое понимание вещей для человеческого стремления к знанию, это понимание может быть доведено до такой степени, что приобретет постоянную ценность для всех людей, наделенных нетронутыми органами чувств.
§24. Но не только общая достоверность может быть положена в основу познания отдельных предметов, принадлежащих внутреннему или внешнему опыту, но к этой достоверности могут быть приложены и представления о том, в чем эти предметы согласуются, и о так называемых законах и правилах, под которыми стоит внутренняя и внешняя природа (причем эти правила есть не что иное, как общий и необходимый способ, каким нечто имеет место в природе, отделенный от того, что имеет место). Логика дает прекрасное доказательство этого в том, что она со времен Аристотеля учит о формальных условиях возможности мысли. Например, что из противоречивых предикатов только один может быть приложен к каждой вещи нашим рассудком; что, кроме того, то, что вообще верно для высшего понятия, должно быть верно и для всех низших понятий, лежащих ниже его; эти и другие логические правила с тех пор всегда находили совпадающими с природой человеческого рассудка. Своей общей обоснованностью математика также доказывает равную обоснованность логических принципов, касающихся условий мышления. Ведь, как известно, все доказательства математических теорем проходят по нити правил умозаключений, и если бы они не имели силы для всех, то никогда не были бы признаны истинными по общему согласию. Если, однако, мы приписываем знанию формальных законов мышления претензии на всеобщую достоверность, то тем самым не утверждаем, что установление этих законов уже несет в себе то совершенство, которое выражается в идее науки и которое также было достигнуто общезначимым способом или когда-либо может быть достигнуто.
§25 С другой стороны, как только человеческий разум, побуждаемый любопытством, выходит за пределы фактов внутреннего и внешнего опыта, а также за пределы определения тождества и различия познаваемых таким образом вещей посредством интеллекта, и исследует то, что, как предполагается, лежит в основе его сознания опыта, то, ввиду того, что он хочет распознать из этих оснований, он руководствуется и определяется предрасположенностью предположить истину, которая совершенно противоречит его содержанию. Эта предрасположенность яснее всего выражается в системах спекулятивной философии, из которых мы, следовательно, теперь также объясним ее, но только в соответствии с ее общими направлениями и следствиями.
§26 Хорошо известно, что намерение этих систем изначально направлено на реализацию Абсолютного и Необусловленного, которое, как предполагается, лежит в основе всего относительного и обусловленного, являясь его конечной опорой, скрытой от чувства и разума, который занимается простыми сравнениями; и каждая спекулятивная система философии является попыткой решить загадку мира, данную нашему сознанию доказательством абсолютно необходимого, из которого все случайное, как предполагается, черпает свое существование. Если мы теперь обратим внимание на главное различие в определениях, которые спекулятивные философы придавали основанию или источнику всего контингентного, то увидим, что один класс из них устанавливал только такие высшие причины мира, которые по своему строению имели сходство с тем, что чувства и рассудок узнают из опыта. Другой класс философов, напротив, принимал за несомненный принцип, что Абсолют или носитель всей конечности должен быть совершенно иным, чем то, что подчиняется законам природы, и поэтому может быть постигнут в своей непостижимости только разумом, отвергающим всякую ограниченность. По мнению этих философов, видимая природа сама является лучшим учителем того, что лежит в ее основе, а абсолют, из которого, по их мнению, возник мир, есть, строго говоря, лишь безмерная совокупность причин, природа и образ действия которых могут быть поняты по аналогии с вещами в мире. Абсолют этих философов, однако, представляет собой противоречивую противоположность всему, что познается чувством и пониманием, и, поскольку ему не присущ какой-либо дефект, он по своей сути является непроницаемой тайной.
§27 Эта врожденная склонность человеческого разума принимать противоположные принципы в поисках определения того, что должно стоять во главе всех конечных вещей, является также источником всех споров, которые с тех пор происходят в области философии, насколько они касаются фактического предмета этой доктрины или решения загадки мира. Сторона философов, полагающих, что они нашли ключ к этой загадке в чем-то постижимом, всегда упрекалась другой стороной в том, что она представляет в качестве абсолюта ограниченную вещь, взятую из глупости разума в сфере конечности, и стремится установить весь ряд условий с помощью чего-то, что само по себе и для себя не имеет никакого существования. Против мудрости этой партии, однако, они напоминают, что их абсолют – лишь плод преувеличенного воображения и что разум вообще ничего не может мыслить.
§28. Однако не каждая философская система во всех своих доктринах соответствует либо естественной склонности к разумному, либо к непостижимому, и некоторые философы, похоже, полагали, что смогут добиться широчайших аплодисментов для своих философских тем путем ловкого смешения разумных и непостижимых сверхчувственных причин, если каждый ум сможет найти в них пищу для своей особой склонности. Если же философский талант проявляется с универсальной последовательностью, то либо, как у Эпикура, интерес к непостижимому приносится в жертву интересу к постижимому и первоисточник всей реальности натурализуется, либо, как у Платона, принимается во внимание только удовлетворение первого интереса, а основание всех вещей идеализируется.
§29. Вследствие постоянного различия в устройстве человеческого разума, обусловленного самой природой, от которого зависит восприятие принципов, к которым стремится истинная цель спекулятивной философии, нельзя поэтому ожидать согласия между теми, кто желает достичь этой цели, И все доказательства, приводимые в пользу истинности философий одного рода, могут иметь лишь частную силу, так что противоположные им философии могут быть поддержаны столь же строгими доказательствами, бесспорно действительными для других умов. Этим обстоятельством объясняется и то, что в моменты наивысшего стремления человеческого разума достичь цели философского умозрения и как только таланту к такому умозрению позволяется преследовать свои цели, свободные от всяких предписаний внешней силы, каждый раз изобретается несколько систем, противоречащих друг другу по своим принципам и результатам, или, если они уже были изобретены, объясняются и защищаются философскими умами.
§30. Если же вы спросите, как можно обосновать предположение о естественной и постоянной склонности человеческого ума к антилогии [противоречию – wp] в вопросах философского умозрения и почему следует отказаться от всякой надежды на будущее согласие в самом важном для человеческого любопытства вопросе, то мы ответим, что из истории философских систем и из содержания споров, которые ведутся о них, можно с полным правом вывести существование этой склонности. Ибо в этих спорах, в их наиболее важных моментах, обнаруживается вечная борьба между тенденцией сделать принципы вещей в мире понятными и тенденцией подняться над всем понятным и признать каждую из этих вещей видимой оболочкой невыразимого чуда, скрывающегося за ней. И все страницы этой истории свидетельствуют о том, что лавры, добытые самыми энергичными и искусными бойцами в этой битве, были лишь зелеными, пока за дело, которое они погубили, не взялся могущественный чемпион. Достижение истинной цели спекулятивной философии не требует трудоемкого сбора, сравнения и препарирования множества фактов опыта, которые могут быть завершены только после нескольких предыдущих несовершенных попыток. То, что ведет философа к этой цели, он должен, как математик основы своей науки, черпать из самого себя. И можно подумать, что человеческий разум уже так долго философски рассуждает и достиг такого возраста, что, если бы он обладал способностью достигать цели этих рассуждений в целом удовлетворительным образом, эта способность, вероятно, не оставалась бы дремлющей до настоящего времени.
§31 Итак, то, что философские системы рассматриваются скептиком, очевидно из того, что было сказано до сих пор, а именно как продукты спекулятивных идиосинкразий [Mischmasch – wp], которыми, в конце концов, наделен человеческий разум, и ни одна из которых не может претендовать на достижение цели, к которой они на самом деле направлены, больше, чем другая. Это, однако, не отрицает того, что между ними существуют большие различия, отчасти в связи с искусством и затратами интеллектуальной энергии, с которыми они были созданы, отчасти в связи с более острым определением и более тщательным анализом опыта, которые они предполагают, отчасти в связи с их соответствием тенденции и образу мышления, преобладающему среди большинства людей на определенной стадии культуры, и что в этом отношении один претендует на преимущества перед другим.
§32 Но нельзя достаточно часто подчеркивать, что отнюдь не всякое сомнение в возможности знания вообще и философского знания в частности является скептицизмом и что оно отличается от всякого предположения о пределе человеческого знания, которое вполне совместимо с догматизмом, отчасти из-за отсутствия всякой ограниченности в его сомнениях, отчасти из-за того, что они не содержат ни малейшей претензии на какую-либо иную, кроме чисто субъективной, обоснованность.
§ (33) В силу причины, из которой проистекают скептические сомнения в возможности действительного знания, никакое отдельное знание не может считаться превосходящим эти сомнения. Эта причина состоит в том, что наше сознание является единственной гарантией, которую мы в состоянии предоставить для правильности наших убеждений, но что это сознание совершенно неспособно научить нас тому, что относится к объективной природе того, что известно, без ссылки на его способ познания чего-либо. Следовательно, мы должны также отказаться от всякого понимания того, что любое познание, соответствующее нашей природе, более или менее свободно от каких-либо дополнений, исходящих от познающего субъекта, чем любое другое. Следовательно, ни одно из них не может служить критерием истинности другого, а интеллектуальный способ познания не может определять объективную истинность чувственного. Однако в случае с некоторыми вещами, которые предстают перед нами под знаком знания, трудно полностью оставить в стороне объективную истинность того же самого. Но и такие случаи являются критерием подлинно скептического образа мышления, который распознается в том, что человек не позволяет ввести себя в заблуждение какими-либо кажущимися причинами в воздержании от всякого категорического суждения об объективной достоверности нашего знания, какой бы кажущейся она ни была, но с непоколебимой твердостью (ataraxia) остается верен принципу, что эта достоверность является проблемой.
§34 Более того, скептический способ мышления полностью отменяется и принимается догматический, если основаниям признания невозможности знания придается какая-либо объективная обоснованность, помимо его субъективной обоснованности для человеческого сознания. Этим признанием скептик лишь обозначает состояние, в котором находится его разум, когда он должен судить и решать вопрос о достоверности отношения к объекту, отличному от акта познания, который имеет место в познании.
§35 Все различия в скептическом способе мышления касаются только его устранения и представления, и не может быть нескольких видов скептицизма, как и догматизма. Ибо причины, порождающие специфические различия в первом, полностью отсутствуют во втором, поскольку его сомнения в возможности знания проистекают из одного и того же источника и не допускают никаких ограничений. Что обычно заставляет нас считать, что скептицизм также является сектантским разделением, так это его смешение с негативным догматизмом.
§36 Кроме догматического и скептического способов мышления о возможности знания, не существует третьего способа, отличного от обоих. Ибо они являются противоречивыми противоположностями, и то, что один утверждает о такой возможности, другой абсолютно отрицает. Поэтому переход от одного к другому невозможен. И они никогда не могут совпасть ни в одном из своих результатов. Ведь отказ от всякого определенного представления об объективной достоверности всякого утвердительного и отрицательного знания навсегда отдаляет скептика от всей мудрости догматика. Последний же, чтобы приблизиться к ней, должен был бы отказаться от возможности знания, допущение которой является его особенностью.
§37 Тот факт, что догматизм и скептицизм исчерпали все возможные способы мышления о ценности человеческого знания и что философ должен быть привязан к тому или другому, отрицается новейшим идеализмом, который в любой форме, которую он принял за столь короткое время, претендует на то, что достиг точки зрения в спекуляции, с которой ошибки и заблуждения, лежащие в основе обоих, могут быть замечены и исправлены. Поэтому мы должны более точно выяснить природу и определенность этой точки зрения.
§38 Идеализм, изложенный в «Критике чистого разума», претендует на то, чтобы занять позицию, превосходящую догматизм и скептицизм, путем исследования происхождения наших идей из внутренних и внешних источников и пригодности их для познания. Из этого исследования должно стать неоспоримо ясным, что в человеческом разуме априори присутствуют понятия и принципы, которые необходимы для возможности эмпирического знания, но совершенно бесполезны вне его. Поэтому, по его мнению, догматизм впал в заблуждение и пустое самомнение, рассуждая до посинения и с помощью этих понятий и принципов (например, с помощью принципа причинной связи и отношения обусловленного к необусловленному) стремясь получить знание о предметах, существующих вне всякого опыта. Скептицизм же, как говорят, обеспечил это тем, что из-за неудачи всех догматических попыток такого рода он не доверял всякому использованию чистых понятий и принципов, а также отрицал их всякое отношение к познанию опыта, как учат сомнения HUME в реальности понятий причинной связи [hume2] вещей.
§39. Теперь, чтобы правильно оценить это возвышение критического идеализма над догматической и скептической мыслью, вовсе не обязательно подвергать тщательному исследованию то, что последняя претендует знать о происхождении различных составных частей эмпирического знания из внешних и внутренних источников (из привязанности ума к вещам самим по себе и из законной самодеятельности ума), – и в этом отношении менее всего весь аппарат доказательств и выводов, приводимых для этого знания, как об этом достаточно ясно свидетельствует история того времени, вызвал всеобщее и продолжительное одобрение среди философствующих умов в Германии, – но нам остается только попросить его показать, как следует воспринимать и понимать его выведение случайного или переменного в познании опыта из причины, лежащей вне разума, а необходимого или постоянного – из самодеятельности разума, определяемой его организацией? Если критический идеализм в этой дедукции претендует на прозрение объективной достоверности, то это не более чем догматизм особого рода, и тогда он может оправдать себя только против реминисценций скептицизма, следовательно, показывая, что эта дедукция свободна от всяких дополнений, происходящих из человеческого сознания. Если же его учение о внешнем и внутреннем источнике эмпирического знания не призвано ничего утверждать о происхождении составляющих этого знания как такового и в соответствии с истиной, то он произнес бы его со скептическим благоразумием. Но тогда следует спросить, какую ценность имеет основанное на этой доктрине утверждение, что мы познаем объекты опыта только такими, какими они нам представляются, а не такими, какими они являются сами по себе.
К какому пониманию устройства человеческого разума в целом ведет критика разума, можно легко узнать, как только выяснится ее результат, что мы познаем все внутри и вне нас только так, как оно нам представляется, а не так, как оно есть само по себе, как установленный факт ее доктрины о механике человеческой способности познания, а затем смысл и содержание того, что она говорит о привязанности разума к вещам-в-себе, о пространстве и времени, о категориях понимания и идеях разума.
Но что касается критического опровержения нападок Юма на принцип причинности, то даже если бы оно было точным во всех отношениях, его нельзя считать даже прикоснувшимся к тому, на чем держится все в скептицизме. Ведь здесь важно намерение, с которым были сделаны эти нападки. Если намерение Хьюма состояло в том, чтобы противопоставить доказательствам Локка о реальности принципа причинности столь же строгие доказательства нереальности этого принципа, то он действовал в соответствии со скептическим образом мышления. Но если он приписывал уверенность своему выведению понятий причинной связи из законов воображения, он отказывался от этого способа мышления, характер которого не состоит в выведении из действенности воображения того, для чего другие философы утверждают, что нашли материал в данных чувственного восприятия.
§40 Победа, которую критика разума претендует одержать над скептицизмом, считается завершенной идеализмом учения о науке, поскольку оно выводит не только форму, но и всякое содержание человеческого знания из абсолютной, но закономерной деятельности «я». Согласно ему, различие между представлением и бытием, или между познанием, принадлежащим сознательному субъекту, и реальным, независимым от этого субъекта, является неизбежной видимостью с общей точки зрения сознания, но оно полностью устраняется и стирается для разума тем пониманием, которое трансцендентальный идеализм дает механике человеческого разума и основанию в ней постулирования всякого существования вещей, отличных от эго и его сознания. Ибо, согласно этому пониманию, нет никакой реальности самой по себе или никакого существования, независимого от нашего сознания, а то, что представляется нам таковым на низшем уровне сознания, который у нас общий с животными, везде есть не что иное, как результат законного действия эго, и это действие составляет абсолютное первое. Поэтому и догматический реалист в своем познании должен быть лишь плодом воображения; но скептик портит радость от того, что он его нашел, только тем, что принимает этот плод за реальность, а затем показывает, что он находится в недостижимой дали.
§41. Теперь, чтобы сказать, что и этот идеализм необоснованно претендует на то, что он достиг в умозрении свойственной ему высоты, где скептицизм не может ему повредить, нам не нужно сначала освещать его подвиг субъект-объективации с самого начала, а только поставить перед ним вопрос, на который он не может отказаться ответить: А именно: является ли то, что он говорит об абсолютном действии «я», как источника всего существующего для человеческого сознания, опять-таки простой фантазией и субъективным определением человеческого сознания или же должно быть принято за истинное и объективно действительное осуществление природы и механики «я»? Если первое, то вся его мудрость об абсолютном действии «я» была бы простой фантазией. Но эта мудрость должна быть не систематизированным воображением, а наукой. Поэтому следует предположить, что в своих доктринах о действии эго, посредством которого оно объективирует себя и проецирует из себя очевидно реальный мир, оно претендует на объективную обоснованность того же самого. Но тогда она не должна не оправдать эти претензии перед скептиком и должна доказать, каким образом она приходит к пониманию того, что истина, которая, как предполагается, имеет место в ее рассуждениях об эго, не является следствием самообмана человеческого сознания.
§42. С другой стороны, идеализм, претендующий на то, что он нашел в совершенном равенстве или тождестве идеального и реального, мысли и бытия, первичную истину и принцип всех вещей, претендует на то, что он открыл и может доказать в интеллектуальном созерцании способность познания, в котором исчезает всякое различие между познающим субъектом и познаваемым объектом, и доказать, отчасти, что все неудачи предыдущих догматических попыток достичь знания, а отчасти скептические сомнения в возможности знания проистекают исключительно из незнания интеллектуального взгляда или абсолютного способа познания. Это доказательство заключается в следующем: (см. «Neue Zeitschrift für spekulative Physik», by SCHELLING, vol. I, first part, page 1 – 78).
Даже если догматизм обладал идеей абсолюта как совершенного равенства мысли и бытия, возможности и действительности (или как единства, в котором бытие вещи непосредственно следует за ее понятием и связано с ним), он тем не менее совершенно неправильно оценивал абсолютный способ познания, имеющий место в виду абсолют, фиксировал и рассматривал абсолют как объективную вещь, отличную от субъективного познания философа, и поэтому предполагал, что в отношении абсолюта возможно только относительное знание (к которому истина приходит только через отношение к противоположному реальному), и подвергал нападкам и сомнениям скептицизма через свое знание абсолюта.
Поскольку это знание было лишь мышлением, а из мышления вещи ее реальность ни в коем случае не следует и не может быть достигнута, скептику было легко опровергнуть догматическую мудрость во всех ее формах. Таким образом, если это истинный скептицизм, то он направлен целиком против рефлективного знания (которое по своей природе основано на противопоставлении мысли и бытия), но по принципу истинного умозрения, основанного на интеллектуальном созерцании, за исключением того, что он не может утверждать это категорически, поскольку в противном случае он перестал бы быть скептицизмом. Против истинного умозрения, с другой стороны, или против абсолютного знания, он ничего не может сделать, ибо не может использовать никакого другого оружия, кроме того, которое взято из обычного и относительного знания, реальность которого он сам должен оспаривать, поскольку оно не просто сомневается, но и полностью отвергается этим умозрением.
Примером высшего и абсолютного знания, которое также можно назвать доказательным, могла бы послужить математика. Ведь в этой науке мысль всегда адекватна бытию, понятие – объекту, и как может возникнуть вопрос, является ли то, что верно и определенно в мысли, также и в бытии или в объекте, или как то, что выражено в бытии, становится необходимостью мысли. Одним словом, здесь нет никакого различия между субъективной и объективной истиной; субъективность и объективность абсолютно едины, и нет такого построения этой науки, в котором они не были бы едины. Это единство также является чистым доказательством. В геометрии, однако, оно проявляется в подчинении бытию, тогда как в арифметике – в подчинении мышлению. Таким образом, обе науки выражают характер абсолютного знания, хотя и не в своей субстанции или непосредственных объектах, которые принадлежат лишь изображаемому миру, но формально наиболее совершенно.
Математическое доказательство, однако, является лишь одним из видов интеллектуального восприятия, которое состоит в способности видеть общее в частном, бесконечное в конечном, оба объединенные в живое единство, или видеть единство и безразличие мысли и бытия не в том или ином отношении, а как таковые, следовательно, как доказательство во всех доказательствах, истину во всей истине, чисто известное во всем, что известно. Это абсолютное знание дает абсолютное знание через себя и, будучи формально абсолютным, является абсолютным и в своем объекте. Оно целиком находится в абсолютном «я», не исходит из него, не возникает из него и не завершается в нем, а является познанием самого абсолюта, с упразднением всякого отношения различия между ним как познаваемым и субъектом как познающим. Но это называется интеллектуальным восприятием. Ибо всякое восприятие есть уравнивание или единство мышления и бытия. Интеллектуальным же оно называется потому, что является воззрением разума и, как познание, в то же время едино с объектом познания. Как геометр в своей науке переходит непосредственно к своим построениям без всякого руководства со стороны чистой интуиции, так и для философа в строго научном построении интеллектуальный или рациональный взгляд – это нечто определенное, относительно чего не высказывается никаких сомнений и не требуется объяснений. Это то, что предполагается абсолютно и без всяких требований, и в этом отношении его даже нельзя назвать постулатом разума. Поэтому, как свет нельзя научить и показать тому, кто родился слепым, так и его нельзя научить и показать тому, кто родился слепым, но каждый должен постичь его живым внутри себя. И совершенно непонятно, почему философия должна быть обязана особо учитывать неспособных, ведь скорее следует резко отрезать доступ к ней и изолировать ее со всех сторон от общего знания, чтобы к ней не вела никакая тропинка или дорожка. Но если его нельзя никому преподать путем наставлений, то у него есть и то преимущество, что ему никто не может противостоять, ибо он – свет, пробивающийся сквозь него, поскольку сам является днем и не знает тьмы, и как он есть принцип всякого постижения посредством разума, так он есть и принцип своего собственного постижения.
Однако, как только кто-то вступает в область философии, его со всех сторон подталкивают к признанию формы знания, которая лишь формально абсолютна на данный момент. Ведь существование философии само по себе, даже в одной только идее, доказывает необходимость предпосылки, что знание, к которому человек приходит обычным путем, не является истинным знанием. Но от этого признания до осознания того, что для сознания существует точка, в которой абсолют и знание абсолюта абсолютно едины, всего один шаг. Ведь уже из одной только идеи Абсолюта, согласно которой он состоит из равного абсолютного единства идеальности и реальности мысли и бытия, сущности и формы, можно доказать, что такая точка существует. Ибо поскольку, согласно предпосылке формально-абсолютного познания, происходящего в интеллектуальном сознании, абсолют есть познание по форме, то, в силу абсолютной безразличности сущности и формы, принадлежащей его идее, он есть и по сущности в познании абсолютное единство мысли и бытия, идеального и реального, есть вечная форма абсолюта, не отличная от его сущности, самого абсолюта. Теперь в абсолютном познании есть именно такое единство мысли и бытия (как показано); единственное противоречие, которое могло бы остаться, состояло бы в том, что познание формально определено и как таковое принадлежит самому Абсолюту, единство сущности и формы принадлежит его идее: и формально-абсолютное познание есть поэтому обязательно в то же время познание самого Абсолюта.
Таким образом, существует непосредственное познание Абсолюта (и только Абсолюта, поскольку только с ним возможно условие непосредственного доказательства: единство сущности и формы), или существует знание, которое является одновременно сущностью и реальностью самого Абсолюта. Это знание – день, в котором мы постигаем все чудеса, скрытые в Абсолюте и не раскрытые им самим по себе, и, следовательно, первое спекулятивное знание, принцип и основание возможности, которое, таким образом, покоится на уравнении абсолютного знания и самого Абсолюта. Непосредственными модусами такого знания являются идеи, но само знание есть идея всех идей, форма всех форм. Тот, кто не обладает этим знанием, не обладает и органом философии и поэтому держится от нее подальше.
43 Однако нельзя отрицать, что изобретатель абсолютного идеализма и последний обладатель искусства видеть все во всем описал в том, что он называет интеллектуальным созерцанием, способ познания, продукты которого должны быть вне всяких скептических сомнений. Ведь в нем полностью исключается всякая возможность отклонения познаваемого объекта от познания. Но ничто так не говорит об основательности и разумности скептицизма, как то, что приходится прибегать к такому чудовищному вымыслу, чтобы иметь возможность сказать что-то в пользу возможности познания вопреки скептицизму. Ведь очень легко показать, что хваленая интеллектуальная точка зрения – не более чем выдуманное чудовище.
Обратимся сначала к тому пункту, который составляет начало и конец мудрости абсолютного идеализма, более того, предполагается, что он сам является этой мудростью, или к идее совершенного равенства и тождества идеального и действительного, возможности и актуальности. Теперь стоит только принять во внимание, что понятия субъективной мысли и объективного бытия противоречат друг другу по своему содержанию, чтобы сразу же понять, что сознание единства этих двух понятий невозможно, и что, следовательно, высшее знание разума абсолютного идеализма представляет собой противоречие. Дальнейшее обсуждение природы этого знания, однако, излишне, поскольку сам его первооткрыватель признается с беспрецедентной наивностью (см. «Kritisches Journal der Philosophie», vol. 1, вторая часть, стр. 128: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums), что предложение только тогда содержит знание разума и перестает быть умопостигаемым, когда объединяемые в нем понятия отменяют друг друга и противоречат друг другу, и что умозрение, исключительное для его системы, начинается с уравнения противоречиво противоположных понятий, которое содержит противоречие. Но, конечно, ему следовало бы указать, с чего он начинает, чтобы объединить понятия, которые отменяют друг друга и, следовательно, изгоняют и уничтожают друг друга из одного и того же акта сознания. С этим признанием не хочет примириться и его полемика против других систем, в которой он так часто объявляет непоследовательность этих систем причиной их предосудительности. Согласно заявленным им характеристикам познания разума, эти несоответствия также должны были бы рассматриваться как особые прозрения разума, возвышающегося над пониманием.
Но даже если бы мы захотели воздержаться от того, что в центре всей мудрости и науки абсолютного идеализма лежит явное противоречие, оно все равно было бы весьма предосудительным в другом отношении. Ведь то совершенное равенство идеального и реального, согласно которому одно составляет одно и то же с другим по своему содержанию, то есть одно полностью аннулируется и уничтожается одним, а другое – другим, должно также составлять самое возвышенное, что может постичь разум, или совершенно бездефектный абсолют, единственный вид, истинную субстанцию. Таким образом, корни и элементы этого абсолюта – это два понятия, содержание которых состоит из данных нашего сознания и которые не выражают ничего, кроме относительности. Теперь, через предполагаемое отождествление их, каждый пункт их различия был бы аннулирован, но ни в коем случае не и то, что ограничено в объектах одного и того же. Поэтому следует признать, что абсолютный идеализм основан на одной из самых скудных фикций, с помощью которых когда-либо создавался образ высшей реальности, и вместо того, чтобы накормить человеческий дух нетленной манной небесной, предлагает ему для вечного разгрызания композицию из одних лишь земных ограничений. Но пусть не говорят, что догматизм уже давно придумал в Абсолюте нечто такое, чья реальность определяется его возможностью, и в чем последнее вытекает из первого.
Ибо нужно совсем немного внимания, чтобы понять, что возможность совершеннейшего бытия, из которой, по мнению некоторых древних философов, следует выводить его реальность, была совсем иного рода, чем та, что отождествлялась с реальным в абсолюте системы тождества. Кстати, не следует упускать из виду и то, что если кто-то сейчас покончил с отвратительным умственным внушением себе и начал поклоняться истинной реальности в тождестве мышления и бытия, то этот же человек впоследствии решит загадку отделения всей кажущейся индивидуальной идеальности и реальности от Абсолюта для человеческого сознания при применении абсолютного идеализма, Так как, согласно этому решению, в Абсолюте можно найти только возможность, но не одновременно и действительность отделения индивидуального, то высокочтимое тождество идеального и реального, как уже само по себе пораженное противоречием и отделением от них, должно рассматриваться и, следовательно, рассматривается насквозь, как относительное небытие.
Но фактическое опровержение скептицизма абсолютным идеализмом основывается на том, что предполагается знание абсолюта, состоящее из компонентов, которые являются ничем иным, как единствами, в которых нет никакого различия между познающим субъектом и познаваемым объектом, и которое поэтому само полностью тождественно с абсолютом или представляет собой совершенное равенство мысли и бытия. Незнание этого знания, как говорят, является источником скептицизма.
Теперь, как только прекращается всякое различие между познающим субъектом и познаваемой вещью, в человеческом разуме наступает состояние бессознательного бессилия, и тогда уже ничего нельзя познать, – это вопрос общеизвестный, который не может быть решен согласно предполагаемым идеям разума, но только согласно данным внутреннего опыта. Между тем изобретатель абсолютного идеализма претендует (не как человек, а только как спекулятивный философ) на обладание знанием, благодаря которому его познающее «я» слилось с познаваемым объектом в абсолютное единство и которое поэтому не относится ни к субъекту, ни к объекту. Но чтобы способность этого познания абсолютного рода не была причислена к тем способностям, которые из глупого самодовольства приписываются человеческому разуму, он подкрепил предположение о ее реальности, которая все же отличается от простой возможности, особыми доказательствами, силу которых мы должны проверить, именно потому, что таким образом скептицизм должен быть сведен на нет.
Даже математика в своих построениях должна служить примером знания, абсолютного по крайней мере по форме, поскольку субъективное (понятие) и объективное (восприятие, соответствующее понятию) должны быть абсолютно едины. Разумеется, в каждом правильном математическом построении представление, лежащее в основе понятия, должно быть ему адекватно. Но при построении математик не отождествляет свой познающий субъект с фигурой, которую он производит путем построения, и поэтому это не абсолютное познание, согласно описанию, данному в абсолютном идеализме. Кроме того, как известно, интуиция содержит больше детерминаций, чем в математическом понятии, которое она конструирует, и поэтому последняя не может быть тождественна первой. Но если сам изобретатель абсолютного идеализма учит («Neue Zeitschrift für spekulative Physik», т. 1, первая часть, стр. 35; вторая часть, стр. 24), отчасти, что математика имеет только условную или относительную истину, отчасти, что треугольник, который строит геометр, не есть реальный, т.е. единичный треугольник, отчасти, что треугольник, который строит геометр, не есть реальный треугольник, т.е. не единичный треугольник. С другой стороны, утверждая, что реальный или кажущийся треугольник не имеет никакой сущности, он сам противоречит утверждению, что математика представляет собой пример формы знания, которое является абсолютным.
Но что касается уверенности в том, что для философа (школы абсолютных идеалистов) интеллектуальное восприятие есть нечто определенное, относительно чего не возникает никаких сомнений и не требуется никаких объяснений, что оно даровано ему божественной судьбой и что поэтому ему совершенно незачем принимать во внимание признание узких умов, мачехой которых является природа и которые не могут найти в себе способности к такому восприятию; Это, конечно, средство одним ударом уничтожить все возражения против реальности абсолютного способа познания, а также против абсолютного единства идеального и реального, против того, чтобы все постигалось из разделения этого единства или из отпадения от него, и против божественного искусства видеть все во всем. Ибо тот, кто родился слепым, должен воздерживаться от желания выносить суждения о свете. Но столь бесцеремонное заверение в обладании способностью, которой, как предполагается, были лишены другие люди, справедливо игнорируется, поскольку с его помощью можно доказать любому криводушию, что это истинный философский талант, и любому заблуждению, в которое впал разбитый ум, покинутый разумом, что это свет, делающий все чудеса мира понятными.
Но изобретатель абсолютного идеализма, похоже, не верит в тот внутренний свет, которым он обладает и который дарован ему божественным провидением, и поэтому добавляет доказательство реальности интеллектуальной концепции абсолюта, взятой из идеи философии. В этой связи он говорит, что каждый, кто вступает в область философии, может быть со всех сторон подтолкнут к признанию некоего знания, которое пока лишь формально является абсолютным, поскольку идея философии уже доказывает, что обычное или относительное знание не является истинным знанием; но от этого признания до осознания того, что Абсолют и знание об Абсолюте едины, остается лишь один шаг. Теперь мы с готовностью признаем, что для реальности философии, если она должна быть настоящей наукой, необходима абсолютно достоверная истина, но мы отрицаем, по причинам, уже рассмотренным выше, что такая истина может существовать для человеческого сознания. Идея философии, если эту идею не следует понимать как тождество запоминаемости и реальности философии, не может, следовательно, заставить признать формально абсолютный способ познания. Следовательно, доказательство того, что формально абсолютное познание должно быть едино с самим абсолютом, основанное на понятии абсолюта как тождества мысли и бытия, сущности и формы, вообще не имеет доказательной силы. И если бы абсолютность познания была причиной его тождества с самим Абсолютом, то это должно было бы относиться и к абсолютности математического познания, и субстанция этого познания также была бы самим Абсолютом и не могла бы принадлежать представляемому миру, как утверждает открыватель этой абсолютности. Если, наконец, принять во внимание, что, согласно неизменному учению абсолютных идеалистов, осознание различия между познающим «я» и познаваемым объектом необходимо для возможности человеческого сознания чего-либо; Таким образом, неопровержимо очевидно, что интеллектуальное видение, которое предполагается как свет, посредством которого постигается природа Абсолюта со всеми скрытыми в ней чудесами, и которое поэтому называется всевидящим оком мира, никогда не может быть дано человеку в состоянии бодрствования (ибо в нем всегда существует контраст между познающим «я» и познаваемым объектом), и что это всевидящее око мира, с которым абсолютный идеалист абсолютно един, никогда не может быть дано человеку в состоянии бодрствования, и что это всевидящее око мира, с которым абсолютный идеалист абсолютно един, которое к тому же открывает ему все чудеса Абсолюта, независимо от того, что оно тождественно с сущностью Абсолюта, которая сама по себе ничего не открывает, может быть действенным только во сне без сновидений и в бессознательном состоянии. Но даже если ночь бессознательного состояния, в которой абсолютный идеалист должен заниматься философствованием, должна сделать понятным, как он может думать, чтобы видеть все во всем и видеть себя отождествленным с Абсолютом, все равно остается загадкой, как он может рассказать что-либо о чудесах этой ночи, когда он бодрствует.
44. От освещения тех рассуждений об истине человеческого знания, которые, благодаря своей чистоте, должны быть свободны от всех ошибок догматизма, а также от всех нападок со стороны скептицизма, мы переходим к рассмотрению тех, в которых последний представлен как пораженный в самом себе неискоренимым противоречием, а потому саморазрушительный. Справедливо, однако, не принимать во внимание то, что в результате грубого недопонимания и слепой пристрастности приписывается скептическому образу мышления.
(45) Утверждение, что тот, кто отрицает достоверность всякого знания, если он не хочет противоречить самому себе, должен также объявить свои сомнения в этой достоверности неопределенными и тем самым уничтожить их, повторялось так часто, что можно понять, что человек должен был придать ему большой вес. Более того, она дает то преимущество, что от скептицизма со всеми его возражениями против догматического знания можно избавиться очень быстро и без всякого освещения содержания этих возражений. Легко, однако, показать, что видимость основательности, которой держится это возражение против скептицизма, возникает лишь оттого, что природа сомнения отчасти совершенно неправильно понимается, отчасти оттого, что учению скептицизма придается характер догматической системы или что его принимают за ряд утверждаемых как объективно достоверных предложений, истинность которых предполагается покоящейся на высшем принципе, и поэтому думают, что если одному принципу недостает определенности, то она должна отрицаться и для всего ряда.
Признание скептиком неопределенности всякого знания есть, по сути, заявление о том, что он ничего не решает относительно объективной достоверности, на которую претендует все то, что человек считает знанием, поскольку считает невозможным обнаружить объективное содержание знания, которое не исходит от познающего субъекта. Поэтому сомнения скептика – это лишь особые детерминации его сознания; они существуют лишь вместе с сознанием, которое их содержит, и не являются чем-то отдельным от этого сознания в большей степени, чем признание познания истинным является чем-то отдельным от сознания, которое его содержит. Таким образом, они также не относятся к вещи, отличной от состояния «я», из которого они состоят, и которое тем самым было бы предложено «я» для познания, и они не в большей степени могут быть сделаны объектом сомнения, отличного от него, чем признание познания истинным может быть сделано объектом другого признания истинным, чтобы, например, вырвать его из всякой неопределенности.
Кроме того, что касается оснований скептического сомнения, то они не заключаются в знании, претендующем на объективную достоверность. Ведь они являются лишь осознанием отсутствия тех условий, при которых знание вообще может иметь место, а это отсутствие ни в коем случае не отличается от осознания того же самого.
Из этого рассуждения о скептическом сомнении одновременно следует, что распространение его на все знание происходит не путем выведения подчиненных предложений из некоего высшего принципа, а что основание, на котором все знание скептически объявляется неопределенным, лежит непосредственно в нем самом. Ибо оно состоит в размышлении над тем, что объективное содержание знания не может быть определено. Поэтому это всегда один и тот же акт благоразумия, который в отношении любого конкретного знания порождает скептическое сомнение.
(46) Говорят также, что скептицизм противоречит своему утверждению о том, что все неопределенно, различая в человеческом знании истину и видимость, поскольку это различение предполагает достоверное представление о свойствах истины и видимости, но при этом не приносит никакой пользы.
Ответ на этот упрек состоит в том, что скептик, рассматривая природу истины и видимости, исходит из того, что говорит о них человеческая природа, и не способен к дальнейшему доказательству, поскольку всякое доказательство действительно лишь в той мере, в какой то, что предполагается принадлежащим природе истины, встречается среди составляющих его элементов. Но поскольку эта предпосылка является лишь стандартом для суждения об истинности нашего знания, ей не противоречит признание того, что всякое человеческое познание лишено того, по чему можно установить его истинность. Скептик также не отрицает, что определение истины и видимости, на котором основаны его сомнения, сформулировано в соответствии с положениями человеческой природы, и поэтому он приписывает этим сомнениям обоснованность только для человека (см. §34).
(47) Но хотя всегда можно сказать, и это уже не раз говорилось, что скептицизм побеждает в борьбе с догматизмом и может быть ранен последним в единственную точку, его мудрость невежества не может быть принята за нечто ценное. Ибо если бы эта мудрость стала руководящим принципом жизни, то человеческой природе был бы нанесен непоправимый вред, так как все, что иначе влияет на деятельность человека, что способствует его истинной жизни и развитию его талантов, должно стать неэффективным; тогда как догматизм, при всех его недостатках, гораздо более соответствующий человеческому образу мышления, имеет ту заслугу, что он пробудил и упражнил человеческую рефлексию и вывел на свет многие скрытые истины. Поэтому скептицизм отнюдь не так безвреден для целей человеческого существования, как это принято считать, и не может быть безвреден только потому, что человек отвергает то, что он, как философ, считает вершиной всей мудрости, и, следовательно, не соглашается с самим собой.
Для того чтобы правильно оценить справедливость этого обвинения, достаточно привести следующее, хотя и краткое, освещение взаимосвязи между догматизмом и скептицизмом и естественными убеждениями человека.
(48) Прежде чем человек стал философом, он был человеком, и прежде чем он попытался разгадать загадку мира, он уже жил в нем, используя свои силы. Но для человеческой жизни необходимо отличать истинное от кажущегося, объективно существующее от воображаемого и быть уверенным в том, что наше сознание не играет с нами в игры, выдавая за вещи призраки. Это доверие также присутствует в каждом человеке как непостижимый голос его природы, и все убеждения, необходимые для жизни, основаны на его высказываниях.
Опираясь на эти изречения, человек верит, что он существует в мире, отличном от его «я», что то, чем он восхищается в этом мире, не было вложено в него его представлением о нем, и что в его устройстве можно распознать нечто более высокое, чем просто механизм его собственного устройства. Доверяя голосу своей природы, человек верит, что понятия добра и зла, добра и зла, в соответствии с которыми он определяет ценность всех человеческих действий и бездействий, не являются заблуждением, что его поступки не определяются принуждением естественных законов, а что ему присуща способность быть свободным автором своих действий по собственному решению и после обдумывания, и что он становится добродетельным или порочным благодаря использованию этой способности.
Имея эту естественную веру в истинное и доброе и в нечто высшее, чем является человек, но что открывается ему через мир, догматизм не думает, что может оставить все как есть, и вместо этого намеревается дать нам знание об истинном и добром. Чтобы никто не мог заблуждаться относительно устройства физического и морального мира или быть подверженным простому воображению, он хочет указать не только то, что можно понять по-человечески о субстанции, лежащей в основе всех вещей в нем, но и то, каким образом форма была добавлена к этой субстанции, а также то, что даже всеведущее существо может понять о ней.
Это стремление догматизма постичь все и превратить каждое человеческое понимание в аподиктическую [неопровержимую – wp] уверенность неизбежно приводит в своем высшем усилии к объявлению того, что непостижимый голос нашей природы свидетельствует об истинном физическом и моральном мире, не чем иным, как ложью и обманом. Ибо только таким образом все предметы в мире полностью аннулируются и сводятся к высшему единству. Он доказывает вам, согласно его собственным заверениям, исходя из высших оснований всего бытия и из конечных принципов всего знания, самым строгим образом, что каждое из ваших представлений о реальном, как бы точно оно ни было проверено законами опыта и здравого смысла, и аподиктически докажет из условий возможности познания, что человек сам создает себе всю истину и что только для притупления общего сознания, которое у человека общее с животными, существует мир, независимый от механизма движений воображения. Но чтобы сделать понятными естественные изречения совести о добре и зле, о человеческих заслугах и человеческой вине и очистить их от всяких обманов, искажающих их содержание, догматизм либо растворяет эти изречения в одних только максимах благоразумия – ибо из чувственной природы человека вполне понятно, что он стремится жить в мире вполне приятно; или выводит их из очищенного от всякого эмпиризма предписания разума, согласно которому не может быть ничего более волевого, чем простая форма воления, но затем сам ничего не признает, чтобы простить моральную философию, как аподиктически достоверную науку, что строгое подчинение законам (которые, поскольку они имеют силу закона только благодаря своей форме, предполагаются действительными и для воли сверхчеловеческих существ), необходимое для нравственного совершенства действия, нигде не встречается в человеческом роде, и что поэтому можно говорить о добродетели, но нельзя искать ее ни в одном представителе этого рода.
Скептицизм теперь направлен и против этого низведения голоса нашей природы до уровня лжи. Он не дает никаких позитивных прозрений. Но то, чем и без него человек обладает в проницательности благодаря необъяснимому доверию к голосу природы, он защищает от искажений и от всякой софистики, с помощью которой он должен был бы превратиться в заблуждение. Поэтому вы, работающие над науками, которые не относятся к спекулятивной философии, и совершенствующие их, совершенно неправильно оцениваете его, когда считаете, что он хочет оспорить правомерность вашего владения вашей собственностью. Он не хочет и не может поколебать основание, на котором вы построили себя, если вы решили ничего не понимать в том, что в свою очередь держит и поддерживает это основание. Его нападки направлены лишь на спекулятивный догматизм, который выдает свои систематизированные мечты за высшую мудрость и науку и стремится сделать человеческий разум более проницательным, перевернув с помощью диалектических ухищрений либо вещи в мире, либо естественный способ, которым он думает об этих вещах.
§ Раскрывая тайну этих хитростей и разрушая, укрепляя благоразумие, обман, который они порождают, скептицизм не только устраняет из разума все кажущиеся знания, но и заставляет лучше слышать и внимательнее относиться к естественному голосу, который возвещает о том, что действительно истинно и хорошо для человека. Он ведет человека к его истинному дому и в конце концов, то есть после полного преодоления догматизма, снова становится природой, как всякое совершенное искусство.
§50. Излагая основания, содержание и цель скептицизма, мы, между прочим, уже привели причины, по которым мы не можем согласиться с теми рассудительными и мудрыми спорщиками догматических предположений, которые считают, что что даже в скептическом сомнении в возможности всякого знания, поскольку это сомнение есть в конце концов род мышления, претендующего на истину и потому также тайно предполагающего некое безусловное или абсолютное основание, дается нечто, из чего можно непосредственно вывести необходимость веры в абсолют. Скептицизм – это, скорее, согласно нашему пониманию, замкнутое целое, которое не может вывести за пределы самого себя и той общей неопределенности, которой оно учит, и которое в своих основаниях содержит не что иное, как размышление об отсутствии необходимых условий возможности знания. Поэтому источник веры в абсолют, который выше всякой относительности, также полностью выходит за его пределы и не может достичь ничего иного, кроме того, чтобы этот источник, заложенный в сущности человеческой природы, не был неверно оценен и чтобы его оттоки не были загрязнены посторонними компонентами ни через размышления, ни через энтузиазм, что, однако, не должно означать, что он сам также возник из этого источника и поэтому ведет к нему совершенно продуманным путем.
LITERATUR – Gottlob Ernst Schulze, Die Hauptmomente der skeptischen Denkart über die menschliche Erkenntnis, in «Neues Museum der Philosophie und Literatur», hg. von Friedrich Bouterwek, Bd. 3, drittes Heft, Leipzig 1805
G. В. Ф. Гегель
Отношение скептицизма к философии
[Описание его различных модификаций и сравнение новейших со старыми]
Спустя восемь лет после того, как г-н Шульце поднял шум против кантовской философии, особенно в той форме, которую она приняла в теории способности воображения, он теперь берется за теоретическую философию в целом, чтобы поджечь ее своим скептицизмом и сжечь дотла. Вся яркая группа новых скептиков по праву почитает господина Шульце как своего предводителя, и этот мешок с песком из четырех алфавитов, который господин Шульце подтащил к крепости философии, по праву обеспечивает ему это первое место.
Изложение и оценка этого новейшего скептицизма делает необходимым выяснение его отношения к философии, как и скептицизма в целом; в соответствии с этим отношением будут определяться различные модификации скептицизма, а вместе с тем и отношение самого этого новейшего скептицизма, который, кажется, поставил себя на плечи старого, и видит дальше, и сомневается более разумно, к старому; обсуждение отношения скептицизма к философии и вытекающее из него познание самого скептицизма не представляется незаслуженным, так как понятия, обычно встречающиеся о нем, весьма формальны, а его благородный характер, если он верен, в новейшее время может быть превращен в общее укрытие и оправдание нефилософии.
Во введении («Kritik der theoretischen Philosophie», Hamburg 1802) излагается история субъективного источника скептицизма Шульце; в нем содержится развитие мысли: если знание, которое должно быть получено из разума, не может получить общего и прочного одобрения, если те, кто работает над ним, постоянно противоречат друг другу и если каждая новая попытка придать этому знанию прочность науки терпит неудачу, то из этого можно сделать вывод, что вполне возможно, что субъективный источник скептицизма Шульце, который является субъективным источником его скептицизма, является общим и прочным: Отсюда можно с достаточной степенью уверенности заключить, что в основе поиска такого знания лежит недостижимая цель и заблуждение, свойственное всем его толкователям; Также на образ мыслей автора относительно философии – поскольку никого нельзя обвинить в общем недоверии к превознесению проницательности и мудрости разума – наблюдение успеха, который усилия столь многих людей, благодаря их талантам и рвению, проявленному в поисках скрытых истин, всегда имели для научной философии, оказало сильное влияние и дало ей направление, из которого возникла эта критика теоретической философии; Всякое стремление посвятить свои силы рассмотрению одной из этих систем, которая, как ему казалось, содержала в себе самый верный признак истины и определенности, вновь и вновь, как только он делал приготовления к его удовлетворению, подавлялось соображениями судьбы, которые влияли на все спекулятивные занятия конечными основаниями нашего знания о существовании вещей; Ибо его уверенность в своих способностях не заходила так далеко, чтобы дать ему надежду действительно достичь того, что тщетно пытались сделать столь многие люди, наделенные величайшими талантами и самыми разнообразными проницательными способностями.
То есть правильно сказанное народу и из уст народа. – Афинский законодатель установил смерть за политическую апрагмосину [занятость – wp] в тот момент, когда в государстве начинаются волнения; философская апрагмосина – не вставать на чью-то сторону, а заранее настроиться на то, что судьба увенчает победой и общностью, – сама по себе чревата смертью спекулятивного разума. Если бы, действительно, рассмотрение судьбы могло стать моментом в уважении и понимании философии, то не всеобщность, а, напротив, невсеобщность должна была бы стать моментом рекомендации, поскольку понятно, что самые подлинные философии – это не те, которые становятся всеобщими, и что, более того, если плохие философии получают всеобщность, то и более подлинные тоже ее достигают, причем та их сторона, которая стала всеобщей, как раз и является нефилософской; Так что даже в этих философиях, которым уготована так называемая счастливая судьба, но которые на самом деле, если мы вообще можем говорить здесь о счастливой или несчастливой судьбе, следует считать несчастьем, нужно искать не-всеобщее, чтобы найти философию. – Но если г-н Шульце видел, что успех усилий стольких людей, отмеченных талантом и рвением, в стремлении к исследованию конечных оснований нашего знания был одинаково неудачен, то это может относиться только к весьма субъективному способу видения; Лейбниц, например, выражает совершенно иной способ видения. Лейбниц, например, выражает совершенно иной способ видения в отрывке, который Якоби сделал одним из своих девизов: «j’ai trouvé quel al plûpart des sectes ont raison dans une bonne partie de ce qu’elles avancent, mais non pas tant en ce qu’elles nient.» [Я обнаружил, что большинство сект правы во многом из того, что они говорят, но не так сильно в том, что они отрицают. – wp]. Поверхностный взгляд на философские споры выявляет лишь различия между системами, но старое правило: contra negantes principia non est disputandum [Против того, кто отрицает принципы, спора нет. – wp] указывает на то, что когда философские системы спорят друг с другом – другое дело, конечно, когда философия спорит с нефилософией, – то единство заключается в принципах, которые превыше всего успеха и судьбы, не могут быть распознаны из того, о чем спорят, и ускользают от взгляда, который всегда видит противоположное тому, что происходит перед его глазами. С принципами или разумом все эти люди, отмеченные талантом и усердием, преуспели, и разница между ними заключается исключительно в более высокой или более низкой абстракции, с помощью которой разум представил себя в принципах и системах. Не предполагая провала спекулятивной истины, скромность и безнадежность достижения того, чего, как утверждает лишь поверхностный взгляд почтенных людей, достичь не удалось, отпадает; Или же, если предположить, что неудача произошла, то, если скромность и недоверие к способностям могут предоставить другой момент для соображений об успехе, а эта скромность больше, – не питать надежды на достижение того, к чему тщетно стремились люди талантливые и проницательные, – или, как, по словам г-на Шульца, случилось с ним, впасть в предположение, что какой-то наследственный дефект должен был прилепиться к философии и распространяться от одного догматического занятия ею (мы увидим впоследствии, что г-н Шульц знает только скептическое и догматическое философствование) к другому; Тот факт, что г-н Шульце считает себя обнаружившим эту наследственную ошибку и излагает то, что он обнаружил в данной работе, доказывает, что он так же мало думает о моменте скромности в философии, говорит он о нем или нет, как и о моменте успеха.
Таким образом, в этой работе обещано открытие наследственной ошибки всей существующей до сих пор спекулятивной философии; и этим открытием, касающимся существующей до сих пор философии, всякая надежда на успех спекуляции, говорит Шульце (стр. 610), отсекается и на будущее, потому что было бы глупо (действительно!) надеяться на изменение в силах человеческого познания. Но какое более счастливое открытие наследственной ошибки всех спекуляций можно предложить философствующим людям, которые либо оправдывают свое удаление от спекуляций, не нуждающихся в оправдании, спорами о философии, и делают вид, что склонны подчиниться какой-либо системе, если только философский совет или коллоквиум договорится об общезначимой философии, – либо сами бегут за всеми философскими системами (а к ним они причисляют все грибы мысли), но чья интеллектуальная химия так несчастливо устроена, что имеет сродство только с добавкой, смешанной с более благородным металлом монеты, и прозябает только с ней, которая снова и снова становится внутренней, так что ее только подражают, и наконец в отчаянии бросается в мораль, все еще с опасениями со стороны спекулятивной, – какое более счастливое открытие можно сделать для этих двух частей, чем то, что спекулятивная философия лишена самой своей сущности; Первый получает доказательство того, что он был мудрейшим, поскольку ничего не думал о спекулятивной философии; второй утешается тем, что всегда блефовал, когда вина с него перекладывается на философию, а его опасения отнимаются спекулятивной философией. Поэтому неудивительно, что этот скептицизм если и не пользуется всеобщим одобрением, то, по крайней мере, широко приветствуется, и что нынешнее увесистое [весомое – wp] отношение к нему, в частности, вызывает такую радость, примером которой является наша записная книжка.
Г-н Шульце исключает практическую и эстетическую части из своей скептической трактовки философии и ограничивает ее теоретической философией. – Судя по всему, г-н Шульце считает только теоретическую философию спекулятивной философией, а остальные ее части – неизвестно чем; вернее, нигде не видно и следа идеи спекулятивной философии, которая не является ни особенно теоретической, ни практической, ни эстетической. Кстати, г-н Шульце приходит к такому разделению философии через эмпирическую психологию, хотя сам он исключает ее из философии, но, как ни странно, все же использует ее в качестве источника для разделения философии; ибо важные различия, как утверждается, имеют место в фактах сознания, они являются либо познанием объектов, либо выражением воли, либо чувствами удовольствия и неудовольствия, к которым относятся также чувства прекрасного и возвышенного; Они не могут, насколько простирается наше понимание их, быть отнесены к одному классу или происходить из одного источника (слова, которые мы читаем буквально у Канта, Критика способности суждения, Введение, стр. XXII), но существенно отличаются друг от друга постоянными характеристиками и дают начало трем частям философии, упомянутым выше. – Только в этом г-н Шульце существенно отличается от Секста Эмпирика, который в своей «Критике отдельных частей философии и наук» не проводит деления сам, а принимает их такими, какими он их находит, и скептически нападает на них. Прежде всего, мы должны увидеть, как г-н Шульце понимает эту теоретическую философию и что на самом деле представляет собой враг, которого он побеждает. В первом разделе в высшей степени методично, на протяжении нескольких страниц, анализируются основные характеристики теоретической философии и выводится следующее определение: теоретическая философия – это наука о высших и безусловных причинах всего обусловленного, в реальности которых мы иначе уверены. – Об этой иной уверенности в обусловленности без философии мы узнаем позже. Но сами высшие и безусловные причины, или, скорее, разумные, г-н Шульце снова представляет себе как вещи, лежащие за пределами нашего сознания, нечто существующее, нечто абсолютно противоположное сознанию; о разумном знании никогда не возникает никакой другой идеи, кроме повторяемой до отвращения идеи, что с его помощью можно получить знание вещей, которые, как предполагается, скрываются за силуэтами вещей, которые представляет нам естественный способ человеческого познания; С помощью абстрактных принципов и понятий обнаруживается бытие; исследуется, чем должны быть вещи, взятые в их истинной и скрытой реальности; инструменты, которые философия использует для исследования вещей, – это понятия, абстрактные принципы, выводы из понятий, а мост к этим скрытым вещам опять-таки строится из ничего, кроме понятий. – Невозможно представить себе разум и спекуляцию более грубым образом; спекулятивная философия постоянно представляется так, как будто общий опыт, в неподвижной форме его общей реальности, расстилается перед ней непреодолимо, как ее железный горизонт, а за ним она предполагает и ищет вещи-аспект своего горизонта, как горный хребет столь же общей реальности, который несет эту другую реальность на своих плечах; Г-н Шульце не может представить себе разумное, самость иначе, чем как камень под снегом; для католика носитель превращается в божественное живое существо; здесь не то, чего хотел дьявол от Христа, – превратить камень в хлеб, но живой хлеб разума навсегда превращается в камень.
Этой спекулятивной философии, которая пытается познать вещи, якобы существующие вне нашего сознания, противостоит положительная сторона скептицизма, ибо она имеет не только отрицательную сторону, которая заключается в разрушении фантазий догматиков и их попыток получить знание о существовании гиперфизических [сверхъестественных – wp] вещей.
Положительная сторона этого скептицизма заключается в том, что он обычно описывается как философия, не выходящая за пределы сознания; и действительно, существование того, что дано в пределах нашего сознания, имеет неоспоримую определенность; поскольку оно присутствует в сознании, мы не можем сомневаться в его определенности больше, чем в самом сознании; Но сомневаться в сознании совершенно невозможно, ибо такое сомнение, поскольку оно не может иметь места без сознания, уничтожило бы себя и, следовательно, было бы ничем; то, что дано в сознании и с сознанием, называется фактом сознания; и, следовательно, факты сознания – это неоспоримая реальность, к которой должны относиться все философские спекуляции и которая должна быть объяснена и понята этими спекуляциями.
Этой философии, которая помещает неоспоримую определенность в факты сознания, и подобно тому, как наиболее общее кантианство ограничивает все познание разума (стр. 21) формальным единством, которое должно быть внесено в эти факты, нельзя задать вопрос, как она тогда понимает, что человек не удовлетворяется этой неоспоримой определенностью, которую он находит в вечном неподвижном восприятии предметов, как она тогда хочет также понять, что упорядочение восприятий происходит от этого восприятия? Как человек выходит за пределы скотского существования, которое, говоря словами г-на Шульца, состоит в восприятии реального бытия вещей, и приходит к мысли о том, что г-н Шульц называет метафизикой, о постижении этого реального бытия или о выведении этого реального бытия и всего, что к нему относится, из первоосновы, чтобы сделать его понятным? —
Эта философия фактов не имеет другого ответа, кроме прямого: что это стремление к знанию, которое лежит за пределами реального, вполне определенного существования вещей, то есть признает их неопределенными, – тоже факт сознания; г-н Шульце говорит об этом (первая часть, стр. 21) так: ибо в силу изначальной предрасположенности нашего ума мы имеем желание искать конечное и безусловное основание всего, что, по нашему разумению, существует лишь условно. Но если каждый факт сознания обладает непосредственной определенностью, то прозрение, что нечто существует лишь условно, невозможно; ведь существовать условно и не быть ничем определенным в себе – это синонимы. – Аналогичным образом автор выражается, когда переходит от звериного облика мира и его неоспоримой определенности к проблеме теоретической философии: хотя существование вещей вполне определенно согласно утверждениям сознания, это никоим образом не удовлетворяет разум (здесь мы узнаем, в чем он состоит), поскольку в случае существующих вещей не является самоочевидным, что мы знаем, что они есть и что они являются тем, что они есть. – Но как же быть с этой неоспоримой уверенностью в факте непосредственного познания бытия вещей; в реальности (p. 57), которую мы приписываем вещам, на которые смотрим, нет абсолютно никаких степеней, так что одна вещь обладала бы большей реальностью, чем другая (p. 62). Наблюдающий субъект признает объекты и их существование непосредственно и абсолютно как нечто, что существует и есть для себя так же совершенно независимо от аффектов воображения, как распознающий субъект существует и есть для себя. – Как при такой абсолютной уверенности в том, что и как вещи существуют, не должно быть в то же время самоочевидным, что они есть и что они являются тем, что они есть; в то же время утверждается одно знание, согласно которому существование и конституция вещей самоочевидны, и другое, согласно которому это существование и конституция вовсе не самоочевидны. Нельзя придумать более полного противоречия между вышесказанным и этим способом сделать поиск рационального знания понятным, а также более косного и хитрого перехода к метафизике.
Осветив положительную сторону этого скептицизма, мы переходим к его отрицательной стороне, которой посвящена вся третья часть первого тома. Сам г-н Шульце считает, что скептицизм, который приписывает фактам сознания неоспоримую уверенность, мало согласуется с концепцией скептицизма, которую дают нам старые скептики; сначала мы должны услышать мнение самого г-на Шульце об этом различии. Он объясняет его во введении и в первом разделе третьей части. Прежде всего, он напоминает нам, что часто случалось так, что человек, впервые нашедший мысль на пути истины, гораздо меньше понимал ее содержание, причины и последствия, чем другие, которые после него старательно исследовали ее происхождение и значение; до сих пор истинное намерение скептицизма в основном оценивалось неверно и т. д.
Скептицизм, который г-н Шульце считает истинным и более совершенным, чем скептицизм древних, относится именно к суждениям, свойственным философии, то есть к тем, которые, как выражает г-н Шульце конечную цель этой науки, определяют абсолютные или по крайней мере сверхчувственные, то есть находящиеся вне сферы сознания, основания того, что условно существует по свидетельству нашего сознания. Но суждения, принадлежащие только философии, не должны быть предметом этого скептицизма, ибо они либо выражают так называемые факты сознания, либо основаны на аналитическом мышлении; их истинность, следовательно, также может быть постигнута и усмотрена согласно скептицизму; с другой стороны, он утверждает против теоретической философии, что вообще ничего нельзя знать об основаниях бытия вещей, существующих вне сферы нашего сознания или, как говорит автор, не данных в нем согласно их существованию, или о вещах, существующих помимо существующих вещей. Против этого понятия скептицизма сам г-н Шульце выдвигает возражение, что, согласно ему, ничто из того, чему учит опыт, и особенно воплощение внешних ощущений, даже из всех наук, только философия (поскольку ни одна другая не имеет отношения к познанию вещей за пределами сознания) не может быть предметом скептического сомнения; тогда как старый скептицизм распространялся на оба, и самый старый, по крайней мере, на первый. Г-н Шульце, в частности, утверждает, что начало и прогресс скептицизма всегда определялись предположениями догматиков; старые скептики признают, что существует знание через органы чувств и убежденность через них в существовании и определенных свойствах вещей, существующих сами по себе, в соответствии с которыми каждый разумный человек должен руководствоваться в своей активной жизни. – Существует убеждение посредством органов чувств в существовании и определенных свойствах существующих вещей, в соответствии с которым каждый разумный человек должен судить себя в активной жизни. – В том, что такое убеждение направлено только на активную жизнь, сразу же заключается, что оно не имеет ничего общего с философией, что оно и ограниченное сознание, наполненное фактами, как принципом неоспоримой уверенности, вовсе не противостоят разуму и философии, менее всего настаивая против них, а являются лишь данью, как можно более узкой, отданной необходимости объективного определения; Мы не стали бы, говорят скептики, выбирать то или избегать этого, когда дело касается вещей, которые в нашей власти, но тех, которые не в нашей власти, но по необходимости, мы не можем избежать, как голод, жажда, холод; ибо они не могут быть устранены с пути разумом. Но сознание, связанное с этими необходимыми потребностями, старый скептик был далек от того, чтобы возводить в ранг знания, которое является объективным утверждением; внимая тому, что появляется, мы живем, говорит Сект, потому что мы не можем быть полностью бездействующими, согласно общему смыслу жизни, не составляя с ней никакого мнения или утверждения. Но в этом скептицизме не может быть и речи об убеждении относительно вещей и их свойств; критерием скептицизма, выражается Секст, является явление (phainomenon), под которым мы действительно понимаем его видимость (phantasian auton), т. е. субъективное; Ибо поскольку оно заключается в убеждении (= peisei, но не в вещи) и невольном аффекте, то никакого исследования не происходит; оно azititos [не спрашивается – wp] (немецкое выражение: Zweifel, употребляемое скептиком, всегда криво и неуместно.)
Но что скептики, вместо того чтобы приписывать ему неоспоримую определенность, объявили все восприятия лишь видимостью и утверждали, что с таким же успехом можно сказать противоположное тому, что сказано о предмете его видимости, с таким же успехом можно сказать, что мед горький, как и сладкий, – что, как утверждает сам г-н Шульце, десять первых и правильных поворотов скептиков касались только этой неопределенности чувственного восприятия, причину которой приводит г-н Шульце, что уже в самые ранние времена спекулятивной философии догматики принимали ощущения за видимость, которая, однако, основана на чем-то совершенно ином, и приписывали самой видимости соответствие с тем, что, как предполагается, находится за ней как реальная вещь, и даже часто утверждали знание через ощущения как науку о предмете, скрывающемся за ощущениями. По этой причине скептики напали на эти доктрины догматиков об уверенности чувственного познания и отрицали, что посредством объекта в ощущении можно достоверно узнать то, что, как предполагается, находится за этим объектом как истинная и реально существующая вещь. – Здесь, в отношении древних философов, выражена та же самая вопиющая концепция, которую г-н Шульце имеет о знании разума; но интерпретация, будто скептицизм нападает не на сами чувственные восприятия, а только на то, что догматики помещают за ними и под ними, совершенно необоснованна; когда скептик говорит: мед так же горек, как и сладок, и так же мало горек, как и сладок, не имеется в виду вещь, помещенная за медом. – То, что для скептиков Греции даже доктрины всех учений, претендующих на достоверность для каждого человеческого разума, были предметом сомнения, свидетельствует об их незнакомстве с истинными основаниями их сомнений; между прочим, конкретные источники знания каждой науки и возможные в ней степени убежденности не были тогда исследованы так, как сейчас; многие доктрины, которые сейчас вызывают все разумные сомнения, такие как физика и астрономия, еще не были исследованы. Физика и астрономия, например, были тогда лишь олицетворением недоказуемых мнений и беспочвенных гипотез. – Эта черта завершает характер этого нового скептицизма и его отличие от старого; кроме фактов сознания, физика и астрономия более поздних времен были бы, таким образом, науками, которые бросают вызов всякому разумному скептицизму; доктрины, которые отнимают чисто математический аспект их, который не принадлежит к их особенностям, от изложения чувственных восприятий и слияния их с понятиями интеллекта, сил, материи и т. д., в науке, которая утверждает объективность. Они заключаются в знании, утверждающем объективность и в то же время чисто формальном, одна часть которого, изложение восприятий, не имеет ничего общего с научным знанием и потому также лежит вне скептицизма, поскольку в выражении восприятия не должно быть выражено ничего, кроме его субъективности; – но другая часть которого является высшей вершиной догматизирующего понимания. Что бы сказали старые скептики на такой ублюдок скептицизма, который все еще может уживаться с вопиющим догматизмом этой науки?
Г-н Шульце приходит, наконец, к неопределенности и неполноте известий об античном скептицизме. – Правда, нам недостает более определенных известий о Пирроне, Энесидеме и других знаменитых скептиках древности; но отчасти из всего характера этого скептицизма явствует, что полемическая сторона против философских систем, которую имел скептицизм Энесидема, Метродора и последующих, отсутствовала в скептицизме Пиррона, к которому относятся десять первых тропов; отчасти потому, что в тропах Секста Эмпирика очень точно сохраняется для нас общая сущность этого скептицизма, так что всякое другое осуществление скептицизма могло бы быть не чем иным, как повторением в применении одного и того же общего способа.
В целом, однако, представления о скептицизме, позволяющие видеть его только в этой конкретной форме, в которой он предстает как чистый простой скептицизм, исчезают перед точкой зрения философии, с которой, как подлинный скептицизм, он может быть найден и в самих философских системах, которые г-н Шульце и другие вместе с ним могут рассматривать только как догматические. Без определения истинного отношения скептицизма к философии, без понимания того, что сам скептицизм тесно связан со всякой истинной философией и что, следовательно, существует философия, которая не является ни скептицизмом, ни догматизмом, ни тем и другим одновременно, все рассказы, сказки и новые издания скептицизма не могут ни к чему привести. Существенное для признания скептицизма, это отношение скептицизма к философии, а не к догматизму, признание философии, которая не является догматизмом, то есть само понятие философии, – вот что ускользнуло от г-на Шульце; и если г-н Шульце не мог вывести идею философии из философий, которые он скептически предполагает, то исторический аспект старого скептицизма должен был привести его по крайней мере к мысли о возможности того, что философия есть нечто иное, чем догматизм, который знает только он. Даже сам Диоген Лаэртий по-своему утверждает, что некоторые называют Гомера родоначальником скептицизма, потому что он по-разному говорит об одних и тех же вещах при других обстоятельствах; так же скептичны многие изречения семи мудрецов, такие как: Ничто не слишком, и: Обязанность – побочная гибель (т.е. всякая связь с ограниченным имеет в себе гибель); но еще больше Диоген ссылается на Архилоха, Еврипида, Зено, Ксенофана, Демокрита, Платона и др. как скептиков; Короче говоря, те, кому вторит Диоген, прозрели, что истинная философия сама по себе обязательно имеет отрицательную сторону, которая противостоит всему ограниченному, а значит, и нагромождению фактов сознания и их неоспоримой достоверности, а также узкоспециальным концепциям, которая в тех великолепных учениях, которые г-н Шульце считает недоступными для рационального скептицизма, обращена против всей этой почвы конечности, на которой этот новый скептицизм имеет свое существо и свою истину, и бесконечно более скептична, чем этот скептицизм. Какой более совершенный и самодостаточный документ и систему подлинного скептицизма мы могли бы найти, чем в платоновской философии Парменида, которая охватывает и уничтожает всю область этого знания с помощью понятий понимания.
Этот платоновский скептицизм основан не на сомнении в этих истинах понимания, которое познает вещи как многообразные, как целые, состоящие из частей, как возникающие и исчезающие, как множественность, сходство и т. д. и делает такие объективные утверждения, а на полном отрицании всей истинности такого познания. Этот скептицизм не составляет особой вещи системы, но сам является отрицательной стороной познания абсолютного и сразу же предполагает разум в качестве положительной стороны. Несмотря на то, что платоновский « Парменид» предстает только с отрицательной стороны, Фицинус, например, прекрасно понимает, что тот, кто приступает к его священному изучению, должен сначала подготовить себя чистотой ума и свободой духа, прежде чем решится прикоснуться к тайнам священного произведения. Тидеманн, однако, в связи с этим утверждением Фицинуса, видит в нем лишь человека, застрявшего в экскрементах неоплатоников, а в платоническом труде – лишь кучу и облако довольно темных и, для времен Парменида и Платона, довольно ловких софизмов, но отвратительных для нового метафизика – ошибка, проистекающая из того, что метафизические выражения еще не были правильно определены точными философами; те, кто более практичен в метафизических вопросах, находят, что понятия, которые отличаются друг от друга целым небом, сбиваются; – а именно, что в остальном проницательные люди, Платон и Парменид, еще не проникли в философию, которая не находит истины ни в фактах сознания, а везде, только в разуме, ни в ясности таких понятий, как рассудок и просто конечное мышление в новейших науках физике и т. д., устанавливает, а из опыта. И думает черпать из опыта.
Но этот скептицизм, который в чистом виде проявляется в « Пармениде», неявно присутствует в каждой подлинной философской системе, ибо он является свободной стороной всякой философии; Если в любом предложении, выражающем знание разума, выделить отраженную часть его, содержащиеся в нем понятия, и рассмотреть способ их соединения, то необходимо показать, что эти понятия в то же время отменены или соединены таким образом, что противоречат друг другу, иначе это было бы не разумное, а понятное предложение. Спиноза начинает свою «Этику» с пояснения: под причиной самой себя я понимаю то, чья сущность включает в себя существование в самой себе; или то, чья природа может быть понята только как существующая. – Понятие сущности или природы можно представить только абстрагируясь от существования; одно исключает другое; одно может быть определено только как противоположное другому; если оба они представлены вместе как одно, то их соединение содержит противоречие, и оба отрицаются в одно и то же время. Или если другое предложение Спинозы гласит: Бог есть имманентная, а не преходящая причина мира, то он, сделав причину имманентной, то есть сделав причину единой со следствием, – поскольку причина является причиной лишь постольку, поскольку она противоположна следствию, – отрицает понятие причины и следствия; равным образом доминирует антиномия единого и многого; единое становится тождественным со многим, субстанция – со своими атрибутами. Поскольку каждое такое предложение разума можно разложить на два противоречащих друг другу, например, Бог есть причина и Бог не есть причина; он один и не один, много и не много; у него есть сущность, которая, поскольку сущность может быть постигнута только в противопоставлении форме, а форма должна быть установлена тождественной с сущностью, сама отпадает и т. д., так возникает принцип скептицизма. Таким образом, принцип скептицизма: panti logo logos isos antikeitai [Каждой пропозиции противостоит столь же обоснованная контрпропозиция] проявляется во всей своей силе.
Так называемая пропозиция противоречия, таким образом, настолько не имеет даже формальной истины для разума, что, напротив, каждая пропозиция разума должна содержать ее нарушение в отношении понятий; пропозиция является просто формальной, то есть для разума она утверждается только для себя, без утверждения противоречащей ей пропозиции, которая противопоставляется ей таким же образом и поэтому является ложной. Признать пропозицию противоречия формальной – значит одновременно признать ее ложной. – Поскольку всякая подлинная философия имеет эту негативную сторону или вечно упраздняет пропозицию противоречия, тот, кто считает нужным, может немедленно подчеркнуть эту негативную сторону и сделать из нее скептицизм.
Совершенно непонятно, как г-н Шульце через Секста даже в целом не пришел к выводу, что существует третья философия, кроме скептицизма и догматизма; в первых же строках Секста философы делятся на догматиков, академиков и скептиков; и там, где ему приходится иметь дело с догматиками на протяжении всего своего труда, он не считает, что опроверг также и академиков. Это отношение скептицизма к академии само по себе достаточно обсуждалось; оно породило знаменитый спор в истории скептицизма; и это отношение чистого скептицизма и его смущения – интересный аспект. Но чтобы не совершить несправедливость, следует отметить, что о связи между Академией и скептицизмом г-н Шульце узнал от Секста. Но как г-н Шульце понимает это отношение и что говорит о нем Секст? В примечании (первая часть, стр. 608), в котором г-н Шульце касается этого вопроса, он говорит, что благодаря учению Аркесилая (основателя средней академии) сомнение в истинности догматических учений, конечно, стало теперь делом, лишенным всякого применения разума, потому что оно снова отменяет само себя, и разум больше не слышит ничего вообще. Затем г-н Шульце говорит, что Секст (Lib. I. Pyrrh. Hypot. c. 33) хочет отличить учение Аркесилая от скептицизма по той причине, что, согласно учению Аркесилая и Карнеада, даже это, что все неопределенно, должно быть снова объявлено неопределенным; такое дело сомнения, добавляет г-н Шульце от себя, лишено всякого разума.
Что касается исторической стороны дела, то нельзя поверить своим глазам, когда читаешь такое обоснование исключения учения Аркесилая из скептицизма, приписываемое Сексту. Действительно, сами скептики выражаются самым определенным образом, как утверждает сам г-н Шульце в начале примечания, что их обычная фония: все ложно, ничто не истинно; одного так же мало, как и другого, и т. д. также включают себя снова и снова упраздняют себя, доктрина, которая, помимо того, что присуща самому скептицизму, была также внешне необходима против догматиков, которые упрекали скептиков в том, что у них есть догма: ничто не может быть определено, или: ни одно не является более истинным; а также, чтобы отличить их от других философов, напр. (l.c. c. 30) демокритов, которым принадлежало скептическое выражение: одно так же мало, как и другое; например, мед так же мало сладок, как и горек; скептики отличались тем, что говорили, что в этом есть догма: это ни то, ни другое; они, напротив, показывают этим выражением: одно так же мало, как и другое, что они не знают, является ли явление и тем, и другим или ни тем, ни другим. Таким образом, Секст (цит. соч. С. 333) также отличает скептиков от новой академии Карнеада, принцип которой заключается в том, что все непостижимо; возможно, говорит он, она отличается только тем, что утверждает эту самую непостижимость.
Что говорит г-н Шульце по поводу ограничения этих скептических выражений: что Секст, вероятно, хотел только научить, что скептик не определяет ничего о трансцендентной природе вещей ни в положительном, ни в отрицательном смысле: так что в этом нет никакой противоположности тому утверждению скептиков и Аркесилая, что скептическое выражение закрывает и упраздняет себя в самом себе; и что значит трансцендентная природа вещей? Разве трансцендентное не заключается именно в том, что нет ни вещей, ни их конституции? Итак, Секст, по причине, указанной г-ном Шульце, сам по себе был весьма далек от того, чтобы отличать учение Аркесилая от скептицизма; ведь оно буквально было скептическим; сам Секст говорит, что оно кажется ему настолько согласным с пирроновским логосом, что это почти одно и то же agoge [руководство, наставление – wp] 11со скептическим; если не сказать, что Аркесилай объявляет epoche [отказ от суждения – wp] добрым и соответствующим природе, а согласие – злом, что является утверждением, поскольку скептики, с другой стороны, не говорят ничего утвердительного и об этом. Различие, которое, по мнению Секста, еще можно провести, имеет, таким образом, прямо противоположную причину; по мнению г-на Шульце, эта академия была бы объявлена Секстом слишком скептической; Секст же, как мы видели, находит ее слишком мало скептической. Кроме вышеуказанного различия, Секст добавляет еще худшую причину, которая равносильна сплетне, а именно, что Аркесилай, если верить тому, что о нем говорят, был пирронистом только вначале, а на самом деле догматиком; Ибо он использовал апорематический [трудно определимый – wp] только для того, чтобы проверить своих учеников, способны ли они к платоническим доктринам, и по этой причине его принимают за апоретика; но тех, кого он находил способными, он учил платонизму. – Из-за сложного аспекта скептицизма, который для него заключался в его отношениях с Академией, Секст очень подробно рассматривает Платона и Академии. Только из-за полного отсутствия понимания истинной причины этой трудности и философии г-н Шульце может считать себя освобожденным от рассмотрения Академии благодаря сплетне, которую он цитирует в этой самой заметке из «Истории скептицизма» Штудлина, Но, говорит г-н Шульце, некоторые, особенно Штудудлин, снова отмечают, что дух, который одушевлял среднюю и новую академию, совершенно отличен от духа, которым руководствовались скептики в своих исследованиях; Последователи последней были в действительности не более чем софистическими болтунами, которые стремились лишь к заблуждениям и обманам и использовали философию, как и всю полемику скептиков с догматиками, как она велась в то время, лишь как средство для достижения своей главной цели, а именно искусства убеждать других, блистать и привлекать внимание, и совершенно не имели никакого смысла в исследовании истины ради нее самой. – Даже если бы такое обвинение само по себе не было таким пустым и отвратительным, как оно есть, все равно осталась бы старая Академия и сам Платон, осталась бы философия в целом, которая не является догматизмом, и которой следовало бы уделить внимание; но я не смог найти большего внимания к философии, чем я упомянул в этом замечании. В античности же сознание этого отношения скептицизма к платонизму было очень развито; по этому поводу происходил большой спор, в котором одна часть принимала Платона за догматика, другая – за скептика («Диоген» Лаэрция, Платон 51). Поскольку записи этого спора утрачены, мы не можем судить, насколько обсуждалось истинное внутреннее отношение скептицизма к философии и насколько догматики, приписывавшие Платону догматизм, как это делали и скептики, понимали это в том смысле, что скептицизм сам по себе принадлежит философии, или нет. Секст ссылается на дальнейшее развитие этого вопроса в своих скептических комментариях, которые до нас не дошли; в Hypothyp I. 222 он говорит, что хочет изложить основную мысль вслед за Энесидемом и Меродоком, которые были главными скептиками в этом споре; Платон – догматик, потому что если он считает, что идеи, провидение, предпочтение добродетельной жизни порочной – это либо догматика, если он признает их существующими; либо, если он соглашается с более убедительным (pithanoterois), он выпадает из скептического характера, предпочитая одну вещь другой для убеждения или неопровержения.
Это отличие платонизма от скептицизма – либо просто формальная придирка, которая не критикует ничего в предполагаемом предпочтении, кроме формы сознания, ибо покорность скептика необходимости и отцовским законам была именно таким предпочтением, только неосознанным; – либо, если она направлена против реальности самой идеи, она касается познания разума через самого себя; и здесь следует показать особенность чистого скептицизма, который отделяет себя от философии. К этому знанию разума Секст приходит в первой книге против логики (указ. соч., стр. 310) после того, как он ранее отрицал критерий истины вообще из спора философов о нем, а затем, в частности, истинность чувственного знания. То, что он теперь говорит против него, что разум познает себя через себя, – это достаточно лысое утверждение, и если новые скептики хотят бороться с самопознанием разума, то они должны, вероятно, выдвинуть нечто лучшее, если они не сделали для себя более удобным избавить себя от этой проблемы, полностью игнорируя разум и его самопознание и помещая его за щит Горгоны, прямо, не путем злонамеренного искажения и искусства, не так, как если бы они заранее видели это иначе, а в самом взгляде, превратить рациональное, субъективно выраженное в понимании, объективно в камни, и назвать то, что, как они подозревают, выходит за пределы понимания и камня, восторгом и воображением. – Секст по-прежнему знает о разуме и его самопознании. То, что он выдвигает по поводу возможности этого, есть следующее неглубокое рассуждение [аргумент – wp], к которому он сам теперь подводит само понятие отражения целого и частей, которое, подобно Платону в «Пармениде», он разрушает в своих книгах против физиков. Если разум постигает себя, то он должен быть либо, в той мере, в какой он постигает себя, целым, которое постигает себя, либо не целым, а только частью. Если целое постигает себя, то постижение и постигаемое – это целое; если же целое – это постигаемое, то постигаемому ничего не остается; но совершенно неразумно, что постигаемое есть, но не есть то, что постигается. Но разум не может использовать для этой цели и часть самого себя, ибо как часть может постичь саму себя? Если это целое, то ничего не остается для того, что должно быть схвачено; если снова часть, то как она может снова схватить себя; и так до бесконечности; так что схватывание не имеет принципа, поскольку либо не найдено первое, что берет на себя схватывание, либо нет ничего, что должно быть схвачено. – Видно, что разум превращается в абсолютное субъективное, которое, будучи представлено как целое, не оставляет ничего для того, что должно быть постигнуто. Тогда (а теперь появляются еще лучшие причины, которые, как и прежде в понятии целого и частей, а также абсолютной субъективности или абсолютной объективности, теперь сводят разум к появлению определенного места), если разум постигает себя, он тем самым постигает и место, в котором находится; ибо всякая постигающая вещь постигает определенное место; Но если разум постигает место, в котором он находится, вместе с самим собой, то философы не должны расходиться во мнениях: одни говорят, что таким местом является голова, другие – грудь; и в частности, одни – мозг, другие – менинги, третьи – сердце, четвертые – протоки печени или любая другая часть тела; в этом философы-догматики расходятся. Разум, таким образом, не постигает сам себя.
Вот что выдвигает Секст против самопознания разума; это пример всех орудий скептицизма против разума; они состоят в применении к нему понятий; после этого легко показать, что разум, помещенный в конечность и, как это делает г-н Шульце, превращенный в вещь, есть вещь, противопоставленная другой, которая должна быть также позиционирована, но не позиционирована этой конкретикой. Наиболее распространенное из них, а именно апелляцию к разногласиям философов между собой, Секст также подробно излагает сразу после цитируемого отрывка, сплетню, которую моральные догматики против спекуляции разделяют со скептицизмом, как Ксенофон уже вкладывает ее в уста Сократа, и которая ближе всего к поверхностному взгляду, прилипающему к словам. Даже если этот скептицизм уже оторвался и отделился от философии, а именно от той, которая в то же время включает в себя скептицизм, он все же признал это различие между догматизмом и философией, последней под именем академической философии, а также большое согласие последней с ней, о котором более новая, с другой стороны, ничего не знает.
Но кроме скептицизма, который един с философией, скептицизм, отделенный от нее, может быть двояким: либо он не направлен против разума, либо он направлен против него. Из той формы, в которой Секст дает нам скептицизм, отделенный от философии и обращенный против нее, можно с очевидностью выделить старый подлинный скептицизм, который, хотя и не имел положительной стороны, как философия, а утверждал чистую отрицательность по отношению к знанию, был так же мало направлен против философии; так же отделено его позднее добавленное враждебное направление отчасти против философии, отчасти против догматизма. Его поворот против последнего, так же как и последний стал догматизмом, показывает, как он шел в ногу с общим вырождением философии и мира вообще, пока, наконец, в новейшее время не опустился так далеко вниз вместе с догматизмом, что теперь для обоих факты сознания имеют неоспоримую определенность, и для обоих истина заключается во временности; Так что, поскольку крайности касаются друг друга, в эти счастливые времена великая цель снова достигается с их стороны, что внизу догматизм и скептицизм совпадают, и оба протягивают друг другу братскую руку. Шульцевский скептицизм объединяет в себе самый грубый догматизм, а крюгианский догматизм одновременно несет этот скептицизм в себе.
Секст представляет нам максимы скептицизма в семнадцати тропах, различие которых точно указывает на отличие его скептицизма от старого, который стоял сам по себе, без философского знания, но в то же время укладывался в рамки философии, особенно старой, которая имела меньше отношения к субъективности.
К старому скептицизму принадлежат первые десять из семнадцати тропов, к которым только гораздо более поздние скептики, – говорит Секст о более новых, – Диоген упоминает Агриппу, жившего около пятисот лет после Пирра, – добавили пять; два добавленных, по-видимому, опять-таки поздние, Диоген не упоминает о них вовсе, Секст также отделяет их, и они незначительны.
Эти десять статей, которыми ограничился старец, как и вся философия в целом, направлены против догматизма, неопределенности конечных величин, в которую она бессознательно попадает, и этого безразличия ума, перед которым колеблется все, что дает видимость или разум, в которое колеблется всякая конечность, по мнению скептиков, как тень следует за телом, входит атараксия [душевное спокойствие – wp], обретенная разумом; Как Апеллес, когда он рисовал лошадь и не мог вывести изображение пены, бросил ее, бросил губку, которой стер краски с кисти, на картину, и таким образом поразил изображение пены; Таким образом, скептики находят истинное, приобретенное разумом спокойствие, которое по природе составляет отличие животного от человека и которое Пиррон однажды показал своим спутникам на корабле, унывавшим во время сильной бури, со спокойным умом на свинье, которая ела на корабле, со словами мудрец должен находиться в такой атараксии. Таким образом, скептицизм имел свою положительную сторону исключительно в своем характере и полном безразличии к необходимости природы.
Из краткого перечисления десяти пунктов, на которых основывается epoche [отношение суждения – wp] скептицизма, сразу же станет очевидным его направление против определенности вещей и фактов сознания; ибо неопределенность всех вещей и необходимость epoche показывается следующим образом
1) из различия животных,
2) людей,
3) организацией органов чувств,
4) обстоятельств,
5) положения, расстояния и места,
6) смешений (через которые ничто не предстает перед чувством в чистом виде),
7) различные размеры и качества вещей
8) отношение (а именно, что все существует только в отношении к другому),
9) частые или редкие случаи,
10) формирование обычаев, законов, мифических верований, предрассудков.
Сам Секст замечает по поводу их формы, что все эти тропы на самом деле могут быть сведены к тройственности: одно из различий распознающего субъекта, другое – распознаваемого объекта, а третье состоит из обоих. При этом необходимо, чтобы в реализации несколько из них перетекали друг в друга. – В первых двух тропах о различии животных и людей Секст говорит также о различии органов, которое на самом деле относится к третьей; самым обширным, отмечает Секст, является восьмой пункт, который касается обусловленности каждого конечного другим, или того, что каждое находится только в отношении к другому. Видно, что они выдвинуты произвольно и предполагают неразвитую рефлексию или, скорее, непреднамеренную рефлексию по отношению к собственному учению, а также невнятность, которой не было бы, если бы скептицизм уже имел дело с критикой наук.
Но еще более содержание этих тропов доказывает, как далеки они от тенденции против философии и как они полностью идут против догматизма здравого смысла; ни один из них не касается разума и его познания, но все они абсолютно только конечного, и познания конечного, понимания; их содержание отчасти эмпирическое, поскольку оно не касается спекуляции как таковой; отчасти оно касается отношения вообще, или того, что все реальное обусловлено другим, и поскольку оно выражает принцип разума. Таким образом, скептицизм направлен не против философии вообще, а в не философском, а народном смысле, против здравого смысла или обыденного сознания, которое держится за данное, за факт, за конечное (это конечное называется видимостью или понятием) и цепляется за него как за совесть, уверенность, вечность; Скептические тропы показывают ему зыбкость такой уверенности, что также близко обычному сознанию; ибо он также призывает на помощь видимости и конечности, и из их различия, как из равного права всех утверждать себя, из антиномии, признаваемой в самой конечности, он признает их ложность. Поэтому его можно рассматривать как первую ступень философии; ибо началом философии должно быть возвышение над истиной, которую дает обыденное сознание, и предчувствие высшей истины; новейший скептицизм с его уверенностью в фактах сознания должен быть поэтому отнесен прежде всего к этому старому скептицизму и к этой первой ступени философии; или к самому здравому смыслу, который прекрасно понимает, что все факты его сознания и само его конечное сознание преходящи и что в них нет никакой определенности; разница между этой стороной здравого смысла и этим скептицизмом состоит в том, что последний выражает себя: «все преходяще»; скептицизм же, напротив, когда факт установлен как определенный, умеет доказать, что эта определенность – ничто. – Более того, в здравом смысле этот его скептицизм и его догматизм о конечности стоят бок о бок, и таким образом этот скептицизм становится чем-то чисто формальным; поскольку, с другой стороны, последний упраздняется собственно скептицизмом, и, таким образом, общая вера в неопределенность фактов сознания перестает быть чем-то формальным, в том смысле, что скептицизм возводит весь объем реальности и определенности в потенцию неопределенности и уничтожает общий догматизм, который бессознательно относится к отдельным обычаям, законам и прочим обстоятельствам, как к силе, для которой человек есть только объект, и которую он также постигает в деталях по нити ее воздействия, составляет о ней вразумительное знание и тем только все глубже и глубже погружается в служение этой силе. Скептицизм, который свобода разума возвышает над этой природной необходимостью, признавая ее ничем, в то же время воздает ей высшую степень чести, поскольку ни одна из ее частностей не является для нее определенной, а только необходимость в ее всеобщности, поскольку она помещает в нее саму частность, как абсолютную цель, которую она хочет осуществить в ней, как если бы знала, что такое благо; – Он предвосхищает в индивидууме то, что необходимость, отвлеченная конечностью времени, бессознательно исполняет в бессознательной расе; то, что последняя считает абсолютно одним и тем же, неподвижным, вечным и везде одинаковым, время отнимает у него; чаще всего это знакомство с чужими народами, распространяющееся по естественной необходимости; как, например, знакомство европейцев с другими народами. Так, например, знакомство европейцев с новой частью света оказало то скептическое влияние на догматизм их прежнего здравого смысла и их несомненную уверенность в ряде понятий о праве и истине.
Поскольку скептицизм имел положительную сторону только в своем характере, он не претендовал на роль ереси или школы, но, как уже говорилось выше, был agoge, воспитанием к образу жизни, воспитанием, субъективность которого могла быть только объективной в нем, что скептики использовали то же оружие против объективного и зависимости от него, они признавали Пирра основателем скептицизма в том смысле, что были похожи на него не в доктринах, а в этих поворотах против объективного («Диоген» IX. 70). Атараксия, к которой приучал себя скептик, заключалась в том, что, как говорит Секст (Sextus adv. Ethicos. 154. говорит, что никакое беспокойство не может быть ужасным для скептика, ибо даже если оно самое большое, то вина за него падает не на нас, страдающих без воли и по необходимости, а на природу, которой то, что определяют люди, не касается, и на того, кто своим мнением и волей причиняет себе зло. С этой положительной стороны столь же очевидно, что скептицизм не чужд никакой философии. Апатия стоика и равнодушие философа в целом должны быть признаны в этой атараксии. Пиррон, как оригинальный человек, стал философом по собственному почину, как всякий родоначальник школы, но его оригинальная философия не была, следовательно, особой философией, обязательно и по своему принципу противопоставленной другим; индивидуальность его характера не выражалась в философии, как и сама философия, и его философия была не чем иным, как свободой характера; но как могла философия в ней противостоять этому скептицизму? Когда ближайшие ученики таких великих личностей придерживались, как это бывает, формального, отличительного совершенства, то, конечно, ничего, кроме различия, не возникало; но когда вес авторитета личности и ее индивидуальности постепенно все более и более размывался, а философский интерес поднимался чисто, тогда то же самое можно было снова признать в философии. Как Платон объединил в своей философии сократическую, пифагорейскую, зеноистскую и другие, так случилось, что Антиох, о котором слышал Цицерон, – и если бы из его жизни не следовало, что он был испорчен для философии, то его философские произведения не бросали бы благоприятного света на его учителя и его объединение философий – перенес стоическую философию в Академию; а что последняя включала скептицизм в своей основе, мы уже видели выше. Не следует забывать, что мы говорим здесь о таком союзе, который признает внутреннюю сущность различных философий как одно и то же, а не об эклектизме, который бродит по их поверхности и плетет свою тщетную гирлянду из маленьких цветов, собранных отовсюду.
Это совпадение времени, что различные философские системы впоследствии полностью разошлись, и что апатеисты атараксии, догматики Стои (Sextus, Pyrrh. Hyp. 65.) теперь считают скептиков своими самыми противными оппонентами. К этому полному разделению философий и полному закреплению их догм и различий, а также к нынешнему направлению скептицизма отчасти против догматизма, отчасти против самой философии, относятся исключительно пять последующих тропов скептиков, которые составляют своеобразный арсенал их оружия против философского знания и которые мы кратко упомянем, чтобы оправдать наше изложение. Первый из этих тропов эпохи – троп различия, а именно, уже не животных или людей, как в первом десятке, – а общих мнений и доктрин философов, как друг против друга, так и внутри себя; троп, в отношении которого скептики всегда очень широки, и видят и вводят различие везде, где лучше было бы видеть тождество. Второе – это стремление к бесконечному; Секст использует его так же часто, как и в более позднее время, как тенденцию к обоснованию; это хорошо известное, что для обоснования одного требуется новое обоснование, для этого – снова, и так далее до бесконечности. – Третье было уже в числе первых десяти, а именно – отношение. Четвертая – предпосылки, – против догматиков, которые, чтобы не быть загнанными в бесконечность, выдают нечто за абсолютно первое и недоказуемое, – чему скептики тут же подражают, выдавая, с полным правом, противоположное этой предпосылке без доказательства. Пятый – взаимный, когда то, что должно служить доказательством другого, само требует для своего доказательства того, что должно быть доказано им. – Два других тропа, о которых Секст говорит, что они также изложены, о которых Диоген не упоминает, и из которых мы сами видим, что они не представляют собой ничего нового, но только предыдущие, приведенные к более общей форме, содержат, что то, что задумано, задумано либо от себя, либо от другого; – Не из самого себя, поскольку существует разногласие относительно источника и органа познания, будь то чувства или интеллект; не из другого, поскольку в противном случае мы впадаем в троп бесконечного или взаимного.
Из повторения некоторых из первых десяти, а именно части того, что стоит первым и третьим среди пяти, и из всего их содержания видно, что намерение этих пяти тропов совершенно иное, чем тенденция первых десяти, и что только они относятся к позднейшему повороту скептицизма против философии. Нет более подходящего оружия против догматизма финитов, но они совершенно бесполезны против философии; поскольку они не содержат ничего, кроме понятий рефлексии, они имеют совершенно противоположное значение, когда обращены к этим двум различным сторонам; Против догматизма они выступают с той стороны, что они принадлежат разуму, что ставит другую часть необходимой антиномии рядом с той, которую утверждает догматизм, – против философии же с той стороны, что они принадлежат рефлексии; против последней они должны поэтому победить, но перед последней они распадаются сами на себя или сами являются догматическими. Поскольку сущность догматизма состоит в том, что он есть вещь конечная, страдающая противоположностью (напр. чистый субъект или чистый объект, или, в дуализме, двойственность в противоположность тождеству) в качестве абсолюта, разум показывает из этого абсолюта, что он имеет отношение к тому, что из него исключено, и, таким образом, не является абсолютным только через и в этом отношении к другому, согласно третьему тропу отношения; если этот другой должен иметь свое основание в первом, как первый имеет свое основание в другом, это есть круг и подпадает под пятый, диаллельный троп; Если же круга нет, но этот другой должен быть основан в самом себе как основание первого, и если он делается необоснованной пресуппозицией, то, поскольку он является основанием, у него есть противоположность, и эта противоположность может быть пресуппозирована с тем же правом, что и недоказанная или необоснованная, поскольку здесь уже однажды основание было признано согласно четвертому тропу пресуппозиций; или же этот другой как основание снова предполагается обоснованным в другом, тогда это основание уводится в бесконечность рефлексии конечного в бесконечное и снова оказывается безосновательным, согласно второму тропу. Наконец, этот конечный абсолют догматизма также должен быть общим, но он неизбежно не будет найден, потому что он ограничен; и здесь возникает первая тропа различия. – Этот троп, непреодолимый для догматизма, Секст использовал с большой удачей против догматизма, особенно против физики, науки, которая, как и прикладная математика, является истинной основой рефлексии, ограниченных понятий и конечного, – но которая для последнего скептика, конечно, является наукой, бросающей вызов всякому разумному скептицизму; напротив, можно утверждать, что старая физика была более научной, чем новая, и, таким образом, давала меньше возможностей для скептицизма.
Против догматизма эти тропы разумны, потому что они представляют собой противоположное конечному догматизму, от которого он абстрагировался, создавая тем самым антиномию. Напротив, обращенные против разума, они сохраняют как свое собственное чистое различие, от которого они затронуты; разумное в них уже присутствует в разуме. Что касается первого тропа, различия, то разумное вечно и повсюду равно самому себе; чисто неравные существуют только для разума; и все неравное устанавливается разумом как единое. Конечно, это единство, как и то неравенство, не должно восприниматься, как говорит Платон, общим и юношеским образом, когда бык и т. д. рассматривается как единое, о котором утверждается, что он одновременно много быков. Невозможно показать, что разумное по третьему тропу существует только в отношении, в необходимой связи с другим, поскольку оно само не что иное, как отношение. Поскольку разумное является самим отношением, те, кто находятся в отношении, которые, если бы они были установлены разумом, должны были бы обосновывать друг друга, не попадают в круг или в пятый, диалелический, поскольку в отношении нет ничего, что можно было бы обосновать в беспорядке.
Таким образом, разумное не является неподтвержденным предположением по четвертому тропу, поскольку противоположное также могло бы быть неподтвержденным с тем же правом, ибо у разумного нет противоположного; оно включает в себя конечные, одно из которых является противоположным другому. Оба предыдущих тропа содержат понятие причины и следствия, согласно которому одно обосновано другим; поскольку для разума нет другого против другого, то как они, так и требование причины, сделанное на основе противоположений и бесконечно продолжающееся, второй троп, стремящийся к бесконечному, исчезают; ни то требование, ни эта бесконечность не имеют отношения к разуму.
Поскольку эти тропы все заключают в себе понятие конечного и основываются на нем, их применение к разумному непосредственно приводит к тому, что оно становится конечным; они придают ему, чтобы его ограничить, «чесотку» ограниченности. Они не противоречат разумному мышлению сами по себе, но когда они противоречат ему, как их использует Секст, они непосредственно изменяют разумное.
С этой точки зрения можно понять все, что скептицизм выдвигает против разумного; пример мы видели выше, когда он оспаривает познание разума, утверждая, что оно либо абсолютно субъективно, либо абсолютно объективно, и либо целое, либо часть; оба этих аспекта добавлены именно скептицизмом. Таким образом, когда скептицизм выступает против разума, следует немедленно отвергнуть понятия, которые он приносит, и отклонить его неэффективные для атаки аргументы. – Что новейший скептицизм всегда приносит с собой, как мы видели выше, так это понятие вещи, которая находится за и под явлениями. Когда старый скептицизм использует термины hypokeimenon, hyparchon, adelon и т.д., он обозначает объективность, которая составляет его суть и не поддается выражению; он остается на уровне субъективности явления. Это явление для него не является чувственным объектом, за которым, согласно догматизму и философии, должны утверждаться другие вещи, а именно сверхъестественные. Поскольку он вообще сдерживается от того, чтобы высказать уверенность и бытие, у него уже нет ни одной вещи, ни условной, о которой он знал бы; и ему не нужно сваливать на философию ни эту определенную вещь, ни другую, которая была бы за ней, чтобы заставить её упасть.
Из-за ослепления скептицизмом против знания вообще, поскольку он здесь противопоставляет одно мышление другому, и это: есть, борется с философским мышлением, он вынужден также отменить это: есть своего собственного мышления, оставаясь в чистой негативности, которая сама по себе является чистой субъективностью. Как отвратительно были скептики по этому поводу, мы видели выше на примере новой академии, которая утверждала, что всё неопределенно, и что это утверждение включает в себя само себя; однако даже это для Секста не достаточно скептично, он отличает их от скептицизма, потому что они устанавливают и догматизируют утверждение; однако это утверждение настолько выражает высший скептицизм, что это различие становится совершенно пустым.
Также это должно было произойти с Пирроном, чтобы его представили догматиком. Этот формальный вид утверждения – это то, чем скептики любят заниматься, возвращая им, что если они во всем сомневаются, то, по крайней мере, это: «я сомневаюсь», «мне кажется» и т. д. является несомненным, то есть противопоставляя реальность и объективность мыслительной деятельности, когда они при каждом утверждении через мышление придерживаются формы утверждения, и таким образом объясняют каждое высказанное действие как нечто догматичное.
В этом экстремуме высшей консеквенции, а именно негативности или субъективности, которая больше не ограничивается субъективностью характера, одновременно являющейся объективностью, а становится субъективностью знания, направленной против знания, скептицизм должен был стать непоследовательным; поскольку экстремум не может существовать без своего противоположного. Чистая негативность или субъективность, таким образом, либо является ничем, уничтожая себя в своем экстремуме, либо должна стать крайне объективной. Осознание этого лежит на поверхности и подчеркивалось противниками; скептики именно поэтому, как упоминалось выше, заявили, что их фонаи, а именно «все неверно, ничего истинного, ни одно не более другого», включают в себя самих себя. Скептик, произнося эти лозунги, говорит лишь то, что ему кажется, и выражает свою аффекцию, а не мнение или утверждение о объективном бытии. Секст, Пирр. Гипт. 7. и иначе, особенно гл. 24, где Секст выражается так, что, когда скептик говорит, как тот, кто произносит «перипате», на самом деле говорит: «я иду», всегда нужно добавлять: «по отношению к нам», или «что касается меня», или «как мне кажется».
Эта чисто негативная позиция, которая хочет оставаться лишь субъективной и кажущейся, перестает быть познанием; кто твердо держится тщеславия, что ему кажется, будто он так и думает, хочет, чтобы его высказывания были абсолютно не для какого объективного мышления и суждения, того нужно оставить; его субъективность не касается никого другого, тем более обычного сознания, или философия не касается его.
Из этого рассмотрения различных сторон древнего скептицизма вытекает, чтобы кратко подытожить, различие и суть новейшего скептицизма.
Этому, во-первых, недостает самой благородной стороны скептицизма, направленной против догматизма обычного сознания, которая присутствует во всех трех указанных модификациях: он, а именно, идентичен философии и только ее негативной стороне, или отделен от нее, но не направлен против нее, или направлен против нее. Для новейшего скептицизма общее сознание, охватывающее бесконечное множество фактов, обладает неоспоримой уверенностью; рассуждение [аргумент – wp] об этих фактах сознания, их отражение и классификация, что составляет дело разума, предоставляют этому скептицизму, частично в виде эмпирической психологии, частично через аналитическое мышление, примененное к фактам, множество других наук, возвышающихся над любыми разумными сомнениями. Эта грубость, заключающая неоспоримую уверенность и истину в фактах сознания, не была присуща ни раннему скептицизму, ни материализму, ни даже самому обыкновенному здравому смыслу, если он не является полностью животным; она оставалась неслыханной в философии до новейших времен. Кроме того, согласно этому новейшему скептицизму, наша физика, астрономия и аналитическое мышление всех разумных сомнений оказывают сопротивление; и, следовательно, ему также не хватает благородной стороны позднего старого скептицизма, которая направлена против ограниченного познания и конечного знания.
Что же остается от этого новейшего скептицизма, который в своей ярчайшей ограниченности как эмпирического восприятия, так и эмпирического знания, превращающего эмпирическое восприятие в рефлексию и лишь предполагающего его анализировать, но ничего к нему не добавляющего, – ставит свою истину и уверенность? Ничего, кроме отрицания разумной истины и, для этой цели, превращения разумного в рефлексию, познания абсолютного в конечное познание. Основная форма этого превращения, пронизывающая все, заключается в том, что противоположность первой определенной Спинозой, которая объясняет causa sui [причина самой себя – прим. ред.], как то, чья сущность одновременно включает существование, становится принципом и утверждается как абсолютный принцип, что мысль, будучи мыслью, не включает в себя бытие. Это разделение разумного, в котором мышление и бытие едины, на противоположные мышление и бытие, и абсолютное удержание этого противопоставления, таким образом, абсолютно сделанный разум становится основой этого догматического скептицизма, который бесконечно повторяется и применяется повсюду.
Эта оппозиция, рассматриваемая сама по себе, имеет то достоинство, что в ней различие выражается в своей высшей абстракции и в своей истинной форме; сущность знания состоит в тождестве общего и частного, или того, что положено под форму мысли и бытия, и наука есть по своему содержанию воплощение этого рационального тождества и с формальной стороны – постоянное его повторение; нетождественность, принцип обыденного сознания и противоположность знания, выражает себя самым определенным образом в этой форме противопоставления; часть достоинства этой формы, конечно, отнимается опять-таки тем, что она мыслится только как противопоставление мыслящего субъекта существующему объекту.
Однако достоинство этого противопоставления, рассматриваемого по отношению к новейшему скептицизму, совершенно отпадает; ибо изобретение этого противопоставления само по себе старше последнего; но и этот новейший скептицизм лишен всякой заслуги в том, что он приблизился к образованию современности; ибо, как хорошо известно, именно кантовская философия, которая с ограниченной точки зрения является идеализмом, – в своей дедукции категорий действительно упраздняет это противопоставление, но в остальном достаточно непоследовательна, чтобы сделать его высшим принципом спекуляции; поддержание этой антитезы проявляется наиболее явно и с бесконечным самодовольством против так называемого онтологического доказательства существования Бога и как рефлексивное суждение против природы; и особенно в форме опровержения онтологического доказательства оно сделало общую и широко распространенную удачу; Г-н Шульце принял эту форму utiliter [ради пользы – wp], и не только использовал ее в целом, но и буквально пересказал кантовские слова, см. стр. 71 и в других местах; он также восклицает в первой части, стр. 618, в кантовском тоне:
«Если когда-либо делалась ослепительная попытка связать область объективной реальности непосредственно со сферой понятий и перейти из нее в ту лишь с помощью моста, опять-таки состоящего из одних понятий, то это было сделано в онтотеологии; тем не менее, заново (как ослеплена была философия до этих новых времен!) была полностью разоблачена пустая софистика и ослепительная работа, которая с ее помощью делается».
Господин Шульце только и делает, что подхватывает это недавнее замечательное открытие Канта, как это делают бесчисленные кантианцы, и применяет эту простейшую шутку налево и направо, и против самого отца изобретения повсюду, и атакует и растворяет все его части одним и тем же едким веществом.
Философская наука тоже вечно повторяет одно и то же рациональное тождество, но это повторение порождает новые образования из образований, из которых она развивается в законченный органический мир, признаваемый в своем целом тем же тождеством, что и в своих частях; Но вечное повторение той оппозиции, которая проистекает из дезорганизации и nihil negativum [ничего отрицательного – wp], с отрицательной стороны есть вечное выливание воды в решето, а с положительной – постоянное и механическое применение одного и того же разумного правила, из которого никогда не возникает новая форма, но всегда выполняется одна и та же механическая работа; это применение напоминает работу дровосека, который всегда делает один и тот же удар, или портного, который шьет форму для целой армии. То, что Якоби имеет в виду, говоря о знании в целом, на самом деле является постоянно разыгрываемой нюрнбергской игрой в крикет, которая вызывает у нас отвращение, как только мы узнаем и знакомимся со всеми ее ходами и возможными поворотами. У этого скептицизма есть только один ход и только один поворот игры, и даже это ему не свойственно, но он перенял это у кантианства. Этот характер новейшего скептицизма наиболее ясно проявляется в том, что он называет своими причинами, и на примере их применения.
Это уже очевидно из того, как он задумал свой объект, а именно интерес спекулятивного разума, а именно как задачу объяснения происхождения человеческих познаний вещей; выделение безусловно существующего из условно существующего; здесь в разуме, во-первых, вещи противопоставляются познанию, во-вторых, объяснению их происхождения, и таким образом вводится каузальная связь; Теперь основание познания отличается от основания рассудочного познания, первое – понятие, второе – вещь, и как только эта в корне ложная концепция рационального мышления была предпослана, не остается ничего другого, как повторять, что основание и причина, понятие и вещь – две разные вещи; что все рациональное познание занимается тем, что вычленяет бытие из мысли, существование из понятий, как это говорится столь же кантовскими словами.
Согласно этому новейшему скептицизму, человеческая способность познания есть вещь, имеющая понятия, а поскольку она не имеет ничего, кроме понятий, она не может выйти к вещам внешним; она не может исследовать или разведать их – ибо эти две вещи (Часть 1, с. 69) специфически различны; ни один разумный человек, обладая идеей чего-то, не будет думать, что он в то же время сам обладает этим чем-то.
Нигде не сказано, что этот скептицизм был бы настолько последовательным, чтобы показать, что ни один разумный человек не будет считать себя обладателем представления о чем-то, ибо, поскольку представление также является чем-то, разумный человек может считать себя обладателем только представления о представлении, а не самого представления, и опять-таки не представления о представлении, поскольку это представление о второй силе также является чем-то, а только представления о представлении и т. д. Или, поскольку дело однажды представлено таким образом, что есть два различных факта, один из которых – нечто, содержащее идеи, другой – нечто, содержащее вещи, нельзя понять, почему первый должен оставаться полным, а второй – вечно пустым.
Причиной того, что первое полно, а второе мы считаем только полным, может быть не что иное, как то, что первое – рубашка, а второе – юбка субъекта, причем карман идей находится ближе к нему, а карман вещей – дальше; но таким образом доказательство было бы сделано путем предположения того, что должно быть доказано; ведь речь идет именно о предпочтении реальности субъективного и объективного.
С этим скептическим основоположением, что следует размышлять только о том, что представление не есть то, что представлено, а не о том, что оба они тождественны, то, что говорится о несомненной достоверности фактов сознания, конечно, плохо согласуется; ибо, по мнению г-на Шульце (1. Согласно г-ну Шульце (часть I, стр. 68), идеи истинны, реальны и составляют знание в той мере, в какой они совершенно соответствуют тому, к чему они относятся, и тому, что ими представлено, или представляют сознанию не что иное, как то, что есть в представленном, и в повседневной жизни мы постоянно предполагаем такое соответствие как определенное, нисколько не заботясь о его возможности, как это делает новейшая метафизика. – На чем же еще основывает г-н Шульце неоспоримую достоверность фактов сознания, как не на абсолютном тождестве мысли и бытия, понятия и вещи, он – который затем снова на одном дыхании объявляет субъективное, понятие, и объективное, вещь, специфически различными. В повседневной жизни, говорит г-н Шульце, мы предполагаем это тождество; то, что оно предполагается в повседневной жизни, означает, что оно не существует в обыденном сознании; новейшая метафизика стремится проникнуть в возможность этого тождества; но нет никакой истины в том, что новейшая философия стремится проникнуть в возможность тождества, предполагаемого в обычной жизни; ибо она не делает ничего, кроме выражения и признания этого предполагаемого тождества; Именно потому, что в обыденной жизни это тождество предполагается, обыденное сознание всегда представляет объект как нечто иное, чем субъект; и объективное между собой, и субъективное опять-таки как бесконечную множественность совершенно различных вещей; это тождество, которое для обыденного сознания только предполагается и бессознательно, доводится до сознания метафизикой; оно есть ее абсолютный и единственный принцип.
Тождество можно было бы объяснить только в том случае, если бы оно не было, как говорит г-н Шульце, предпосылкой повседневной жизни, но реальной предпосылкой, т. е. абсолютно определенной и конечной, а потому и субъект и объект конечны; но объяснение этой конечности, в той мере, в какой оно опять-таки предполагает причинное отношение, выходит за рамки философии. – Г-н Шульце говорит об этом соответствии, что его возможность – одна из величайших загадок человеческой природы, и в этой загадке в то же время кроется секрет возможности знания вещей «априори», то есть еще до того, как мы посмотрим на эти вещи. – Тогда мы правильно узнаем, что такое знание a priori; снаружи – вещи; внутри – способность познания; когда она познает, не глядя на вещи, она познает a priori. – Чтобы ничего не упустить из этих трех страниц 68—70, содержащих подлинную квинтэссенцию понятий этого новейшего скептицизма в отношении философии, мы должны еще заметить, что г-н Шульце говорит о том, в чем состоит действительное положительное соответствие идей с их реальными объектами, что это не может быть далее описано или указано в словах; Каждый мой читатель должен скорее стремиться узнать это, наблюдая это, когда он сознает это (положительное), и видя то, что он воспринял и понял, например, когда, сравнивая представление, которое он составил о вещи в ее отсутствие, с самой вещью, как только он на нее посмотрит, он обнаружит, что она полностью соответствует ей и точно ее представляет». В чем смысл этого объяснения? Неужели все соответствие (или несоответствие) представления объекту опять-таки сводится к психологическому различию между присутствием и отсутствием, между актуальным восприятием и памятью? Должно ли тогда, в отсутствие вещи, соответствие представления с объектом, присутствующее в восприятии, ускользнуть от читателей, и нечто иное предстать перед их сознанием теперь, чем то, что присутствует в воображаемой вещи, говоря в терминах г-на Шульце. Не успело тождество субъекта и объекта, в котором заключена неоспоримая уверенность, стать очевидным, как оно, неизвестно как, тут же переносится снова в эмпирическую психологию; оно временами погружается в психологический смысл, чтобы быть полностью забытым в критике самой философии и в скептицизме, и оставить поле для нетождества субъекта и объекта, понятия и вещи.
Эта неидентичность проявляется как принцип в том, что называется тремя основаниями скептицизма. Как старые скептики не имели догм, принципов, а называли свои формы тропами, оборотами, которыми, как мы видели, они и были; так и г-н Шульце избегает выражения принципы и называет их, несмотря на то, что они являются полностью догматическими тезисами, только причинами. Большинство этих доводов можно было бы обойтись более полной абстракцией; ведь они не выражают ничего, кроме одной догмы: что понятие и бытие не едины.
Они таковы (часть 1, стр. 613f): Первая причина: поскольку философия должна быть наукой, ей совершенно необходимы истинные принципы. Но такие принципы невозможны.
Разве это не догма? Разве это не похоже на выражение скептического настроя? Такая догма, что абсолютно истинные принципы невозможны, тоже требует доказательства; но поскольку этому догматизму приходит в голову называть себя скептицизмом, выражения доказательства снова избегают, а вместо него используют слово объяснение; но как такая внешняя видимость может изменить дело?
Объяснение, как и всегда, обвиняет спекулятивных философов в том, что они полагают, будто могут вывести заключение о существовании сверхчувственных вещей из одних только понятий; само же доказательство исходит из того, что в пропозиции, т. е. в пропозиции, т.е. соединении идей и понятий, нет никакого соответствия между пропозицией и тем, что таким образом мыслится как необходимое, ни в соединении (copula), ни в понятиях пропозиции; – copula есть только отношение предиката к субъекту в уме, (т.е. нечто чисто субъективное), и по своей природе вообще не имеет отношения ни к чему вне мысли ума; – в понятиях предиката и субъекта ничего, – ибо с действительностью понятия в уме связана только его возможность, т.е. что оно не противоречит самому себе. Т.е. что оно не противоречит самому себе, но не то, что оно имеет отношение к чему-то отличному от себя. Здесь, таким образом, господин Шульце попадает на ослепительную и пустую софистику онтологического доказательства существования Бога. – Вторая причина – не что иное, как повторение этого объяснения (стр. 620):
То, что спекулятивный философ претендует на признание высших оснований условно существующего, он представляет себе и мыслит лишь в понятиях. Но интеллект, занятый одними лишь понятиями, не способен даже представить себе что-либо в соответствии с реальностью. В пояснении автор говорит, что разум так высоко ценится спекулятивными философами, или исследователями существования вещей из одних только понятий, что тот, кто подвергает это уважение малейшему сомнению, подвергает себя подозрению и обвинению в том, что у него мало или совсем нет разума. Однако и здесь верно обратное: спекуляция рассматривает разум как совершенно неспособный к философии. – Далее г-н Шульце говорит, что мы должны рассмотреть вопрос о том, может ли разум уступить это совершенство пониманию. – Что здесь должен делать разум? Почему автор в самом втором рассуждении говорит только о понимании, о котором в спекуляции вообще не может быть и речи, а не о разуме; как будто он относит понимание к философии, а разум к этому скептицизму? Но мы видим, что в тех немногих случаях, когда встречается слово разум, оно употребляется только как благородное слово, призванное привлечь внимание; то, что производит этот разум, никогда не является ничем иным, как тем, что понятие не есть вещь; и именно такая причина называется пониманием в спекуляции.
Третья причина (стр. 627):
Спекулятивный философ основывает свою притворную науку об абсолютных причинах условно существующего главным образом на умозаключении от природы следствия к природе адекватной причины. Из природы следствия, однако, нельзя с какой-либо степенью уверенности вывести природу причины.
В объяснении утверждается, что если человек не хочет прийти к осознанию того, что может лежать в основе всего обусловленного по вдохновению, то это может быть только осознание, опосредованное принципом причинности. – Для спекулятивной философии эта предпосылка, что отношение причинности в ней преобладает, опять-таки в корне неверна, ибо она скорее полностью изгнана из нее; Если оно и проявляется в форме производства и продукта, то, приравнивая производителя и продукт, причину и следствие, одно и то же, как причину самой себя и как следствие самой себя, оно тем самым немедленно аннулируется, и применяется только выражение отношения, но не само отношение; – что в спекулятивной философии необусловленное выводится из природы обусловленного, об этом ни в коем случае не может быть и речи.
Вот (стр. 643) теперь
«перечень и содержание общих причин, ради которых скептик отрицает определенность доктрин всех философских систем, которые до сих пор были или еще могут быть предложены, и которые определяют его не приписывать обоснованных претензий на истинность ни одной из этих систем».
Однако было замечено, что эти причины не имеют никакого отношения к философии, поскольку философия не занимается ни выделением вещи из понятий, ни исследованием вещи, лежащей за пределами разума, ни вообще тем, что автор называет понятиями, ни вещами, ни следствиями и причинами.
По этим причинам, говорит г-н Шульце (стр. 610), скептик, рассматривая истинную цель философии, ее условия и в то же время способность человеческого разума прийти к реальному и определенному знанию, не может понять, как может когда-нибудь появиться знание о сверхчувственном, если не изменится расположение человеческих способностей к познанию, чего не ожидает ни один разумный человек и на что было бы глупо надеяться. И питать такую надежду было бы тем более глупо, что философия возможна даже при той организации человеческого разума, которую он имеет в текущем году.
Таково оружие, которым теперь сражаются с системами Локка, Лейбница и Канта, а именно: с системами Локка и Лейбница как системами реализма, первая – чувственного, вторая – рационалистического; с системой Канта как системой трансцендентального идеализма; более поздний трансцендентальный идеализм мы оставим для третьего тома.
Первый том содержит изложение этих систем, у Локка – на страницах 113—140, у Лейбница – 141—172, но на страницах 172—578 мы снова получаем отрывок из так часто привлекаемой кантовской «Критики чистого разума»; последующая часть до конца посвящена скептицизму, представленному выше.
Второй том содержит критику этих систем в соответствии с рассмотренными выше причинами; – системы Локка со страниц 7—90, системы Лейбница со страниц 91—125. 600 страниц посвящены кантовской системе.
В качестве примера того, как эти скептические причины применяются к данным системам, мы приводим то, как поступает сам автор Лейбниц во втором томе, стр. 100. – С тех пор как Лейбниц задал тон, что основание необходимых суждений лежит только в самом разуме и что поэтому понимание уже содержит априорное знание, ему, конечно, бесчисленное количество раз повторяли, что необходимые суждения могут исходить только от самого познающего субъекта; Но до сих пор не было продемонстрировано ни одного свойства этого субъекта, в силу которого он был бы особенно пригоден для того, чтобы быть источником необходимых суждений, и ни в его простоте, ни в его субстанциальности, ни даже в его познавательной способности не было бы найдено оснований для такой квалификации. – Являются ли тогда простота и субстанциальность души качествами, которые допускает этот скептицизм? – Если бы в утверждении о необходимых суждениях речь шла только о том, чтобы показать, что они являются качеством души, то ничего не оставалось бы делать, как сказать, что душа обладает качеством необходимых суждений. Если же автор утверждает, что насколько наша проницательность простирается от нашего познавательного «я», настолько мы не находим в ней ничего, что могло бы определить ее как источник необходимых суждений, то сразу же после этого он говорит, что объекты нашего мышления – это иногда случайные, иногда необходимые суждения; Но нельзя сказать, что последние суждения имеют большее отношение к разуму и его природе, чем первые, и что природе нашего разума принадлежит способность производить необходимые суждения; нужно только предположить, что существуют два качества разума, одно качество случайных, другое – необходимых суждений; таким образом, квалификация нашего разума для необходимых суждений показана так же хорошо, как и другие качества в эмпирической психологии. Г-н Шульце признает необходимые суждения как факт сознания.
Но то, что Лейбниц говорит об истинности врожденных понятий и прозрений чистого разума, еще более безосновательно, и приходится удивляться, как этот человек, которому требования к достоверному доказательству были вовсе не неизвестны, мог уделять так мало внимания правилам логики. – Здесь мы узнаем прежде всего, чего не хватало Лейбницу, а именно внимания к логике, и господин Шульце очень удивляется этому; но чего не хватало Лейбницу, а чего у него было слишком много, так это гения, как мы увидим ниже; и то, что у человека есть гений, должно действительно удивлять.
А именно, не самоочевидно, что если в нашем уме есть врожденные понятия и принципы, то вне его есть и нечто соответствующее им, с чем он их соотносит и что он признает таковым в соответствии с его объективной реальностью; ибо понятия и суждения в нас не являются объектами, мыслимыми ими самими, и необходимость отношения предиката к субъекту в нашем мышлении о них вовсе не означает отношения мысли к реальной вещи, существующей вне ее, которая совершенно иная по виду. Мы видим, что автор принимает врожденные понятия в самом вопиющем смысле; согласно его концепции, субъект рождается с пачкой векселей в голове, которые нарисованы на мире, существующем вне его головы; но вопрос заключается в том, приняты ли эти векселя этим банком, не являются ли они фальшивыми; – или с кучей лотерейных билетов в душе, о которых никогда не будет известно, не являются ли они все заклепками; потому что нет никакого розыгрыша лотереи, в котором они были бы реализованы. Это, продолжает автор, всегда признавали и признают защитники врожденных понятий и принципов в человеческой душе, и поэтому они стремились доказать истинность этих понятий и принципов или определить более точно, каким образом эти понятия должны соотноситься с реальными вещами. В примечании говорится, что, по мнению Платона, понятия и принципы, которые душа врожденно приносит с собой в настоящую жизнь и благодаря которым мы только и можем распознавать реальное как оно есть, а не как оно представляется нам через органы чувств, – это всего лишь воспоминания о тех взглядах на вещи, к которым душа приобщалась во время общения с Богом; Картезий оставляет это, апеллируя к правдивости Бога; Спиноза говорит, что мышление нашего ума истинно, потому что оно состоит из идей и познаний Божества, в той мере, в какой они составляют сущность нашего духа; эти познания Божества, однако, должны быть совершенно согласны с тем, что таким образом познается, и даже являются одним и тем же с этими познаниями. Согласно Лейбницу, принципы, лежащие a priori в нашем уме, и содержащиеся в них идеи должны быть наделены истинностью и реальностью по той причине, что они являются образами понятий и истин, находящихся в уме Божества, которые являются принципом возможности, существования и природы всех реальных вещей в мире. Но позиция, которую г-н Шульце занял в этом вопросе, еще до того, как он перешел к критике, прямо смещает его; действительно ли намерение Платона, Спинозы, Картезиуса, Лейбница было доказать, что реальность соответствует врожденным понятиям или разуму? или определить вид, когда эти философы, как основание истинности того же самого, выставляют Бога? Следствие, по мнению г-на Шульце, таково:
а) субъективные понятия, которые сами по себе не имеют реальности, затем
б) реальность, лежащая вне их, теперь
в) вопрос о том, как все это объединяется;
г) доказательство их истинности в реальности, чуждой понятиям и реальности.
Эти философы скорее признали тождество понятия и действительности, которое, как говорит г-н Шульце, предполагается в повседневной жизни, и назвали его разумом Бога, в котором действительность и возможность едины.
Мы не будем здесь рассматривать, по мнению автора, не связан ли этот аргумент в пользу истинности и достоверности врожденных понятий в конечном счете с теософскими умозаключениями об отношении нашей души к природе Бога и вытекающими из него, которые иначе можно вывести из того, что учил Лейбниц о происхождении конечных монад от высшей Моны.
Итак, вот оно! Отношение нашей души к природе Бога – это теософский сверчок, и насколько с ним связан аргумент в пользу истинности идей, автор – вероятно, из соображений защиты – не желает рассматривать. Но вот эти философы заявили, почти в точку, что душа сама по себе ничего не представляет, а то, что она есть, находится в Боге; самый короткий способ говорить об этом – выдать философию этих философов за энтузиазм и теософский сверчок. Но г-н Шульце делает вид, что хочет проникнуть в основание знания; однако далее он говорит так много, что каждый из наших читателей, несомненно, увидит, что здесь необходимо спросить: откуда мы знаем, что наш разум обладает возвышенной привилегией быть причастным к образам вечного и реального знания, которые присутствуют в разуме Бога? Поскольку органы чувств ничего не сообщают о Боге и его атрибутах, ответ на этот вопрос Лейбниц может почерпнуть только из разума и его врожденной проницательности, что он и сделал. Следовательно, доказывая истинность врожденных понятий, он вращается по кругу. Конечно! А если он не ходит по кругу, то у него есть причинно-следственная связь, и, согласно третьей причине, мост от следствия к причине построен из ничего, кроме понятий, не имеющих реальности. – Но не нужно было разделять истинность и достоверность так называемых врожденных понятий, – и возвышенную заслугу участия в образах и вечном и реальном познании Бога, и делать каждое из них особым качеством, или как бы его ни назвать, но оба они – одно и то же; О доказательстве первого из второго не может быть и речи; поэтому всякая кругообразность отпадает, и остается только утверждение в двойном выражении, что разум, по Лейбницу, есть образ Божества, или что он действительно познает. Это, конечно, равносильно теософским сверчкам, но нельзя отрицать, что, выражаясь терминами этого скептицизма, отношение нашей души к природе Бога и концепция Божества были фактом сознания этих философов; Сознание, однако, является для этого скептицизма высшим судом уверенности и истины; то, что присутствует в сознании, как мы видели выше, не может быть более сомнительным, чем само сознание; ибо сомневаться в нем невозможно.
Так как реальность их идей и родство их природы с природой Бога имеют место в сознании одних философов, но не в сознании других, то нет иного способа справиться с этим, как назвать этих философов лжецами, что недопустимо, – или потребовать от них, чтобы они сделали свое сознание понятным, чего опять-таки требовать нельзя, ибо тождество идеи и вещи, предполагаемое в обыденной жизни, не постигается и обычным сознанием, которое могло бы предъявить такое требование; Поэтому ничего не остается, как предположить две расы сознания: одной, которая осознает эту связь, и другой, которая объявляет такое сознание теософским сверчком.
Затем г-н Шульце показывает необоснованность идеи, что разум имеет реальность, поскольку он является образом божественного разума, также от самого Лейбница, поскольку он говорит, что понятия конечных существ бесконечно отличаются от понятий Лейбница, противопоставляющего конечное и бесконечное, как это хорошо видно из изложения системы Лейбница в первом томе; или, скорее, это снова г-н Шульце, который рассматривает противопоставление конечного и бесконечного как абсолютное; В изложении системы Лейбница, §28, говорится, что атрибуты Божества соответствуют тому, что составляет основание познания и воления в сотворенных монадах; но в Боге они присутствуют в бесконечной степени и в высшем совершенстве; атрибуты, соответствующие им в сотворенных монадах, напротив, являются лишь их подобием, в соответствии со степенью совершенства, которым они обладают. Ср. §34 и примечание к нему. – Поэтому противопоставление, которое Лейбниц проводит между бесконечными монадами и конечными, состоит в том, что совершенства бесконечных соответствуют совершенствам конечных, а последние имеют сходство с первыми, а не в абсолютном противопоставлении конечного и бесконечного, как это представляет себе г-н Шульце, который, вероятно, может выразиться так, что эти два понятия конкретно различны; Тот факт, что Лейбниц считает абсолютную монаду бесконечной, а другие конечными, и при этом говорит о сходстве между ними, вероятно, будет отнесен г-ном Шульце к числу случаев, в которых Лейбниц был недостаточно внимателен к правилам логики.
Кроме того, согласно доказательству Лейбница, приведенному г-ном Шульце, то, что необходимые суждения человеческого разума должны присутствовать и в разуме Бога, вытекает из того факта, что эти суждения, в той мере, в какой они представляют собой вечные истины, должны присутствовать от вечности в разуме, который их мыслит и, следовательно, также существует от вечности, как детерминации того же самого. Г-н Шульце требует, чтобы сначала было показано, что разум, существующий от вечности и непрерывно мыслящий определенные истины, существует, прежде чем можно будет утверждать, что существуют вечно и всегда действительные истины; вечные истины – это те, которые, согласно нашему пониманию, каждый разум, сознающий суждение, должен мыслить так же, как мы их мыслим, и это, следовательно, не имеет отношения к тому, что разум, действительно мыслящий суждения, существовал от вечности. – Здесь г-н Шульце снова представляет существование божественного разума как эмпирическое существование, а вечность – как эмпирическую вечность.
Наконец, нельзя пройти мимо того, что г-н Шульце говорит о концепции ясного и смущенного воображения Лейбница, а именно, что взгляд на внешние вещи – это сознание непосредственного присутствия субъекта, который осознается нами (кажется, г-н Шульце все еще проводит различие между собой и своим субъектом; Не может не возникнуть желания обсудить это различие; в зависимости от того, как оно будет проведено, оно могло бы привести даже к теософским сверчкам) и от его чисто субъективных определений; что поэтому созерцание происходит от смешения многообразных характеристик в концепции, не имеющей вообще никакого смысла и значения; эти два понятия не находятся ни в каком отношении друг к другу. (Вопрос, однако, в том, в каком отношении друг к другу находятся «я» и наш субъект, который следует отличать от «я», а затем его субъективные и, наконец, объективные детерминации). В любой власти человека было бы произвести в себе представления о вещах по своему желанию, и если бы он подумал о чем-то ясно, то сразу же преобразовал бы это состояние сознания в восприятие объекта. Для того чтобы увидеть тысячную долю квадрата или кусок золота, дом, человека, вселенную, божество и т. д. как существующие, не нужно ничего, кроме того, чтобы, отвлекая внимание от их различия, атрибуты, лежащие в идее тысячной доли квадрата, золота и т. д., были тщательно спутаны друг с другом; но для того чтобы превратить видение дома, человека, дерева в простое понятие, не нужно ничего, кроме того, чтобы части, встречающиеся в так называемом чувственном представлении, были отделены друг от друга в сознании и стали ясны для ума. Но я надеюсь, что никто не станет всерьез утверждать, что его познающий субъект (здесь: никто, а его субъект) способен путем такого произвольного превращения понятий вещей в представления, а представлений в понятия, обмануть себя с помощью такой неслыханной ловкости рук». —
Господин Шульце не лишает себя здесь свободы вполне комфортно свести то, что говорит Лейбниц о природе воображаемого, на почву эмпирического воображения, и вывалить против Лейбница тривиальности точно такого же рода, какие выдвигают против идеализма Николай и другие подобные ему, Новейшему идеализму, которому г-н Шульце хочет посвятить третий том, не остается ничего другого, как ожидать, что в нем будут повторены эти самые убожества и что он будет выставлен за утверждение произвольности производства вещей и за превращение понятий в вещи, за самую возмутительную ловкость рук.
Этой трактовки философии Лейбница со стороны скептицизма будет достаточно в качестве примера его метода; Как бы ни была философия Лейбница сама по себе способна рассматриваться как рациональная система, исследование кантовской философии можно было бы сделать более интересным, подняв эту философию разума над ее собственным принципом, который она имеет в рефлексии, и выведя и представив великую идею разума и системы философии, которая лежит в ее основе повсюду, как почтенная руина, в которой поселился разум. Действенность этой идеи видна уже во внешнем обрамлении ее частей; но она также выходит на первый план в кульминационных точках ее синтезов, особенно в «Критике способности суждения». Дух кантовской философии состоит в том, чтобы осознать эту высшую идею, но при этом явным образом искоренить ее. Таким образом, мы различаем два вида духа, которые становятся заметными в кантовской философии: дух философии, который система всегда разрушает, и дух системы, который идет на убийство идеи разума; но этот последний бездуховный дух имеет также букву, и г-н Шульце напоминает нам, что в соответствии с прямыми заверениями Канта, что его система должна быть взята согласно букве, а не согласно духу, он придерживается буквы; таким образом, он пришел к бездуховной букве бездуховного духа философии. Теперь он подверг критике всю эту формальную сущность с помощью именно такой формальной сущности; он обличил кантовскую философию в самой вопиющей форме, на что автор, безусловно, имел право, используя теорию Рейнгольда и других кантианцев; и представил ее не иначе, как в виде самого грубого догматизма, который имеет внешность и вещи в себе, которые лежат за внешностью, как непокорные животные за кустом внешности; не так, как если бы кантианцы должны были только мучиться образом этой грубости, но потому, что, как мы достаточно видели выше, система неоспоримой уверенности в фактах сознания и этот скептицизм не могут поступить иначе. Для кантианцев, пригвожденных к букве, эта тяжелая работа и кислые хлопоты, которые другой формализм берет с формализмом Канта, а также образ этой грубости, если они еще способны быть напуганными им, могут иметь эффект испуга; Не только образ кантовской философии, как он дан им здесь, но этот образ, как он достаточно вопиюще представлен для себя во всей преемственности этих четырех алфавитов; точно так же им достаточно показана неадекватность кантовского формализма для выведения или приведения к своим формам. Но они напрасно будут искать в нем понятие разума или философии, которое ускользает в толпе фактов и вещей, которые ищут за этими фактами, как его обвиняют, и которого, следовательно, все дело этого скептицизма нисколько не касается. Наконец, мы не можем воздержаться от выдержки из эмпирической психологии этого скептицизма, а именно из того, как он представляет себе отношение гения и воображения к философии; в предисловии, на странице XXIV, г-н Шульце заявляет в связи со своей лекцией, что цветы красноречия очень плохо используются при рассмотрении вопросов спекулятивной философии, поскольку они вводят в заблуждение разум и мешают воображению в деле разума; Поэтому, даже если бы в его силах было оживить изложение этой критики и сделать ее более привлекательной с помощью красноречивых и ярких выражений, он не стал бы этим пользоваться. – О Лейбнице автор говорит, с. 91 и далее, что если бы дело разума в философии состояло в том, чтобы сочинять смелые и приятно-занимательные поэмы о трансцендентном мире, который, как предполагается, скрыт за миром чувств, почти предшествует воображению в его высшем полете, который оно только может совершить, и придавать этим поэмам единство и связность с помощью определенных понятий, то Лейбниц не был бы сравним, а тем более превзойден, ни одним другим философом; Кажется, что природа хотела показать ему, что достижение высшей цели сил познания не зависит только от обладания большими природными дарами и что ум, мало одаренный природой, если он правильно использует свои силы, может не только сравняться в этом с гением, но и часто превзойти его; г-н Шульце думает, что из этого мало что вышло бы, возможно, только неоплатонические бредни, если бы сам Лейбниц развил свою философию в систему. – Поэтому о Канте г-н Шульце говорит с величайшим почтением, что «Критика чистого разума» – это продукт усилий силы мысли, которая не щадила никаких препятствий и возникла исключительно благодаря свободному решению ее автора, и что гений и счастливая случайность (как будто может быть счастливой случайность для чего-либо, кроме гения!) могут, вероятно, в наименьшей степени претендовать на исполнение лежащего в основе плана.
Презрение к гениям и великим природным дарованиям, это мнение, будто воображение только поставляет цветы красноречия на лекции философии, будто разум пишет стихи в том смысле, в каком пишут газетную ложь, или когда он пишет стихи, выходящие за пределы обычной действительности, Неизвестно, чего больше – варварства и наивности, с которыми он аплодирует бесхитростности, или подлости понятий; Когда мы называем варварством презрение к великим природным дарам, мы имеем в виду не то природное варварство, которое лежит вне культуры; ибо она почитает гений как нечто божественное и уважает его как свет, проникающий в тусклость ее сознания, – но варварство культуры, ту сделанную грубость, которая создает для себя абсолютный предел и в пределах этой узости презирает неограниченность природы; и где она выражает себя познавательно, там и есть понимание. Что касается понятий, то они происходят от той эмпирической психологии, которая разделяет ум на качества и не находит среди этих качеств ни целого, ни гения, ни таланта, а представляет его в виде совокупности способностей, каждая из которых есть нечто особенное, одна – разум без восприятия, отдельно от воображения, другая – воображение без разума, и пустота которой может быть заполнена только вещами путем тяжелого труда и имеет свою ценность только в ее фактическом и материальном выполнении. Интеллект, таким образом, остается самым превосходным из других способностей, населяющих душу-мешок субъекта, поскольку он умеет превращать все в вещи, отчасти в понятия, отчасти в предметы; Таким образом, и этот интеллект, (поскольку он представляет странные вещи в двух первых повествовательных алфавитах), проходит через два критикующих алфавита в своем монотонном деле разрывания всего на понятия и внешне существующие вещи, без всякого смешения через идею разума, без воображения, без счастья в гулком, умопомрачительном, наркотическом, гнетущем тоне forte, такого эффекта, как если бы человек шел по полю цветущего гиосциамуса [henbane – wp], чьим оцепеняющим ароматам не может противостоять никакое усилие, и где его не стимулирует ни один бодрящий луч, даже в виде догадки.
LITERATUR – G. W. F. Hegel, Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie, Kritisches Journal der Philosophie, Bd. 1, zweites Stück, Jena 1802
Жозеф-Мари Дежерандо (1772 – 1842)
Размышления о скептицизме
Скептик Энесидем упрекал физиков своего времени в том, что они не доказали факты с должной уверенностью, прежде чем приступить к их объяснению; что они слишком поспешно и слишком исключительно высказывали свои гипотезы; что их объяснения часто расходились с их принципами; что они слишком поспешно делали выводы из наблюдаемых явлений к неизвестным вещам и тем самым ускоряли ход аналогий; что они произвольно и против всякого основания увеличивают число разумных причин; что они приписывают одной причине явления, которые с таким же успехом могут быть следствием различных причин; что, одним словом, они основывают свои системы на утверждениях, которые не являются ни самоочевидными, ни доказанными с помощью здравой логики12.
Как жаль, что Энесидем не появился раньше и что ему не уделили больше внимания древние. Возможно, если бы это произошло, античность получила бы рациональную физику. На месте отвергнутой гипотезы, возможно, появилось бы открытие, и та же причина, которая уничтожила ошибки, основала бы истины.
Свобода дискуссий, введенная в школах, несомненно, привела к большим злоупотреблениям, но также часто порождала спасительные сомнения, которые подготовили восстановление науки13. Ряд новых пирронистов, появившихся в XV и XVI веках, разоблачая ничтожность того, что считалось известным, сделал более ощутимой потребность в более глубоком знании. Почти в каждом сомнении Монтеня содержится научное зерно. Одна из самых действенных причин, обеспечивающих прогресс в познании, – это искусство сомневаться там, где это уместно.
Нам часто доводилось отличать этот критический и реформирующий скептицизм, необходимый для исправления предрассудков человеческого разума, от абсолютного и решительного скептицизма, который сваливает истины и ошибки в одно общее заклинание. Первый заслуживает всяческих похвал, особенно когда он проявляется при благоприятных обстоятельствах, то есть в те времена, когда философия сбивается с пути из-за напыщенных и поспешных утверждений. Как неумолимый цензор и строгий воспитатель, он вычеркивает существующие идеи, но учит нас ставить на их место лучшие; он вырывает несколько листов из книги науки, но оставляет книгу полностью в наших руках и приглашает нас завершить ее снова. Сократ впервые привел пример этого и показал все, что от него можно ожидать; он открыл лжеученым тайну их глубокого невежества. Это медленное открытие решило самую счастливую реформу, которую когда-либо переживала философия. Он сказал людям: учитесь сомневаться; но он также добавил: учитесь сомневаться, чтобы в будущем вы могли доверять разумному убеждению.
Скептицизм, таким образом, можно рассматривать как своего рода духовное лекарство, мудро организованное для лечения одной из самых страшных болезней человеческого разума и исправления злоупотребления его силами. Но если применять это специфическое средство в состоянии здоровья, оно превратится в яд. Если скептицизм будет применяться вне обстоятельств, требующих его эффективности; если его относительный характер будет изменен на абсолютный, а его сиюминутное влияние распространено на более длительный период времени; если сомнение перестанет исправлять прошлое и начнет отбрасывать всякое мужество в будущее; если оно будет нападать на права и достоинства самого разума, вместо того чтобы обличать его аберрации: все, что связано со скептицизмом, становится пагубным; тогда он заставляет все причины, способствующие прогрессу человеческого знания, иссякать у их истоков».
В этом ученики Пирро и последователи двух новых академий были неправы. Преувеличивая максимы Сократа, они уже не останавливались на исследовании существующего, но даже осмелились поместить совершенную мудрость в самую полную неопределенность и бездеятельность ума14 Они сделали искусством всегда находить причину, которая может быть противопоставлена другой15. Вместо того чтобы совершенствовать логику, они стремились уничтожить сам принцип логики. Вместо того чтобы научить нас отличать истину от заблуждения, они осмелились утверждать, что одно от другого нельзя отличить вообще ни по какому признаку16.
Восставая против свидетельств органов чувств и внутреннего сознания, а также против методических демонстраций, они становились не реставраторами философии – которыми они могли бы быть, если бы держались в должных рамках, – а скорее врагами разума. Они могли лишь стремиться унизить разум и заставить его отчаиваться даже в своих самых законных усилиях. Если бы они победили, то не сделали бы ничего, кроме как ускорили бы возвращение варварства. Изучите их труды, обратите внимание на то, какое влияние они оказали на свою эпоху. Обогатили ли они ее хоть одной великой и плодотворной идеей? Эти презиратели всех наук сами стали объектом всеобщего презрения, а их преувеличения служили не для чего иного, как для того, чтобы придать новую силу противоположным преувеличениям.
Все возражения, которые старые скептики выдвигали против достоверности всего человеческого знания, можно свести к трем основным пунктам.
Один вид заимствует основания спекулятивной философии против свидетельств опыта. Возражения второго рода заключаются в определенных предпосылках спекулятивной философии о природе науки. Третий вид возражений считает себя оправданным осуждать все виды философии из-за ошибок спекулятивной философии.
Таким образом, спекулятивная философия дает скептицизму различные виды оружия, которые он использует в том или ином виде.
У Секста Эмпирика мы должны изучать дух античного скептицизма. Лишь он один сохранил для нас его традиции и развил всю систему старых скептиков. Но если отбросить смешавшиеся с ним и не заслуживающие серьезного внимания уловки, а также многословие и повторы этого объяснения, то останется только три основных пункта, о которых мы только что говорили.
Он приводит пятнадцать причин для абсолютного сомнения. Первые четыре и шестая относятся к первому основному пункту. Различие, которое проявляется между чувствами различных видов животных, между чувствами людей, между чувственными впечатлениями, которые человек получает в разное время, и между свидетельствами различных органов чувств; смешение, которое обнаруживается в каждом чувственном впечатлении благодаря действию некоторых промежуточных веществ, находящихся между предметами и нашими органами, – вот причины, которые спекулятивные философы противопоставляют достоверности опыта, а скептики, по их примеру, – достоверности нашего знания17.
Очевидно, однако, что в своем единстве эти причины уничтожают только одно, а именно предположение о постоянном тождестве между ощущениями и внешними объектами. Они опровергают общую ошибку, которую допустили первые философы; но они ничего не доказывают против достоверности опыта, как она представлена истинной философией. Ведь они никоим образом не поколебали три фундаментальные истины: что наши ощущения являются реальными модификациями нашего существа; что некоторые ощущения действительно учат нас существованию внешних объектов, поскольку приводят нас в контакт с ними; что присутствие этих внешних объектов вызывает модификации, которые влияют на нас. Спекулятивная философия установила принцип, согласно которому существует только одна наука о необходимых и абсолютных вещах. Пирряне с большим искусством разработали все относительные вещи, которые встречаются в нашем знании. К этому относятся пятый, седьмой, восьмой, девятый и тринадцатый из противоположных аргументов Секста. Различное положение зрителя; разница в количестве и величине; оценка стоимости вещей в зависимости от их редкости; использование в суждениях сравнений. Это составляет второй класс возражений против определенности человеческих понятий18.
Но это лишь доказывает неправильность определения, которое спекулятивные философы дали науке. Отсюда легко доказать, что наука, как доказывают спекулятивные философы, не принадлежит к большому числу наших суждений. Но из того, что существует огромное количество относительных и случайных истин, вовсе не следует, что не существует истин вполне положительных. – «Если вы, – говорят скептики, – измените дозу лекарства, вы превратите его в яд».19
Что же мы должны из этого заключить? Что конкретное средство не является настоящим средством в первом случае и не является настоящим ядом во втором? Конечно, нет, но только то, что эти два реальных эффекта, несмотря на то, что они противоположны, могут, тем не менее, иметь место при различных обстоятельствах. Ошибка заключается не в каждом конкретном случае, а лишь в том, что мы слишком быстро переходим от одного к другому. Каждая пропорция, несомненно, изменяется, как только изменяются входящие в нее члены; но она не менее точна, если последние остаются неизменными, и они столь же реальны, если их брать только в порядке опыта. Даже если, что, несомненно, недопустимо, мы не должны слишком быстро выводить из одного конкретного факта факт другого характера, существуют неизменные аналогии, которые можно уловить путем разумных сравнений, которые придают истинам науки характер рациональной общности, неверно оцененный спекулятивными мыслителями, но оправданный истиной, – этот характер общности, который обнаруживается в результатах, но не в элементарных предложениях; этот характер, против которого примеры Секста не вызывают никаких сомнений.
Пирронианцы мастерски противопоставляют чувства рассудку, а рассудок – самому себе. Диалектикой злоупотребляли так много, что они нашли очень богатый материал для своих противопоставлений. Множество умозрительных систем потеряли свой кредит благодаря наблюдениям; и большинство из них попеременно опровергают друг друга20. Какие печальные поводы для триумфа презирателей человеческого разума. Но, между прочим, этот триумф легок и доступен посредственным умам. Достаточно открыть наугад книги философов, чтобы составить длинный список противоположных мнений, которые разные люди высказывали в разное время и в разных местах. Естественно, что на этом можно остановиться, если не чувствуешь в себе сил проникнуть глубже и исследовать причины противоречий, относительную ценность доказательств, выяснить, нет ли среди множества вещей, по поводу которых люди расходятся во мнениях, таких, в которых все люди единодушны. Кажется, что проще и легче придерживаться видимости и отчаиваться в истине, потому что вокруг не видно ничего, кроме споров. Но мудрый человек побуждается к более глубокому размышлению; среди разногласий, свидетелем которых он становится, он чувствует себя вправе выносить беспристрастные суждения. Эти примеры учат его не доверять себе, но не приводят к отчаянию в науке.
Таким образом, доводы пирронианцев можно свести к следующей формуле:
«Мы слишком далеко зашли в оценке чувств, поэтому чувства не могут дать нам никаких определенных свидетельств; мы злоупотребляем искусством обобщения, поэтому искусства обобщения не существует; многие люди делали неправильные выводы, поэтому мы не можем делать правильные выводы».
Почему эти критики не могли придерживаться своей истинной цели? Тогда бы они научили людей пользоваться своими чувствами с большей осторожностью, ученых – обобщать только на основе правильных аналогий, философов – руководствоваться лучшей логикой.
Но они берут на себя смелость утверждать бесполезность всякой логики.
«Напрасно, – говорят они, – искать критерий, установленный признак и характеристику, по которым можно было бы распознать истинность предложения без примеси сомнений и ошибок. Его нельзя обнаружить, и даже если бы он был обнаружен, его нельзя было бы заставить признать другим». 21Какому суду можно доверить суждение, необходимое для того, чтобы отличить истинное от ложного? Должен ли человек быть в состоянии сделать это? Но как человек может распознать объекты, находящиеся вне его, если он сам себя не распознает? Однако мы хотим наделить человека этой способностью. Но кто из людей будет облечен в эту возвышенную должность судьи? Доверите ли вы себя своим собственным суждениям? Но все люди судят по-разному. Станет ли каждый судить по своему собственному делу, которое не является ни справедливым, ни разумным? Оставите ли вы судить других? Кому из многих вы доверите это? Может быть, большему множеству? Только мудрые всегда составляют меньшее число на земле, и как вообще можно собрать голоса всего рода человеческого? Неужели вы хотите услышать только самых мудрых? Но как их распознать? И не является ли это суждение еще более трудным, чем то, о котором мы говорим?22
Но как может быть странным, что пирряне отрицают реальность и полезность логики, раз они заходят так далеко, что утверждают реальность любого искусства и возможность обучения ему? 23Поскольку сам Секст нападает на геометров и грамматиков и даже утверждает, что знаки языка не могут быть средством общения, что, впрочем, пришлось бы признать, если судить по тому, как он постоянно злоупотребляет словами в своих сочинениях?24
Великая ошибка пирронианцев состоит в том, что, по их собственному признанию, они превратили нерешительность ума, которая может быть лишь временным и промежуточным состоянием, в стойкую цель. 25Это постоянное состояние сомнения казалось им высшей степенью мудрости; и хотя они отвергали все полезные искусства, они сделали искусством поиск средств, которые служили бы для укрепления этого состояния ума.
Новые ученые разделяли с ними эту ошибку26. – Трудно провести резкую грань, отделяющую их от скептиков. Отличительные черты, которые Sextus хочет найти между ними, кажутся нам очень тонкими27. Если Аркесилай и Карнеад, с одной стороны, признавали реальность внешних объектов; если они оба, особенно последний, допускали некую вероятность, степень которой они определяли по-разному: что означала эта реальность внешних объектов, поскольку они утверждали, что она настолько далека от нашего понимания, что мы не в состоянии ее познать? Что означало смягчение, которое они, казалось, привносили в отчаявшуюся доктрину скептиков, поскольку в другом отношении они шли гораздо дальше самих скептиков и даже утверждали, что мы должны отказаться от всякой надежды когда-либо прийти к уверенности, чего Секст,28 будучи последовательным скептиком, никогда не хотел решительно утверждать?29
Что лучше всего характеризует две новые Академии в глазах историка, так это не особый характер их идей и не особое направление их атак. Стоики были их постоянным объектом; поэтому, когда их рассуждения противопоставляются рассуждениям стоиков, первые предстают в своем истинном свете.
В своем учении о принципах человеческого познания стоики допустили ряд ошибок, из которых академики извлекли наибольшие преимущества. Например, стоики рассматривали ощущения как представление и образ внешних объектов. Напрасно они пытались объяснить этот репрезентативный характер различными сравнениями; напрасно они требовали, чтобы эти образы объединяли определенные условия, например, чтобы объект был реальным, а образ соответствующим. Поскольку они делали эти чувственные представления основой всего знания, всегда оставался вопрос, по какому праву можно судить, что эти представления истинны, как распознать, что условия соблюдены, что объект реален и что картина подобна форме, воспроизведенной в сознании. Академики действительно ставили этот страшный вопрос перед своими оппонентами.
Далее стоики утверждали, что мудрецам подходит только один вид рассуждений – абсолютный, непоколебимый, обладающий совершенной силой и универсальной применимостью. Они не допускали для мудреца никаких мнений, то есть никаких рассуждений, смешанных с какими-либо сомнениями30. Это было большим преувеличением. Ведь между совершенной уверенностью и совершенной нерешительностью существует огромное количество постепенных нюансов, соответствующих большей или меньшей вероятности. Мнения не менее претендуют на право быть нашими путеводителями, когда они просто вероятны; и они тем мудрее, чем больше их сопровождает некоторая сдержанность. Гуманитарные науки были бы очень бедны, если бы они отказывались принимать вероятные мнения после их благоразумного изучения. Поэтому академики могли справедливо упрекать стоиков в том, что они требуют от человеческого разума надежности, которой он не может обладать, и противопоставляли абсолютной уверенности стоиков ту вероятность, которая более соответствует слабости нашей природы31.
Стоики всегда апеллировали к чувству убежденности. По их мнению, это чувство должно служить судьей между абсолютной уверенностью мудрых и мнением, которое, как они говорили, принадлежит только глупцам. Но последователи Академии были слишком тонки, чтобы не заметить, что чувство, которым заблуждающийся чувствует себя не менее проникнутым, чем мудрый, и которое действует в обоих с одинаковой силой, не может быть арбитром между ними, а может лишь укрепить одного и другого в тех предрассудках, которые они впитали в себя. Два человека говорят и верят, что их вдохновляет одно и то же убеждение; как же решить, кто из них глуп или мудр, кто из них прислушивается к уверенности или мнению?
Стоики апеллировали к доказательствам. Академики спрашивали, что такое доказательство, как его можно пролить свет и отличить от обманов, которые принимают тот же облик перед нашими глазами?
Ведь стоики не были достаточно бдительны в отношении поспешных гипотез, даже суеверных идей. Они, например, полагали, что боги сообщают о себе людям в снах, оракулах и предсказаниях, посредством неких непосредственно данных впечатлений. Какая выгода для академиков, самых ярых апологетов [оправдателей – wp] разума, удивлять этих мудрецов, которые хотели руководствоваться только абсолютной уверенностью, такими отклонениями?32
В общем, в этой долгой борьбе новейшие академики почти всегда имели над своими противниками то преимущество, которое может принадлежать тонким, опытным и искусным умам, а также все естественные преимущества на их стороне, которые обычно имеют нападающие над защищающимися. Но с другой стороны, какие аплодисменты стоики не получили в глазах здравомыслящих и беспристрастных людей? Если они, возможно, и превосходили своих противников в диалектическом искусстве, то вся сила аргументации, весь авторитет здравого смысла – здравого смысла, который философы обвиняют в стольких пороках, но который в конечном итоге всегда торжествует над доводами философии, – был на их стороне. «Напрасно, – говорят стоики, – вы пытаетесь заставить возникнуть определенные противоречия из тех или иных истин, которые существуют между людьми в разгар их разногласий; непоколебимым остается ряд чувств и впечатлений, общих для всех людей. Эти общие и всеобщие понятия являются основой нашего знания».33
«Напрасно вы хотите удержаться от аплодисментов в отношении всех предметов и при всех обстоятельствах. Ваш собственный опыт, если вы честно обратитесь к нему, торжественно даст вам ложь. Голос природы сильнее, чем голос всех систем, и он взывает к вам: прислушайтесь к доказательствам. И вы обязательно должны ему подчиниться, ибо не в ваших силах отказаться аплодировать совершенно ясным идеям и принять то, что им полностью противоречит».34
«Если люди расходятся в своих суждениях, то это потому, что они по-разному применяют общие понятия. Если они ошибаются, то потому, что неправильно применяют истинные и точные понятия. Если одно и то же предложение иногда кажется истинным и ложным одновременно, то это потому, что оно действительно истинно в одном отношении и ложно в другом,35 и все искусство ваших предполагаемых парадоксов состоит лишь в том, чтобы спутать эти отношения друг с другом».
«Напрасно вы рассуждаете о заблуждениях, которые ввергают человека в ошибку, когда его органы приходят в расстройство из-за болезни или других несчастных случаев. Эти временные расстройства ничего не доказывают против тех суждений, которые он делает, когда его органы здоровы. Даже тот факт, что в конце концов вам приходится возвращаться к этим аномалиям, говорит о том, что это суждение против вас. Доказательством того, что эти обманы ничего не заключают против правильных суждений, служит то, что человеческий разум способен различать их, и что самый ничтожный разум в достаточной мере противопоставляет одно из двух состояний, на которое вы хотите походить, другому.»36
«Вы утверждаете, что человек испытывает совершенно одинаковые впечатления, независимо от того, является ли объект реальным или воображаемым, настоящим или отдаленным. Это утверждение не доказывает ничего, кроме мимолетности вашего внимания. Ибо если вы более внимательно понаблюдаете за природой этих впечатлений, то легко поймете, что правильные идеи сопровождаются в нас иной степенью доказательности, чем неправильные.»37
«Два объекта, – скажете вы далее, – часто имеют столь совершенное сходство, что невозможно не спутать их друг с другом. Вы видите, например, двойной отпечаток одного и того же перстня, два яйца, двух близнецов и т. д. Но когда умный человек смотрит поочередно на два совершенно одинаковых предмета, он утверждает не их тождество, а только сходство; поэтому его суждение, по вашему собственному признанию, верно. Кроме того, в природе нет такого совершенного сходства, как вы хотите предположить; даже между самыми похожими предметами существует тысяча различий, и если они ускользают от нас, то причина этого кроется исключительно в грубости наших органов, которые, даже если они видят правильно, не могут видеть все. Мы ограничиваемся утверждением того, что они действительно воспринимают, не решаясь на то, что им недоступно.»38
«Вы требуете критерия, позволяющего отличить истину от заблуждения. Этот критерий, который, как вам кажется, так трудно найти, находится в вас самих; он лежит в ваших собственных способностях, и вопрос заключается лишь в том, чтобы хорошо их использовать. Но вам доставляет удовольствие злоупотреблять ими».39 «Вам нужно средство, с помощью которого вы можете быть уверены, что всегда будете приходить к правильным идеям. Это средство есть в руках всех внимательных и трудолюбивых людей, но оно ускользает только от поверхностных умов. Оно заключается в стремлении не иметь никаких других идей, кроме законченных. Человек обманывает себя только потому, что хочет делать общие суждения с помощью конкретных понятий. Поэтому мы даем признаку истины название каталепсии, подразумевая под этим, что ум может
охватить весь спектр объектов и не должен ограничиваться рассмотрением их с одной стороны».40
«Только подумайте, к чему приведут последствия вашего пагубного учения. Я уничтожаю для человека всю философию, всю мудрость, всю науку. Из-за вас исчезнет самая благородная цель, которую он может поставить перед собой на этой земле. Ведь если истины нет или если человеку невозможно ее достичь, то ради какого интереса он должен стараться использовать свои духовные силы? Какая причина может побудить его совершенствовать их?41 Какая польза от крыльев и руля, если он, подобно хрупкому кораблю в безбрежном море, отдан на волю вечной и безграничной неопределенности? Зачем ему бдительно следить за передней частью, если он не может обратить взор надежды ни в какую сторону?»
«Вы открываете книги мудрых, созерцаете природу, возвращаетесь путем размышлений к центру себя, глупцы! Что толку во всех этих трудах, если они заканчиваются тем, что вам открывается полная бесполезность и нелепость всех ваших усилий, на которые вы тратите свои часы?»
«Вы верите, как вы говорите, ни в какую правду. И все же вы вынуждены совершать какие-то действия. Действуете ли вы как слепцы? Или же вы поступаете как разумные существа, не впадаете ли вы в противоречие с самими собой?42 Для того, в чьих глазах истина – ничто, нет также ничего полезного и хорошего, даже животное не было бы активным существом, если бы не опиралось на свои ощущения. Поведение человека – не более чем глупость, если у него нет уверенности в реальности цели и целесообразности средств, используемых для ее достижения. Существо без убеждений было бы лишено движения, равно как и надежды».
«Но если в состоянии совершенной неопределенности человек должен всегда оставаться нерешительным в выборе даже тех предметов, которые необходимы для сохранения его существования, то что же станет с великой практической наукой, которая должна быть общим и неизменным законодателем нашей жизни и жизни всех людей? что же станет с моралью? Знаете ли вы, где находится самое полное опровержение вашей системы? – В сердце праведника. Ибо праведник не сомневается в святости своих обязанностей; но все поступки безразличны для того, кто не имеет никаких, кроме сомнительных, представлений, и нет добродетелей там, где нет истин. Итак, идите и научите человека, что он должен способствовать благу ближнего, что он должен избегать того, что может быть ему вредно! Ваш ученик на все ваши правила ответит грозным: что я знаю? Он скажет вам: знаю ли я, что полезно или вредно? Предположим, с вами случится несчастье, и вы будете вынуждены обратиться к нему за помощью; спокойный и неподвижный в нравственной апатии, которую вы сделали своим высшим благом, он посмотрит на вас бесстрастным взглядом и скажет: докажите мне, что я должен вам помочь; докажите мне, что вы страдаете». «Но вы не намерены, говорите вы, обрекать человека на абсолютную бездеятельность. Вы предписываете ему подчиниться инстинкту, склонности и привычке. Поистине великий результат вашей ученой диалектики! Разве ему нужны были ваши исследования, чтобы усвоить такие замечательные правила? Но почему вы хотите сделать их законом? На чем вы хотите основать такой закон? Какому инстинкту следует повиноваться, каким привычкам следовать? И раз уж вы навязываете нам полностью подневольное существование, то, по крайней мере, дайте нам хоть какие-то указания относительно характера нашего рабства. Но мы живем в развращенные времена; мы попали в вырождающееся общество; мы не видим вокруг себя ничего, кроме торжества порока. Поэтому ученики, получившие образование в вашей школе, должны будут следовать по течению; они никогда не будут противостоять господству преступности с благородным упорством, но будут увеличивать число недостойных, которые клеймят характер человечества; они будут распространять позор, потому что видят его царящим вокруг них. Это единственные принципы, которых не щадит ваше всеобщее сомнение; это единственное открытие, которым вы наделяете человечество. Вы знаете только одну вещь, в которой, даже если бы она была истинной, человек был бы вечно невежественным».
«Друзья истины, друзья морали, те, кто хоть немного интересуется разумом и судьбами человечества, неужели вы не чувствуете, что вся ваша душа возмущается при этой мысли? Неужели вам еще нужны причины, чтобы показать вам бездну, которую эти мнимые мудрецы разверзли под нашими шагами? Более того, что значат все их хитросплетения в присутствии единодушного свидетельства, которое поднимается против них из груди всех благожелательно настроенных душ и всех здравомыслящих людей, или, скорее, в присутствии подлинного и торжественного свидетельства самой природы? Объединитесь с нами, каковы бы ни были ваши личные мнения, восстаньте вместе с нами против этих художников разрушения, которые хотят основать свою славу на руинах двойного здания науки и морали; которые лишают нашу природу ее самой прекрасной привилегии – права знать, что правильно и истинно; которые закрывают перед нашими глазами всякую надежду на совершенство; которые хотят задушить в нас все зародыши мужества и активности; которые покрывают наш разум вечной ночью и обрекают нас на неподвижность могил. Несомненно, мы должны сожалеть о них, потому что для них нет ни учебы, возвышающей мысль, ни плодотворных знаний, направляющих искусство, ни благородных интересов, объединяющих сердца, потому что для них нет добра ни в реальности, ни в будущем. Но почему они открывают школу, основывают секту, объявляют о своих планах? Чего они хотят? Тщетно вытаскивать людей из заблуждений, если нет заблуждений, и нет заблуждений, если нет истины. Неужели эти люди, которые во всем сомневаются, настолько уверены в своем мнении, что считают себя вправе его пропагандировать? Так пусть же и в этом случае они примут то состояние нерешительности, которое они нам рекомендуют, и, поскольку они ничего не знают, пусть хотя бы молчат!43
То, что стоики говорили скептикам новой Академии, мы скажем скептикам более поздних времен, и с еще большим основанием. Ибо великий опыт философской истории теперь просветил нас относительно последствий такой системы и показал нам, что счастье абсолютного скептицизма является лишь предвестником возвращения более яростного догматизма; что человеческий разум, впав в одну крайность, внезапно бросается в противоположную и с безграничным легковерием предается самым произвольным гипотезам, после того как отказался признать самые простые истины. Таким образом, две новые академии не оставили после себя никаких следов своих усилий, и вместо того, чтобы несколько смирить самомнение системы, они скорее впали во всеобщую дискредитацию, уступили место мистическим преувеличениям александрийцев и, казалось, в какой-то степени оправдали их, поскольку представили человеческому разуму не что иное, как беспричинную бездну, которая грозила поглотить все.
Когда в XV и XVI веках скептицизм вновь начал опрокидывать здание схоластической философии, было также видно, как быстро воображение восстало против состояния бездействия, на которое оно было обречено в течение некоторого времени. Идеи теософов возобновились с новой силой и распространялись с новой радостью; догматические системы возникли заново. Тот, кто читал Мальбранша, поймет, в какой степени сомнения Монтеня способствовали ошибкам этого картезианца. Монтень постоянно находится перед его глазами, как тень, которая угрожает преследовать его; чтобы спастись от неопределенности, которой он пугает его, он ищет убежища в доктринах интуиции. Шестнадцатый век, пожалуй, как никакой другой, вызвав всеобщее одобрение скептицизма, увидел в конце того же столетия появление множества смелых систем в политике и морали. В нашей среде зародились новые секты джлюминатизма. Месмеристы и конвульсионисты пробудили энтузиазм верующих, который и сегодня, кажется, ищет новые объекты со всех сторон.
Почему так происходит? Как только равновесие нарушено, нужно быть готовым к тому, что противоположные преувеличения будут сменять друг друга, подобно тому как два плеча рычага попеременно поднимаются и опускаются. Абсолютное сомнение – слишком неестественное состояние для человеческой природы, чтобы позволить нашему разуму закрепиться в нем. Поэтому сам скептицизм, кажется, оправдывает все аберрации, как только инстинкт здравого смысла или все потребности нашей природы вырывают человека из этого временного бездействия. Скептицизм действительно объединил все человеческие мнения в один класс, уподобил истины и ошибки; он не позволил установить признак, по которому их можно было бы отличить, и уничтожил все законы рассуждения, все принципы хорошего метода. Поэтому, как только человек вырывается из этой всеобщей неопределенности, он неизбежно должен принять без различия все мнения, которые ему представляются; он оказывается не в состоянии сделать какой-либо выбор или остановиться на каком-либо пределе; он не будет следовать никакому другому руководству, кроме необходимости выйти из ужасного положения, которое довело разум до отчаяния. Как только человек решил верить, у него больше нет причин исключать какую-либо систему из своей уверенности, потому что не было причин исключать некоторые истины из своего сомнения. Обрекая нас на бездействие, скептицизм лишил нас всех инструментов, которые могли бы направлять наши шаги. Как только человек, жаждущий выбраться из этой страдальческой неподвижности, снова приходит в движение, он неизбежно сбивается с пути.
Кстати, скептицизм Пирра и Аркесилая был относительно полезен в то время, когда он появился. Поскольку он следовал накопленным системам, он заставлял философию задавать себе вопросы и определять еще мало исследованные принципы человеческого знания; он порождал важные проблемы и давал начало прекрасным теориям стоиков на основе уверенности. Но время, в котором мы живем, и современное состояние науки уже не сулят скептицизму тех же преимуществ. Время разрушения и реформирования прошло; наступило время, когда нужно работать над восстановлением. Здравомыслящие люди достаточно информированы об опасности гипотез и просвещены относительно ошибок, которые преобладали до нас. Те, кто боится возвращения этих ошибок и воскрешения догматизма, должны прежде всего быть осторожны, чтобы не продлить неопределенность, которую создают системы, так же как они создают анархию деспотизма. Если не решаться возводить здание истинной науки, то причиной тому станет легковерие.
Сегодня мало умов, которые можно научить лучше, но много таких, которые нуждаются в убеждении. Нам не нужно присутствие самонадеянного и решительного скептицизма, чтобы рассмотреть великие вопросы, касающиеся принципов познания; бессмертные гении прояснили их за последние два столетия; их основные моменты найдены. Никогда нельзя прийти к концу, если на каждом шагу начинать заново и ходить по одному и тому же кругу идей, если, как только небольшое число истин будет восстановлено с проницательностью и умеренностью, существование любой истины вообще должно быть поставлено под сомнение заново. Идеи должны обрести определенную бодрость, а умы – поступательное движение. Нам еще предстоит совершить великие открытия, и они требуют всех усилий философии. Единственный вид скептицизма, который еще может быть полезен для нас, – это тот, который будет поддерживать в нас спасительную бдительность в разгар новой деятельности, но не тот, который заставит нас сомневаться во всех успехах, а при самых лучших перспективах на будущее еще и отнимет средства для совершенствования наших знаний.
Есть время размышлять, но и действовать; реформировать, но и создавать. Возьмем пример из естественных наук. Последние с пользой для себя восприняли совет сомнения, когда изучение природы сбивалось с пути пустой метафизикой. Но с тех пор как Бэкон объединил их на верном пути, они стараются умножить свои завоевания и не тратят время на вечные споры о принципах; они остерегаются поспешных утверждений; но они позволяют себе и те утверждения, которые появляются с помощью строгих методов. Физики сегодня смеются, когда видят эксцентричных недоумков, поднимающих свои слабые голоса против прекрасных теорий Нейтона, и стараются не тратить свое драгоценное время на опровержение таких оппонентов. Философия, наконец, может считать, что битва между ней и абсолютным скептицизмом закончена. Если еще есть люди, которые искренне утверждают, что истины не существует или что разум никогда не сможет достичь ее, то достаточно нескольких слов, чтобы заставить их замолчать или считать себя свободными от обязанности убеждать их в обратном.
Чем больше знакомишься с трудами новейших скептиков, тем больше убеждаешься в необычайной бесплодности идей, на которые скептицизм, казалось бы, обречен. На самом деле это всегда те же самые причины, которые использовались в древности, которые обновляются в других выражениях и применяются другими способами. Кодекс пирронианцев всех времен полностью содержится в тексте « Секста», а содержание самого «Секста» можно сжать до нескольких страниц. Все споры со скептиками можно свести к единственному вопросу: Существуют или не существуют изначальные истины, – истины, которые сами по себе должны вызывать наши аплодисменты и которые недоказуемы, потому что не нуждаются в доказательствах.
Поэтому мы ни в коем случае не хотим отбросить главное возражение скептиков, а лишь оставляем его напоследок, чтобы извлечь из него сам принцип их опровержения. Фактически все возражения скептицизма основаны на предпосылке, что человек вправе требовать доказательств для каждого утверждения; Сект то и дело возвращается к этой предпосылке.
«Мы спрашиваем, – обращается он к своим оппонентам от имени всех скептиков, – каков характер истины, этот характер, который мы тщетно ищем, а вы претендуете на то, что нашли? Конечно, вы не станете просить нас поверить вам на слово. Ибо почему мы должны платить эту дань покорности одному человеку, а не кому-то другому, почему мы должны платить ее просто так, даже без доказательств? Поэтому вам придется основывать свои учения о свойстве истины на твердых основаниях. Если же случится, что мы усомнимся в этих основаниях, потому что не сможем отличить основательное доказательство от слабого, вы, без сомнения, ответите, что мы не правы, не поддавшись доводам, которые сами по себе имеют характер истины. Тогда, ради всего святого, объясните нам это столь желанное свойство; научите нас, как мы можем убедить себя в нем.
Вот оно, скажете вы: докажите это, ответим мы. Если вы окажете нам эту услугу, мы попросим вас о новой услуге – представить ваши доказательства вне всяких сомнений. Тогда вы начнете доказывать заново, чтобы вызвать наше справедливое беспокойство; а мы с новой силой попросим вас дать нам безошибочные знаки истины в этих новых доказательствах. Таким образом, мы полностью заблудимся в ошибочном круге и будем иметь перед собой бесконечную серию доказательств, которые попеременно предполагают друг друга».44
Более поздние скептики по-разному исказили это рассуждение, не придав ему новой ясности и силы45. Мы должны признать, что спекулятивные философы сами не раз оправдывали его, когда считали ниже своего достоинства подчиняться респектабельности здравого смысла и полагать, исходя из смешения разума с рядом выводов, что все, что не основано на выводах, не разумно и что истина может быть выяснена только путем доказательства; когда они со всей серьезностью приступают к демонстрации, чтобы оправдать доказательства и внутреннее чувство; когда они, наконец, говорят, что нет истинной философии, если прежде всего, и действительно a priori, не доказана не только реальность, но и возможность знания вообще.
Но какой же вывод мы должны сделать из этого великого и вечного возражения скептиков? Только то, что неразумно пытаться приводить какие-либо другие основания для утверждений, кроме тех, которые сами требуют доказательства; что если кто-то вправе сомневаться в любом предложении, то никакой результат не может быть установлен, потому что ни один принцип не может спасти себя, одним словом, что не существует истин, если только не существуют некие изначальные истины, которые не нуждаются в демонстрации. В этом заключается весь результат возражения скептиков, и мы будем осторожны, чтобы не оспаривать его. Все эти доводы предполагают то, о чем идет речь, но не дают никакого решения. Далеко не доказывая несуществование изначальных истин, они скорее направлены на то, чтобы их признать, ибо если не желать их признавать, то можно потерять себя в бесконечных противоречиях.
И сколько бы мы не заставляли скептиков признаться, что они обманывают сами себя, предполагая существование неких изначальных истин и полагая, что они будут приняты без противоречий.
Если не существует абсолютных истин, то не существует и вероятностей, поскольку они вытекают из первых. Вторые имеют силу только благодаря их связи и сравнению с первыми. Поскольку человек точно знает, сколько комбинаций представляют стороны кубика, он может считать вероятным, что тот или иной бросок кубика произойдет или не произойдет на самом деле. – Тем не менее, скептики исходят из вероятности.
Если не принимать положительные предложения как определенные, то нельзя принять и отрицательное предложение. Ведь утверждать, что вещи нет, можно только потому, что она противоречит существующей вещи. Нельзя отвергнуть предложение как непоследовательное, если нет ясного и определенного знания об идеях, которые оно содержит, и об отношениях между этими идеями. – Тем не менее, скептики отвергают множество пропозиций как ложные или непоследовательные.
Если бы не существовало определенных истин, которые признаются всеми людьми одинаково и без помощи демонстрации, и которые, таким образом, образуют своего рода общее и всеобщее понимание, то было бы невозможно взаимное общение между людьми или даже появление языка. Ибо нельзя быть понятым, если нет единодушия в чем-то; нельзя говорить, если не признаешь, по крайней мере, свою собственную мысль; нельзя быть понятым, говоря, если не находишь такого же признания в уме другого. Тем не менее, скептики рассуждают так же, как и другие люди, и надеются быть понятыми, поскольку стремятся донести свои сомнения.
Если существуют относительные истины, то должны существовать абсолютные истины; ведь отношения вещей друг к другу могут быть только результатом свойств, присущих каждой из них. Ряд относительных истин достаточен для образования абсолютной истины – Тем не менее, скептики часто, кажется, принимают относительные истины и оспаривают только их характер общности и последовательности. Если разум не способен судить с уверенностью, он должен лишиться способности сравнивать, а значит, и утверждать о сходстве или различии, равенстве или несходстве. – И все же скептики, противопоставив и взвесив противоположные доводы по каждому вопросу, учат нас, что они нашли их совершенно равными по силе.46
Если интеллект лишен всякого определенного знания, то воля должна навсегда остаться неподвижной и нерешительной. Ибо не может быть ни воли без намерения, ни намерения без знания. – Тем не менее, скептики, по крайней мере, заявляют, что их воля руководствуется законами и привычками.
Что еще можно сказать о всевозможных противоречиях, в которые заворачивается абсолютный скептицизм, чтобы оправдать свое собственное сомнение? И что еще не было сказано о нем, поскольку он берется за это оправдание по неосторожности?47 Свет льется здесь со всех сторон в таком изобилии, что часто возникает соблазн предположить, что старые скептики не излагали свои возражения искренне и без оговорок, но что они сами, преувеличивая свои порицания и опрометчивость своих сомнений, хотели заставить философов своего времени наконец установить более незыблемые принципы и применить еще более строгие методы. Такой способ объяснения столь необъяснимой системы показался бы нам весьма вероятным, если бы перед нашими глазами не было текста трудов Секста. Однако всегда остается вероятным, что число тех, кто в древности мог отрицать существование некоторых изначальных истин, должно было быть очень ограниченным среди людей здравого ума, и нам кажется столь же трудным найти абсолютных скептиков среди современников.
Но как бы ни было мало тех, кто мог бы утверждать и всерьез принимать подобную максиму, мы должны не менее внимательно изучить, на чем она может быть основана. Ведь здесь все тесно связано, и мы уже показали – другие покажут это еще лучше, – что абсолютный скептицизм, даже если бы он был химерой, все же является неизбежным следствием, к которому должны привести определенные системы и определенные методы. И как только будет признано, что существуют определенные первые истины и что человеческий разум обладает способностью выводить правильные заключения; если нам удастся определить точку, на которой человеческий разум должен остановиться в своих вопросах, и курс, по которому он спускается от непосредственного знания, все вопросы, касающиеся идеализма, спекулятивной философии и различных видов скептицизма, будут значительно упрощены.48
Поскольку здесь речь идет об основании всего нашего знания и поскольку некоторые философы, согласно их претензиям, получили свет на некое, не знаю какое, более раннее знание, которое само должно предшествовать закладке этого основания и было бы условием целесообразного его заложения, невозможно пролить слишком много света на пункт, который по праву можно назвать краеугольным камнем всей философии.
Признаемся, мы не можем присоединиться к тому восхищению, с которым, по-видимому, было воспринято заявление Паскаля: разум заставляет замолчать догматиков, а природа – скептиков – суждение, которое содержит двусмысленности и, возможно, дает больше проблесков в выражениях, чем правильности в понятиях. Несомненно лишь то, что природа торжественно заставляет замолчать догматизм, который имеет особенность выходить за пределы, указанные природой. Разум столь же громко осуждает скептицизм, потому что ни одна система не лишает его всех прав и не возмущает его более яркими противоречиями. Так стоило ли Паскалю путать разум и рассуждение, две такие разные вещи? Ведь часто в небольшом рассуждении есть много разума; часто человек доказывает разум, вообще не рассуждая, как при рассмотрении непосредственных истин; часто в большом рассуждении есть мало разума. Но сколько других причин, обоснованных самой здравой логикой, существует против абсолютного скептицизма?
Путаницу в эти вопросы внесло то обстоятельство, что разум, слишком привыкший к использованию рассуждений, не мог обойтись без их помощи и считал, что потеряет свое достоинство, если отбросит инструмент, который на самом деле лишь свидетельствует о его неспособности; ведь неограниченный разум понял бы все, не рассуждая ни о чем. Таким образом, человеческий разум был поражен, когда ему на мгновение показалось, что он достиг первых источников своего знания, где использование рассуждений уже недопустимо, и скептицизм в полной мере воспользовался этим изумлением. Люди, которые были слишком готовы служить, присоединились к нему и воскликнули: смелее! Мы приведем вам новые причины, чтобы поставить их выше непосредственного знания. Скептики еще больше восторжествовали после такой непродуманной активности, а рассуждающие, которые так стремились к доказательству, в свою очередь оказались удивлены вопросами, на которые они сами не могли ответить.
В конце концов, как мы можем выбраться из этого хаоса? Как избежать этих парадоксов и поставить предел бесконечному прогрессу сомнений, которые возвышаются над принципом любого доказательства? Может быть, доказать существование изначальных истин? Это было бы равносильно скрытому противоречию; ведь нельзя же, в конце концов, излагать исходные истины так же, как использовать их для доказательства нижестоящих истин с помощью уже признанных. Речь идет не о доказательствах, не о демонстрациях, а о признании факта, причем факта не отдаленного, а настоящего и внутреннего. Суть в том, чтобы прийти к пониманию смысла вопроса, определенным образом осмыслить его условия, а затем, со всей честностью, которой требует столь важный вопрос, заглянуть в его внутреннюю сущность. То, что человеческий разум может познавать, не нужно доказывать и не нужно объяснять, как он может познавать; важно лишь дать отчет о том, что происходит в нем, когда он совершает операцию, которой мы даем название акта познания.
Если, таким образом, путем серьезного и спокойного размышления мы проникнем в лоно нашей собственной мысли, приведем в порядок наши идеи, устраним все колебания слов, привлечем к этому исследованию серьезное и устойчивое внимание, мы все в каждый момент воспримем важнейший факт, факт, который так же чудесен и необъясним, как наше собственное существование, который так же стар, так же реален, так же тесно связан с нашим существованием, – акт познания.
Я узнаю. Я воспринимаю его; все во мне уверяет меня в этом. Даже вопрос, который я задаю себе, свидетельствует об этом, ибо я признаю по крайней мере то, о чем хотел спросить себя49.
Я узнаю. С этого акта начинается все для моего духа, и вне этого акта для меня нет больше ни доказательств, ни идей, так же как до существования нет ничего, кроме небытия.
Я познаю. Но я не все узнаю одинаково, не при одинаковых обстоятельствах и не с одинаковой степенью ясности. Есть вещи, которые я познаю косвенным, далеким, темным, гипотетическим образом, другие я познаю прямым, непосредственным образом. Мое познание направлено на них; оно развивает их и отождествляет себя с ними; оно не отличается от этих вещей, не изолировано, не отделено никаким промежуточным пространством. Это контакт, постижение, созерцание узнаваемой вещи.
Я познаю непосредственно. Эта способность моего существа дает мне непосредственные истины, которые я ищу. Это познание не подлежит никакому сомнению, потому что оно не есть мое дело, потому что оно просветило меня в тот самый момент, когда открылся мой дух, потому что оно просветило меня для того, чтобы постичь сомнение, потому что без этого факультета сомнения как такового не существовало бы; потому что такое познание не оставляет никакого пустого пространства, в котором сомнение могло бы занять место; потому что здесь нет проблемы, а есть факт, который раньше, чем все проблемы. Этот факт существует в вас, к которым я теперь обращаюсь, в вас, принадлежащих к человеческой природе, он находится в вас и проявляет себя в вас. И если бы существо было организовано таким причудливым образом, что не обладало бы этой способностью или не воспринимало бы ее существование, нам не пришло бы в голову противоречить ему; но у него было бы так же мало права противоречить нам. Если бы оно присвоило себе это право, то уподобилось бы подагрику, который отрицает способность человеческой расы двигаться.
Этот общий факт, одинаковый во всех нас, мы назвали общим словом, знанием, изначальной истиной. Это знание истинно не потому, что оно согласуется со своим объектом, 50а потому, что оно постигает и воспринимает этот объект. Неважно, как мы называем эту основную способность нашего существа, – здравым смыслом, внутренним чувством, сознанием, свидетельством, восприятием; свет, который она распространяет в нас и который подобен свету во всех мыслящих существах, дает нам во все времена средства для понимания самих себя и придает знакам языка их действительность.
Поскольку познание – это изначальный и простой факт для нашего разума, его нельзя определить, но можно отличить от того, что не является познанием. Его сопровождают определенные обстоятельства, за ним следуют определенные определения воли, определенные движения разума. Важно не путать познание с чувством убежденности, с силой решимости, спокойствием духа, живостью и определенностью идей – со всем тем, что может быть следствием познания, но само не является познанием. Первоначальное познание – это простой и всегда аналогичный акт. Оно полностью вплетено в феномен сознания, и из него развивается внимание.
Очень ограниченный ум человека может в одно и то же время охватить лишь небольшое число объектов в одном и том же акте. Поэтому объект первоначального познания обязательно должен быть очень простым; и чем он проще, тем лучше можно быть уверенным в том, что познание является первоначальным. Любое несколько составное познание будет лишь косвенным и производным.
Поскольку оригинальное познание обращается непосредственно к объекту, этот объект должен присутствовать в нем непосредственно, в прямом контакте с ним. Любой объект, удаленный от сознания промежуточным пространством времени и места, будет принадлежать лишь производному, косвенному познанию.
Первоначальное познание – это и восприятие, и суждение; восприятие – потому что его объект виден, а суждение – потому что он воспринимается как реальный. Первоначальное познание характеризуется этим тождеством восприятия и суждения.
Определение и умозаключение – это два канала, по которым распространяется, распространяется и передается свет первоначального познания. Определение распространяет свет восприятия на все идеи. Умозаключение несет свет суждения последующим пропозициям.
Все первоначальные познания не существуют сразу в уме; не все они присутствуют в первый период развития ума; каждый момент вызывает новое непосредственное познание, представляя новый непосредственно воспринятый факт.
Феномен сознания является как бы театром, в котором все эти познания появляются одно за другим.
Объекты непосредственного познания бывают двух видов: одни просто даны рассудку, другие возникают в результате деятельности рассудка, направленной на первые.
Объекты, данные уму, – это, с одной стороны, «я», его существование и его модификации; с другой – существующие вещи, связанные с «я» и отличные от него.
Применяя разум к этим двум классам данных объектов, он может совершать три различных действия, которые становятся для него источником трех актов познания.
Каждый из этих актов проистекает из существенной особенности ума в функции познания.
В этой функции постоянство эго позволяет ему узнавать себя и объекты. Отсюда акт памяти; так осознание настоящего инициирует осознание прошлого.
В той же функции самобытность Я позволяет ему, как только оно узнает, воспринимать познание того, что происходит внутри него самого. Это акт рефлексии, и из него проистекают все понятия, относящиеся к суждениям о тождестве.
Наконец, единство эго в одной и той же функции позволяет ему распознавать несколько объектов одновременно, не разделяя себя. Эго помещает себя между несколькими объектами, различает их, противопоставляет друг другу, объединяет и уподобляет. Это акт сравнения, и из него возникают познания отношения.
Эти три последних вида познания, которые мы можем назвать модальными, в отличие от первых, которые мы называем познанием факта, по своему происхождению являются чисто конкретными и имеют вначале силу только для сиюминутного использования разумом своих функций по отношению к определенному объекту.
До тех пор пока они остаются в ранге первоначальных познаний, они не имеют для разума характера всеобщности.
Общие предложения, выражающие закон природы, сначала могут выражать только реальный факт, о котором разум имеет непосредственное представление, или прошлый факт, который он восстановил через память.
Тождественные предложения, рассматриваемые сами по себе, первоначально выражают лишь отношение между двумя идеями, о которых душа имеет реальное сознание, или, если угодно, акт памяти, посредством которого человеческий разум признает, что он оформил одну и ту же идею под двумя различными языковыми знаками.
Заметим, что две идеи, отношения которых определяет разум, могут быть либо совершенно оригинальными, без внешнего образца, либо чувственными идеями, сформированными, упорядоченными и усовершенствованными разумом, как, например, идея совершенной геометрической идеи.
В следующей главе мы увидим, как эти два вида реальных познаний приобретают привилегию всеобщности, когда разум придает им виртуальную или репрезентативную действительность, применяя их к определенным предпосылкам, которые он сформировал.
Продолжая это спокойное и серьезное возвращение в себя и непрерывно расспрашивая себя о первых явлениях моего духовного существования, когда я спрашиваю себя, что я обнаружил во всех ошибках, в которые я впал, я понимаю, что эти ошибки всегда и только начинаются в той точке, где заканчивается область первоначального знания; что они постоянно проистекают либо из того, что я принимал определенные мнения без доказательств и, следовательно, наделял их прерогативой прямого знания, несмотря на то, что они не принадлежали к этому классу знаний, то есть утверждал их произвольно; либо из того, что я оставлял эти мнения в классе подчиненных и производных знаний, но выводил их ошибочным образом, то есть путем ложного применения исходного знания.
Таким образом, я поступил неправильно, либо не рассуждая там, где рассуждения были необходимы, либо рассуждая с недостаточной точностью.
Если я увлекся, уступив право первоначальных познаний, по которому они независимы от всяких доказательств, на мнения, требующие доказательств, то это произошло потому, что я, по недостатку внимания, спутал акт познания с сопутствующими обстоятельствами и следствиями, или потому, что я не уделял достаточно внимания тщательному определению объекта моего первоначального познания, а потому слишком легкомысленно считал его тождественным с другим объектом и таким образом воспринимал его слишком неотчетливо.
Каким же образом в каждом случае можно с уверенностью распознать, обладаю ли я истиной или же меня уносит в заблуждение? Есть только одно средство: я должен дать себе отчет в том, каким образом я приобрел то или иное мнение, я должен подняться к его источнику и исследовать его законные притязания. Это будет сделано следующим образом. Для начала я исследую, может ли объект моего мнения принадлежать к классу моих первоначальных познаний или нет, и в первом случае, действительно ли первоначальное познание сообщает мне об этом объекте, и соответствует ли это указание в точности мнению, которое я задумал; во втором случае, является ли оно легкомысленно выведенным. Два принципа, достаточного основания и противоречия, которые Лейбниц выдвинул в качестве критерия всего человеческого знания, были бы весьма полезны, если бы он применял их только для того, чтобы подчинить подчиненные познания первоначальным и указать средства, с помощью которых последние могут быть выведены из первых. Но, представив их как принципы общего использования и применения, они стали неадекватными и даже вредными, поскольку сделали объектом исследования сами исходные познания и тем самым низвели человеческий разум до бесконечного круга демонстраций.
Первоначальные познания не подлежат никакому критерию, поскольку они должны служить критерием для других познаний.
Философы требуют чего-то, что, конечно, было бы очень приятно и очень удобно для использования, если бы они искали критерий настолько простой и настолько удобный, что он мог бы с первого взгляда отличать истину от ошибки, служить разумной общей печатью для всех действительных истин и таким образом сделать все исследования ненужными. Но они стремятся к совершенно невозможному. Безуспешность попыток, которые предпринимались во все века для ее осуществления, достаточно доказывает ее невозможность. Жребий нашего разума был бы слишком светлым и счастливым, если бы истина обладала столь заметными признаками, что ее можно было бы распознать с первого взгляда. Ничто не может освободить его от обязанности терпеливо и методично размышлять. Установить спокойствие и порядок в своем уме, проследить назад приобретенные идеи и вернуться к источнику знания – вот единственный путь, который нам остается, и даже если он пройден, мы все равно должны оставить в результатах этого исследования долю слабости нашего разума, а в выведенных мнениях, как бы аккуратно мы ни работали над их выведением, всегда допускать некоторые случайные ошибки, как это возможно.
Если понимать под критерием средство проверки достоверности знания, то даже сомнение в определенном отношении можно считать своего рода критерием; не то сомнение, которое делает сомнительным даже исходное знание, и не то сомнение, которое запрещает всякое исследование как тщетное, но все же критическое сомнение, которое стимулирует исследование мнений и заставляет разум выяснять, как эти мнения были связаны с исходными истинами, и которое удваивает активность разума благодаря спасительной неугомонности.
Мы с удовольствием видим, как Лейбниц признает заслуги Бейля и те услуги, которые его критика оказала философии. Этому возвышенному гению подобало спокойно наблюдать за тщетными нападками нового скептика на первые основания уверенности, наблюдать с таким спокойствием и хладнокровием, что он все же смог оценить правильность множества цензурных суждений и важность некоторых проблем, которым Бэйль дал идею. Скептицизм во многом обязан своим счастьем некоторому паническому ужасу, и даже страх, который он внушает, подчиняет многих людей своей власти. Сколько людей не стали скептиками только потому, что боялись ими стать. Впечатление недоверия необычайно заразительно. Тем, кто убедил нас в каком-то заблуждении, легко заставить сомневаться во всем остальном. Нужно обладать немалой силой духа, чтобы решиться приостановить свое мнение, когда все вокруг нас принимают решения; но еще большей силой духа нужно обладать, чтобы сформировать разумное убеждение, когда пустота и беспокойство скептицизма окружают нас со всех сторон.
Я поражаюсь, когда вижу, как Декарт в середине ученого века вдруг отрывается от всех старых авторитетов и на мгновение неподвижно стоит на развалинах всех человеческих мнений. Но еще больше удивляет меня Декарт, когда в момент, когда его силы кажутся истощенными долгими размышлениями о тщете наших суждений, он появляется, вооруженный новой силой, и считает себя способным во второй раз восстановить все, что он разрушил. Невозможно иметь больше эрудиции, утонченности, духа, искусности и настойчивости, чем у Бэйла; он дал своему веку огромную энергию; ему не хватало только одного – гения, а гения ему не хватало только потому, что он не знал уверенности.
Уверенность, действительно, по большей части является источником умственной активности и энергии; не та покорная уверенность, которая позволяет слепо руководить собой, а рациональная уверенность, которая является прерогативой настоящей силы.
Она развивает, если можно так выразиться, нашу силу мысли; она распространяет в уме спокойствие и безмятежность, без которых невозможны проницательность и размышления; она поощряет поиск истины; она поддерживает работу, которой этот поиск требует; она позволяет разуму свободно распоряжаться своими способностями, собирать свои идеи и преобразовывать их в соответствии с необходимостью. Любовь к истине, то благородное и глубокое чувство, которое является, так сказать, душой гения, любовь к истине предполагает справедливую уверенность в возможности достижения истины. Здесь, не будем пренебрегать этим замечанием, мы видим одну из самых прекрасных связей, объединяющих интересы философии с интересами морали.
Все те нравственные чувства, которые возвышают, укрепляют и расширяют человеческое сердце, дают ему сознание собственного достоинства, направляют его взор к высокой цели его судьбы, способствуют его совершенствованию, вырывают его из узкого и одинокого существования эгоизма, объединяют его с существами той же природы, со всем обществом, словом, все благожелательные тенденции питают эту восхитительную уверенность, благодаря которой дух может стремиться к обладанию и наслаждению истиной. Они придают его перспективам больший размах, его идеям – ясность, последовательность и гармонию. Внутреннее благополучие, которое распространяет добродетель, кажется как бы благотворной росой, подготавливающей душу к поискам мудрости и научным трудам.
Из всех противоречий скептиков наиболее странным, наиболее своеобразным и в то же время наименее заметным является то, которое лежит между их образом мыслей и душевным спокойствием, которого они претендуют достичь, между блаженством и преимуществами, которые, по их словам, они находят в этом состоянии. Большая часть из них допускает возможность достижения истины, даже если они отказывают нам в наслаждении ею. Что же касается тех, кто утверждает абсолютную невозможность этого, то они, очевидно, исходят из совершенно несостоятельного предположения. Ибо по какому праву они могут утверждать абсолютную невозможность? Разве они признают природу вещей, или природу человека, или вечные законы того, что должно быть? Вещь может быть невозможной только потому, что она противоречит тому, что существует, или потому, что она содержит противоречие – два момента, по которым скептики считают себя неспособными судить. Это принадлежит природе скептицизма, и он заявляет об этом после вступления своего манифеста, что для него может существовать только равная возможность двух противоположных утверждений для каждого объекта. Если же открытие истины действительно возможно, если истина имеет исключительную цену для человеческого духа, если она – его единственное богатство и самая желанная для нас вещь во всех отношениях, то как можно считать возможным обладание некоторым покоем, пока человек еще не начал овладевать истиной? Можем ли мы считать себя счастливыми в этой духовной нищете? Разве не мучает нас ярчайшее беспокойство и гнетущая тревога до тех пор, пока мы не вырвались из пустоты, из небытия, из мрака всеобщего сомнения, чтобы постичь наконец некоторые элементы достоверного знания? Какое существо могло бы аплодировать плачевной апатии, одобрять ее, оправдывать ее и называть блаженством, если бы оно сознавало свои благородные и высокие способности?
Допустим, однако, что скептики, поскольку они слишком отрицают существование истины, могут перестать ценить ее ценность и не находить ничего безутешного в лишении вещи, потеря которой так болезненна для умов, обладающих каким-то возвышенным чувством51. Но как объяснить то спокойное безразличие, с которым, согласно их притворству, они относятся к благам и злу жизни?52 Разве это так уж безразлично, если нельзя бросить утешительный взгляд в будущее, даже если это только для того, чтобы подсластить чувство настоящего зла, от которого скептики не считают себя свободными53? Так ли уж совершенно безразлично, что в разумном убеждении нет ничего, что давало бы право если не на полную уверенность, то хотя бы на вполне обоснованную надежду на реальное благо, способное украсить условия жизни? Можно ли оставаться равнодушным и спокойным, когда человек беззащитен перед самыми ужасными ужасами? Каковы те ужасы, от которых скептики могут быть достаточно защищены? Разве не должны все виды несчастий и величайших зол казаться им во все времена столь же вполне возможными, как и все виды счастья? По крайней мере, человек, сохраняющий в себе разумную убежденность, может найти оружие для защиты от этих ужасных возможностей; он может найти помощь против них в неизменных законах природы и в мысли о благосклонном Авторе их. Но человек, в глазах которого все условия имеют равный вес, даже не в состоянии отогнать самые нелепые суеверия обывателей, или гадания астрологов, или самые жестокие и в то же время самые неправедные мнения. Чтобы уничтожить заблуждение, необходимо иметь истину.
Скептик, конечно, сможет сказать, что подобные идеи не кажутся ему ничем доказанными; но он не должен утверждать, что в них содержится нечто невозможное. Возможность зла является достаточным условием страха, потому что ее достаточно для возникновения опасности, и потому что опасность часто бывает более гнетущей, чем сама боль. Что же это за странная безопасность, которая заявляет о себе посреди всех опасностей, какие только может представить человеческое воображение; которая оставляет человека в покое, когда он висит посреди бездны, и которая даже претендует на то, чтобы извлечь мир и счастье человека из неопределенности, столь противоречащей его природе? Давайте обратимся к истории и человеческому сердцу и скажем, можно ли найти нравственную основу сердца где-то еще, кроме как в тех душах, которые поддерживаются глубоким убеждением. Темнота плодовита на ужасы даже для сердечных людей, а что такое скептицизм, как не безграничная, вечная ночь? Что же мы скажем в конце концов? Признаем за скептиками ту странную нечувствительность54, с которой, по их уверениям, их окружает абсолютное сомнение; признаем за ними, что эта нечувствительность для них – блаженство. Но какой человек станет желать блаженства, которое по сути своей есть не что иное, как пустота небытия и покой могил?55
Одним словом, мир может быть только следствием уверенности, а уверенность – следствием уверенности.
Единственное средство освободиться от подобных противоречий – заметить, что скептики приняли за результат своей системы состояние ума, которое скорее является ее принципом и источником. Если исключить тех людей, у которых всеобщее сомнение является результатом необычайной остроты, которая во всем ищет причины, – людей, которые всегда представляют себе предметы только с одной стороны и умеют противопоставить каждой причине другую; Абсолютное сомнение у других возникает только как следствие сильного расслабления интеллекта, будь то злоупотребление удовольствиями, или истощение страстей, или уныние, вызванное слишком поверхностным изучением систем мнений и революций в философии. Если душу слишком долго тревожили неумеренные желания или честолюбивые идеи, она в конце концов впадает в некую моральную апатию, которая делает ее неспособной ни к каким усилиям. Связи, объединявшие ее мысли, разорваны; жизнь, оживлявшая ее способности, угасла; сила разума подавлена; смертельная тоска убаюкивает ее, и эта дремота кажется ей покоем. Отсюда следует, что абсолютный скептицизм возникает и распространяется главным образом в те века, когда нравы развращены, силы разума ослаблены, а полотно человеческих заблуждений полностью развернуто перед нашими глазами. Поэтому никакие доводы разума не действуют на скептика, так как принцип интеллектуальной деятельности в нем уничтожен или парализован. Скептицизм похож на страх. Как и страх, он неподвижен и не рассуждает. Скептик настолько боится ошибки, что не в состоянии взглянуть на истину, подобно тому как боязливый человек настолько одурманен страхом, что уже не может рассчитать источники помощи.
Большинство противников скептицизма обвиняют его в том, что он противоречит интересам как религиозных идей, так и морали. Но самое любопытное, что в последние столетия абсолютный скептицизм нашел своих самых сильных защитников среди последователей религиозных идей. Удивительно видеть, как великий Паскаль, как мы уже отмечали выше, протягивает руку помощи этому необычному предприятию. Люди, глубоко проникнутые религиозными чувствами, могли убедить себя, что они не могут настолько унизить человеческий разум, что они не могут настолько унизить человеческий разум, чтобы дать восторжествовать вере, которая была им дорога; они могли убедить себя, что если они лишат человека всякого естественного света, они тем более заставят его броситься в объятия веры. 56











