Читать онлайн Хроника
- Автор: Салимбене де Адам
- Жанр: Культурология
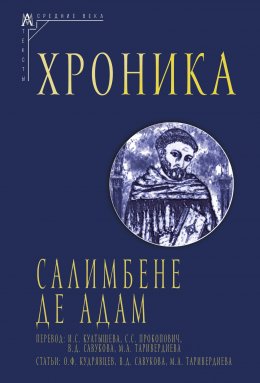
Эпохи. Средние века. Тексты
Salimbene de Adam
Cronica
Составитель: В.Д. Савукова
Научное редактирование: О.Ф. Кудрявцев
Сверка и литературное редактирование перевода: И.С. Култышева
© Савукова В.Д., сост., 2004
© Култышева И.С., Прокопович С.С., Савукова В.Д., Таривердиева М.А., перевод, 2004
© Гаспаров М.Л., Литвинова О.А., переводы стихов, 2004
© Кудрявцев О.Ф., Савукова В.Д., Таривердиева М.А., статьи, 2004
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2024
© «Гаудеамус», 2024
Предисловие ко второму изданию
Сейчас, по прошествии более чем двух десятилетий с момента выхода в свет «Хроники» Салимбене, хотелось бы многое уточнить из того, что было написано от редколлегии в Предисловии к первому ее изданию. И прежде всего с удовлетворением констатировать, что за это время наши медиевисты и все интересующиеся средневековыми штудиями получили в свое распоряжение много новых добротных переводов на русский язык памятников средневековой словесности и истории, а также научных исследований, им посвященных. Тем не менее и на фоне всех этих новых публикаций труд Салимбене, скромного монаха-францисканца XIII в., не потерял ни научной актуальности, ни познавательного интереса как широкое многоплановое полотно, полнее, чем любой другой современный ему источник, запечатлевшее облик эпохи – не только перипетии и события политической, социальной, церковной истории Италии и Европы высокого Средневековья, но и характерные черты миросозерцания людей этого времени, их психологию, верования, «предрассудки», если угодно. Похоже, Салимбене свою работу над «Хроникой» рассматривал как призвание, установленное свыше задание, иначе трудно понять, что могло его, заурядного представителя своего чина и сословия, не отмеченного особенными способностями, дарованиями и познаниями в науках, заставить взяться за столь масштабное предприятие и всеми силами стараться довести его до конца. Плодом подобного подвижничества – и монашеского, и писательского – стала «Хроника».
Когда возникла идея переложить «Хронику» Салимбене на русский язык, подлинного объема трудов, с этой задачей связанных, еще не представляли. Ибо перевод подобного весьма пространного сочинения, которое включает в себя большой ряд поэтических произведений, требовал детального и тщательного комментирования, позволяющего лучше понять его содержание и точнее передать его смысл. А также – снабжения этого текста справочными материалами и пояснительными статьями. Неслучайно в работе над русским изданием Салимбене принимали участие семь специалистов. Этот коллектив собрала и объединила общим делом Валентина Дмитриевна Савукова. Ученица С. И. Соболевского, приглашенная им в 1934 г. заниматься древними языками, она принадлежала к студентам-классикам первого набора, сформированного как только их изучение наряду с другими гуманитарными предметами было восстановлено. Валентина Дмитриевна продолжила дело своего прославленного учителя, и когда сама стала преподавать эти языки, и когда приступила к переводам с них исторических источников. До Салимбене ей была переведена на русский язык и опубликована в 1987 г. «История франков» Григория Турского.
Работа над переводом, комментированием и изданием «Хроники» Салимбене началась в 1991 г. и продолжалась более десяти лет. Основную ее тяжесть вынесла на себе Валентина Дмитриевна, изо дня в день все это время она трудилась над русским текстом «Хроники», сводя вместе свою часть перевода с фрагментами, подготовленными другими участниками проекта, ее коллегами. Чуждые современному человеку реалии средневековой жизни, институты, религиозные движения, установки сознания, а также особенности латинского языка той эпохи, семантические изменения в, казалось бы, хорошо известной лексике и неологизмы – все это и многое другое заставляло прилагать большие старания к тому, чтобы уточнять все нюансы произведения Салимбене и, в итоге, сделать его доступным и понятным на русском языке. Сейчас, когда хорошо виден результат, не может не вызывать восхищение ученое подвижничество внешне хрупкого, обремененного годами и болезнями человека, взвалившего на себя великий труд, который, несмотря ни на какие препоны, был им с неизменной верой в успех доведен до конца. Издание «Хроники» Салимбене в русском переводе – достойный памятник Валентине Дмитриевне Савуковой и всем тем, кто вместе с ней участвовал в его подготовке.
О. Ф. Кудрявцев
От редакционной коллегии
В России много больше писали о средневековье, чем издавали сохранившиеся свидетельства этой эпохи. И нетрудно догадаться почему: в отличие от, скажем, памятников ренессансной культуры, средневековые гораздо сложнее для восприятия и понимания современного человека, которому чужды не только их стиль и язык, но и отраженные в них принципы миросозерцания и ценностные ориентиры. Основные источники по античной истории и культуре переведены на русский язык, и значительная их часть неоднократно переиздавалась. У нашего читателя имеются немалые возможности для освоения духовного наследия эпохи Возрождения, и со временем они все больше умножаются. Нельзя сказать, чтобы памятники средних веков совсем не публиковались на русском языке, однако полные переводы крупных эпохальных вещей редки, до сих пор преобладают хрестоматии и антологии с тематически подобранными фрагментами. Целые пласты средневековой культуры – например, высокая и поздняя схоластика, церковно-учительная литература, правовая мысль XII–XIV вв. – недоступны для ознакомления на русском языке, хотя именно в них лучше всего и полнее всего отразился характер духовного уклада эпохи.
Цивилизация средних веков поэтому в целом ряде своих аспектов остается для нас terra incognita, к освоению ее по-настоящему мы еще только приступаем. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Шагом в этом направлении является публикуемая «Хроника» Салимбене из Пармы, которую благодаря исключительно богатому материалу по политической, социальной, церковной и культурной истории Италии и Европы XIII в. по праву можно назвать окном в мир средневековья.
Предлагаемая вниманию читателей русская публикация «Хроники» Салимбене является одним из первых полных переложений этого сочинения на новоевропейские языки. Выполнено оно по последнему изданию источника, выпущенному в свет Дж. Скалиа в 1966 г., и сверено с изданием, осуществленным О. Гольдер-Эггером в 1905–1913 гг. Русский перевод и составление научного комментария выполнены коллективом филологов: В. Д. Савукова – листы с 208а по 313d (с. 53–382) и с 488а по 491b (с. 886–895); М. А. Таривердиева – листы с 314а по 395а (с. 383–632); И. С. Култышева – листы с 395b по 434d (с. 633–759) и с 484b по 487d (с. 874–885); С. С. Прокопович – листы с 434d по 484b (с. 759–874). Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных случаев, сделаны М. Л. Гаспаровым (до листа 395а, с. 632), далее – O. A. Литвиновой. «Глоссарий» составлен М. А. Таривердиевой, «Именной указатель» и «Указатель географических названий» – И. С. Култышевой.
Большую помощь в подготовке настоящего издания оказали советами, консультациями, научной литературой В. А. Антонов, О. И. Варьяш, B. Л. Задворный, С. И. Лучицкая, Жак Поль (университет Экс-ан-Прованса), Р. В. Черкасов, о. Я. Сорока, возглавлявший миссию францисканцев конвентуальных в России (1993–1995 гг.), и о. Г. Церох, настоятель монастыря ордена францисканцев конвентуальных в Москве, которым участники настоящего издания выражают самую искреннюю признательность. Слова особой благодарности следует произнести в адрес нашего коллеги H. A. Никишина (Париж), оказавшего огромные услуги в разыскании и пересъемке отсутствующих в библиотеках Москвы исследований о «Хронике» Салимбене и текста самой «Хроники» в издании О. Гольдер-Эггера. На одном из этапов работы над русским переводом труда Салимбене материальную поддержку оказал Международный фонд «Культурная инициатива», которому также высказываем нашу признательность.
«Хроника» францисканца Салимбене де Адам: историописатель и время
О. Ф. Кудрявцев
Об авторе
В документах XIII в. сохранилось лишь одно упоминание о Салимбене[1]. Поэтому всем, что известно о нем, мы обязаны почти полностью его собственному историческому повествованию, в котором довольно часто по разным поводам он сообщал те или иные сведения о себе и своих близких[2].
Салимбене был третьим сыном в семье. Он появился на свет 9 октября 1221 г. в Парме[3]. При рождении получил имя Оньибене, которое много позже, будучи монахом, переменил на Салимбене – так его назвал один собрат-францисканец, последний из принятых в орден самим его основателем[4].
Отец Салимбене, Гвидо де Адам, происходил из зажиточной пармской фамилии де Адам, принадлежавшей к роду Гренони. Представители этого рода не числились среди высших должностных лиц Пармы, вместе с тем родственными узами они были связаны с могущественными и знатными семьями города и его округи. Их имущественное благосостояние основывалось на поступлениях от земельных владений[5], юридической практики и денежно-кредитных операций. Занятие таким низким, по представлениям феодального общества, делом, как ремесло финансиста, которое могло навлечь тяжелые обвинения в ростовщичестве, не мешало культивированию куртуазно-рыцарских идеалов. Предметом семейной гордости было участие Гвидо де Адам, отца Салимбене, в IV крестовом походе, позволившее ему, по некоторым догадкам, хорошо поживиться при разграблении Константинополя. В раздиравшей Италию борьбе Церкви (папы) и императора родные Салимбене держали сторону императора. Их политическая ориентация характерна для основной части пармской знати, а социальный тип, допускавший совмещение деятельности законника и судьи с рыцарской службой и – не больше и не меньше – с предпринимательством, очень показателен для верхушки городского сословия Центральной и Северной Италии.
Сызмала, едва ли не с колыбели, по словам самого Салимбене, он упорно занимался грамматикой[6], и эта тяга к учению сохранялась в нем всю жизнь. Среди родственников Салимбене было немало образованных людей, преимущественно юристов, а его дядя Герардо де Кассио славился познаниями в изящной словесности и даже составил пособие по искусству сочинения писем[7]. Подростком Салимбене стал свидетелем покаянно-религиозного движения, призывавшего к установлению в Италии мира, под названием «Аллилуйя» (1233 г.), которое, по-видимому, произвело на него сильное впечатление[8]. Ничего другого о его раннем религиозном развитии не известно.
В феврале 1238 г. Салимбене вместе со своим другом был принят новицием в орден францисканцев. Возможно, к этому его побудили пример его старшего сводного брата Гвидо и увещания Герарда из Модены, одного из главных участников движения «Аллилуйя», рекомендовавшего юношу генеральному министру ордена Илии Кортонскому, который в тот момент проездом находился в Парме[9]. Уход Салимбене в монастырь обрекал семью на исчезновение, лишая последнего потомка по мужской линии. Реакция отца на такое решение сына не могла не быть резкой, даже если Салимбене в описании ее сознательно пытался соотнести свой поступок с обстоятельствами ухода от мира почитаемого им св. Франциска[10]. Гвидо де Адам испросил у императора Фридриха II грамоту, в которой Илии Кортонскому было высказано пожеление вернуть родителю его чадо[11]. Однако Салимбене был непреклонен в своем решении, и отец в присутствиии монахов предал проклятию сына-ослушника[12]. По свидетельству Салимбене, отец собирался использовать с той же целью и авторитет папы Иннокентия IV, непримиримого противника императора. «Этого, как я полагаю, – замечает Салимбене, – папа не сделал бы. Может быть, ради утешения отца моего он дал бы мне епископство или какой-либо другой сан»[13].
Как бы то ни было, Салимбене остался тверд в своем решении и, дабы освободиться от постоянных попыток родни переубедить его, удалился в городок Фано (область Марке), где и провел год своего новициата. Здесь его наставником в богословии был брат Умиле из Милана[14]. В 1239 г., приняв постриг и выбрав Тосканскую провинцию францисканского ордена, Салимбене перебрался в Лукку, в которой пробыл два года, еще два – в Сиене, затем – до 1247 г. – в Пизе. В Лукке и Сиене он приобрел познания в музыке и церковном пении. Здесь, в Тоскане, Салимбене познакомился с богословскими трудами и пророчествами Иоахима Флорского (1132–1201) через Уго де Диня (de Digne), «великого иоахимита, имевшего все книги аббата Иоахима, переписанные маюскулами», и Рудольфа из Саксонии, «великого логика, богослова и диалектика (disputator)»[15]. Приверженцем иоахимитского учения Салимбене оставался, по собственному его признанию, до 1260 г. В годы пребывания в Тоскане Салимбене был поставлен в субдиаконы, а затем в диаконы.
На короткое время в 1247 г. Салимбене вернулся в Кремону и родную ему Парму (к этому времени отца его, по-видимому, уже не было в живых), перешедшую на сторону противников императора Фридриха II. Ее осада императорскими войсками вынудила Салимбене бежать к укрывшемуся во французском городе Лионе папе Иннокентию IV. В 1247–1248 гг. Салимбене много путешествовал по Франции, наведывался в Лион, Вильфранш, Труа, Париж, Санс, Осер, Арль, Марсель, Йер, Экс, Тараскон, Ниццу. На юге Франции, где в тот момент довольно широко распространился иоахимизм, он тесно общался с приверженцами Иохима Иоанном из Борго Сан-Доннино (теперь: Фиденца) и хорошо известным ему еще прежде Уго де Динем; во Франции же он имел возможность встретить францисканца Иоанна да Плано Карпини, возвращавшегося из посольства на восток – в ставку повелителя татар, и ознакомиться с его материалами[16]; тогда же он стал свидетелем посещения собиравшимся в крестовый поход королем Людовиком IX провинциального капитула в Сансе[17]. Папа Иннокентий IV еще в 1247 г. даровал Салимбене право выступать с проповедями (predicationis offitium)[18], которым, однако, он, по-видимому, не пользовался, пока в 1248 г. то же самое после должной экзаменовки ему не дозволил генеральный министр ордена Иоанн Пармский[19]. В конце 1248 г. в Генуе Салимбене был рукоположен в священники.
В начале 1249 г. Салимбене отправился в новое путешествие по Франции, впрочем, быстро закончившееся: в Лионе при папском дворе он повстречал своего непосредственного орденского начальника, провинциального министра Болоньи, который, раздосадованный, что его подопечный, посланный во Францию для учебы, долгое время скитался, занимаясь совсем другими делами, обязал его вернуться в Болонью[20]. Салимбене был вынужден подчиниться.
Из Болоньи Салимбене в скором времени был переведен во францисканский монастырь Феррары; в нем он провел семь лет, с 1249 по 1256 г. Известно, что в 1258 г. Салимбене находился в Модене, затем целый год – 1259 – провел в Борго Сан-Доннино, в 1260 г. – снова в Модене (отсюда он сопровождал группу жителей Сассуоло, участвовавших в движении флагеллантов, до Реджо и Пармы), наконец, в 1261 г. перебрался в Болонью.
Как складывалось его пребывание в Романье, не вполне ясно. Он пишет, что пять лет жил в Фаэнце, другие пять – в Имоле, еще пять – в Равенне[21]; однако было ли его пребывание в каждом из этих городов непрерывным? Скорее всего, нет, ибо в 1264 г. он находился в Равенне, Ардженто, Ферраре, в 1265 г., имея местопребыванием монастырь в Фаэнце, отправился в паломничество в Ассизи, к гробнице основателя свего ордена, в 1266 г. посетил Парму и Равенну, в 1268 и 1269 гг. пребывал в Равенне, в 1270 г. – в Имоле, в 1273 г. был свидетелем осады болонцами г. Форли, тогда же наведывался в Равенну и Фаэнцу, в которой оставался до осени 1274 г.
В 1276 или 1277 г. Салимбене находился в болонской провинции, где встретил своих собратьев-францисканцев, возвращавшихся из посольства папы Иоанна XXI к татарам[22], в 1279 г. стал свидетелем страшного землетрясения в Марке[23]; и все же, где именно он жил в эти годы, установить невозможно. По предположению Б. Шмейдлера, принятому другими историками[24], с конца 1279 или с начала 1280 г. и до середины 1285 г. Салимбене находился в Реджо, откуда выезжал в 1284 г. на несколько месяцев в Парму.
В последние месяцы 1285 г. Салимбене перебрался в монастырь Монтефальконе, расположенный в округе Реджо. Мнение Б. Шмейдлера о том, что после 8 сентября 1287 г. Салимбене покинул Монтефальконе, ничем, как было показано Н. Шиволетто, не подтверждается[25]. Место и время смерти Салимбене не известны, но в 1288 г. он был еще жив и продолжал работу над своей «Хроникой».
Литературные труды Салимбене
Салимбене был довольно плодовитым писателем. Помимо известной нам «Хроники», его перу принадлежал еще ряд сочинений. Однако те из них, которые не были включены так или иначе в текст этой «Хроники», до нас не дошли.
По-видимому, наиболее ранней работой была небольшая хроника, обозначенная Салимбене в разных местах его основного труда по-разному: «Двенадцать злодеяний Фридриха», «другая хроника», «другая более краткая хроника»[26]. Тему «суеверий, странностей, злоречивости, недоверчивости, извращенности и непотребств» императора[27] Салимбене часто поднимает во многих местах известной нам «Хроники»[28], и это позволяет судить о содержании «другой более краткой хроники». Некоторые исследователи на том основании, что Флавио Бьондо (1392–1463) в «Исторических декадах» (Historiarum decades) приводит сведения о Фридрихе II, отсутствующие в основной «Хронике» Салимбене, и при этом ссылается на некого «пармского богослова», полагают, будто историку-гуманисту XV в. была известна не дошедшая до наших дней более ранняя хроника францисканского монаха[29].
Еще одной работой Салимбене исторического плана была хроника, к которой он приступил в период пребывания в Ферраре и которая начиналась с правления Октавиана Августа. Материал для нее брался из различных источников (ex diversis scriptis). Дойдя до лангобардских времен, Салимбене должен был прекратить работу над ней по причине нехватки писчего материала[30].
По ходу повествования Салимбене неоднократно говорит о «других хрониках» или о «многих других хрониках, которые мы [т. е. он, Салимбене. – O. К.] написали, издали и исправили»[31]; скорее всего, о них же идет речь в другом контексте – когда Салимбене упоминает свои сочинения, трактующие предсказания Иоахима Флорского об образовании францисканского и доминиканского орденов[32]. В одном месте, рассуждая по поводу тринитарно-догматических расхождений между Иоахимом Флорским и Петром Ломбардским, он уточняет, что на сей предмет подробнее писал в другой краткой хронике – «о подобии и примерах, о знамениях и прообразах и о тайнах Ветхого и Нового Заветов»[33]. По признанию Салимбене, различные хроники (diversas cronicas) сочинил он для своей племянницы Агнессы, дочери его брата, вступившей в монастырь Св. Клары, и, дабы она могла их уразуметь, он «пользовался простым и понятным слогом» (simplici et intelligibili stilo)[34].
Несколько своих сочинений Салимбене называет трактатами. Один из них – «Трактат о Елисее»[35] – был, по-видимому, написан в связи с предпринятым Салимбене переносом останков пророка из Равенны во францисканский монастырь Пармы[36]. Другой – «Трактат о папе Григории X»[37] – мог быть, по предположению Б. Шмейдлера, вставлен Салимбене в текст какого-то более крупного его произведения[38].
В числе сочинений Салимбене было, по крайней мере, одно стихотворное – «Книга досад» (Liber Tediorum)[39], которую он написал в 1259 г. в Борго Сан-Доннино, подражая Джирардо Патеккьо, кремонскому нотарию и поэту-публицисту, творившему (между 1228 и 1253 гг.) на народном языке. Неизвестно, правда, на каком языке было составлено произведение Салимбене и какие конкретные темы затронуты в нем, хотя комментарии в «Хронике» к отдельным стихам Патеккьо позволяют угадать общие мотивы в поэтическом творчестве того и другого[40].
Некоторые сочинения Салимбене сохранились благодаря их включению в состав «Хроники». Так обстояло дело с трактатом против апостольских братьев[41], а равно и с составленной для племянницы генеалогией семьи[42], которые в слегка измененном виде вошли в основной труд Салимбене. Совершенно самостоятельной и плохо вписывающейся в «Хронику» является пространная «Книга о прелате»[43], четко обозначенная своим собственным началом и завершением.
«Хроника»: история текста
«Хроника» венчает собой все творчество Салимбене. В ее тематике и композиции нашло отражение то, что было написано автором прежде. Более того, в ней он действительно опирался на свои более ранние труды, отсылая к ним читателя и тем самым, как очевидно, предполагая, что эти сочинения известны или, по крайней мере, доступны ему[44].
Конкретный адресат «Хроники» неизвестен. В одном, правда, месте Салимбене заметил: «Я же при написании различных хроник [надо полагать, в их числе он имел в виду и свою главную «Хронику». – O. К.] пользовался простым и понятным слогом, дабы моя племянница, для которой я писал, могла уразуметь то, что читает»[45]. В другом месте Салимбене ссылается на настояние многих («многие просили меня») как на причину того, что он вынужден вернуться к пропущенной им теме[46]. Это могло означать, что были люди, с которыми он обсуждал части произведения по мере их завершения. Вероятнее всего, Салимбене советовался со своими собратьями-францисканцами, которым, судя по идейной направленности произведения, он его и предназначал.
«Хроника» дошла до нас не полностью. В единственной известной ее рукописи, выполненной, правленной и пронумерованной самим Салимбене[47], недостает огромной части текста – от трети до двух пятых всего объема «Хроники». Отсутствует ее начало, в рукописи листы 1–207; в центральной части, лучше всего сохранившейся (листы с 208 по 491) также не хватает отдельных фрагментов; наконец, отсутствует окончание работы, точные размеры его установить невозможно, хотя сам Салимбене ссылается на лист 526[48], а это означает, что было еще не менее 40 листов.
«Хронику» Салимбене создавал на закате своих дней. Работа над ней началась не позже 1283 г., а завершена была не ранее 1288 г.[49] Писал он ее, не всегда последовательно переходя от года к году. Компоновка материала могла быть произвольной, так что о событиях более поздних упоминается иногда раньше, чем о тех, которые им предшествовали. В результате заметна частая несогласованность в подаче информации. Так, Салимбене сообщал о смерти короля Педро Арагонского прежде, чем о войне против него французского короля Филиппа II, исход которой, по его словам, «пока неизвестен»[50]. В иных случаях он возвращался к подготовленному уже тексту, редактировал его, дополнял, снабжал авторскими ремарками.
Впрочем, работа над текстом «Хроники» продолжалась и после Салимбене. Ее читали, скорее всего, братья-францисканцы, делали на ней пометки, даже вычеркивали кое-что, например, отрывок, который мог вызвать неудовольствие семейства д’Эсте[51]. В XV в. «Хроника» Салимбене была доступна Флавио Бьондо. В 1501 г. ею пользовался один францисканец, возможно, обсервант Симоне да Реджо[52]. В XVI–XVII вв., после того как рукопись «Хроники» покинула библиотеку францисканцев, она переходила от одного владельца к другому (Гримани, Савелли, Сан-Витале, Конти). Упоминания о ней с очень короткими выдержками из текста имеются в трудах немногих эрудитов XVI в. (Онофрио Панвивио, Карло Сигонио, Франсиско де Пенья)[53]. Однако первое внимательное ознакомление с «Хроникой» Салимбене состоялось только в середине XVIII в. благодаря о. Хосе Торрубиа. С этого времени началось ее копирование, которое сопровождалось порой порчей некоторых мест рукописи. В 1786 г. автограф «Хроники» был передан за вознаграждение в Ватиканскую библиотеку, где и хранится по настоящее время[54].
«Хроника»: источники
В своей «Хронике» Салимбене использовал в большом объеме сочинения предшественников. Основным источником для Салимбене в описании событий до 1212 г. явилась «Хроника» Сикарда, епископа Кремонского (избран в 1185 г., умер в 1215 г.). В дальнейшем изложении материала с 1212 по 1280 г. он опирался на другую хронику – «Книгу о временах и летах» (Liber de temporibus et aetatibus), автором которой считался Альберто Милиоли, нотарий, составитель частных документов, а также картуляриев и статутов коммуны Реджо, будто бы находившийся с Салимбене в дружеских отношениях и обменивавшийся с ним литературными трудами. Не случайно поэтому, начиная с 1281 г. уже Милиоли заимствовал из «Хроники» Салимбене для своего сочинения[55]. Правда, в целом ряде специальных текстологических изысканий было показано, что Милиоли исполнял роль лишь простого переписчика, самое большее, сводившего воедино по заданию коммуны различные источники с полным пренебрежением к их содержанию, что труд Салимбене был использован не только для продолжения «Книги о временах и летах» после 1281 г., но и для внесения поправок в ее материалы, относящиеся к более ранним периодам, что, наконец, Салимбене в своем повествовании мог опираться не обязательно на «Книгу о временах и летах», но и на те источники, которые были положены в ее основу[56]. Вполне вероятно, Салимбене видел коммунальную хронику Реджо еще до того, как она была завершена, а также «Книгу равеннских архиепископов» (Liber pontificalis) Аньелло из Равенны и «Золотую легенду» Иакова Ворагинского[57]. Из исторических трудов, кроме названных выше, он использовал также «Историю для школяров» (Historia scholastica) Петра Коместора, «Историю лангобардов» Павла Диакона, «Хронику» своего современника доминиканца Мартина из Троппау (ум. в 1278 г.) и утраченные анналы Пармы[58]. Салимбене довольно часто ссылался на жития святых, приводил документы своей эпохи, из большого числа которых стоит упомянуть послание татарского хана папе Иннокентию IV, буллу этого папы, освобождающую подданных императора от верности ему, письма генерального министра францисканцев Иоанна Пармского, архиепископа равеннского Филиппа, германского короля Рудольфа. В порядке вещей и то, что Салимбене активно привлекал официальные бумаги своего ордена, его статуты, переписку, жития св. Франциска[59].
Однако помимо этих и еще многих других письменных источников, Салимбене в созданной им «Хронике» запечатлел свой собственный жизненный опыт, свои впечатления от событий и явлений, свидетелем или участником которых он был, а равно наблюдения и сообщения людей, ему знакомых или как-то известных.
«Хроника»: жанр и авторское «я»
Слово «Хроника» в качестве названия главного произведения Салимбене не вполне передает его жанр. Еще Б. Шмейдлер заметил, что оно не есть в строгом смысле ни хроника всеобщая, ни локальная, ни епископская, ни историческое повествование, ни моральный трактат, но – некое соединение и смешение (mixtum quodammodo et compositum) всего этого[60]. Очевидны как справедливость, так и недостаточность подобного определения немецкого исследователя. Действительно, материал в труде Салимбене как в хронике расположен по годам, и, описывая более ранние времена, – а сохранившаяся часть произведения начинается с 1168 г. – Салимбене пытался дать широкую панораму событий, затем, однако, сосредоточил основное внимание на том, что происходило в областях его преимущественного пребывания – Эмилии, Южной Ломбардии и Романье (Парме, Реджо, Модене, в меньшей мере Кремоне, Ферраре, Равенне); поэтому произведение его имеет одновременно черты хроники и всеобщей, и локальной, причем ее характер можно еще уточнить – хроника францисканского ордена. Много в нем и отступлений с целями религиозно-нравственного назидания. Однако всем этим не исчерпывается жанровое своеобразие «Хроники» Салимбене, ибо автобиографические пассажи и свидетельство собственными наблюдениями сближают ее с произведениями мемуарной литературы, на что справедливо обратили внимание М. П. Бицилли и Ж. Поль[61].
Не стоит, впрочем, преувеличивать ни автобиографизма, ни мемуарности «Хроники» Салимбене. Ведь не в рассказе о себе и своей судьбе состояла цель произведения. Да и в каких мемуарах возможно было бы, чтобы начинались они задолго до рождения их автора, который, к тому же, говорил бы о своей жизни очень скупо, подчас не находя даже нужным уточнить, где он бывал и что делал в те или иные периоды своей жизни? Чтобы вести речь о себе, человек Средних веков должен был иметь какие-то очень веские основания, оправдывающие его; ибо говорить о своей персоне без серьезного к тому повода, по его понятиям, означало бы впасть в грех гордыни. А Салимбене был человеком своего времени, причем типичным человеком, для которого отдельная, даже собственная, личность как таковая не считалась объектом, достойным внимания и изучения, не обладала самоценностью в своих индивидуальных проявлениях.
Салимбене, по верному замечанию П. М. Бицилли, «не имел в виду писать своей автобиографии, ни целиком, ни частью». Русский историк хорошо показал, как к рассказу о себе францисканский хронист пришел почти случайно, в связи с упоминанием о гибели его двоюродного дяди в заметках, посвященных поражению в 1229 г. пармской коммуны от болонцев. Это упоминание дало ему повод сообщить о своей родне, а затем и кое-какие детали своего прошлого[62]. Показательно, что, закончив родословную, Салимбене не почел за лишнее объясниться и указать, что составление ее не входило в его намерения[63]; и все же он принялся за нее, найдя пять причин, оправдывающих его: во‑первых, его просила об этом его племянница Агнесса, которая, и это во‑вторых, теперь будет знать, за кого ей надо молиться; в‑третьих, он следовал обычаю древних, приводивших, как видно по Ветхому Завету, свои генеалогии; в‑четвертых, составление генеалогии позволило ему сообщить какие-то хорошие и полезные вещи (aliqua bona et utilia), о коих он не имел бы случая сказать; наконец, в‑пятых, из приведенного обозрения родни можно извлечь поучение о том, что все люди смертны и что все на свете суета[64].
Итак, внимание к истории своего рода потребовало от Салимбене обоснования. Разрозненные же автобиографические заметки не сложились у него в целостное повествование о себе. По-видимому, в таком повествовании не было настоятельной необходимости. Ибо, если воспользоваться рассуждением Данте, высказавшим двумя десятилетиями позже в трактате «Пир» характерную для всего Средневековья точку зрения на автобиографию, она была допустима в двух случаях: во‑первых, с целью «избежать великого позора или опасности», то есть рассказом о самом себе спасти свою репутацию и восстановить справедливость, или же, во‑вторых, примером своей жизни дать людям душеспасительное наставление[65]. Салимбене не нужно было обелять себя, а нравоучительным задачам служила вся его «Хроника». Смысл кратких автобиографических сообщений в другом. Ссылками на свое присутствие в таком-то месте, а равно и на наблюдение за происходившим там Салимбене ручался за точность описываемого, ибо, подобно другим средневековым хронистам, он придавал особенно большое значение личному восприятию. Он заговаривал о себе как бы потому, что этого требовал сам предмет повествования; авторское очевидство должно было удостоверить истинность излагаемого. «Именно необходимость придать изложению мемуарный характер, – по наблюдению П. М. Бицилли, – открыла ему, так сказать, дверь для автобиографического элемента, и последний вторгается в его хронику в гораздо большей степени, чем это было нужно»[66]. Словом, автобиографичность, заметная в некоторых частях «Хроники», начиная с 1229 г. является прежде всего приемом историописания, которым Салимбене, возможно, несколько «злоупотребил», но который отнюдь не был чужд и другим средневековым хронистам.
Салимбене-историк
Постоянное обращение Салимбене к себе как к свидетелю многого из того, что описано в «Хронике», поднимало ее ценность и придавало ей исключительный авторитет в качестве исторического источника. Заявление хрониста «предпочитаю верить только тому, что вижу»[67], сделанное им с подчеркнутой категоричностью в связи с разочарованием в иоахимизме, воспринималось как его «credo» историописателя и, соответственно, как своего рода авторское ручательство высокой надежности сообщаемых сведений. И действительно, в десяти процентах случаев Салимбене говорит о предметах, которые он наблюдал сам: так, он видел и читал текст выступления Иннокентия III на Латеранском соборе (1215 г.); видел серебряную модель города Пармы, которую ее обитательницы как дар по обету поднесли Богоматери с целью получить от нее защиту города во время осады его императором в 1247–1248 гг.; видел зверинец Фридриха II, а также корону этого императора, утраченную им в результате поражения под Пармой; видел у Иоанна да Плано Карпини деревянный кубок, направленный татарским ханом в дар Людовику Святому[68], и ряд других интересных вещей. В среднем каждого второго из многочисленных лиц, упомянутых в «Хронике», Салимбене мог лицезреть сам, причем процентов пятнадцать из них – люди, игравшие в жизни XIII в. заметную роль и хорошо известные по другим источникам, как то: император Фридрих II, французский король Людовик Святой, папа Иннокентий IV, маркиз д’Эсте, папские легаты, подестà итальянских городов, генеральные министры францисканского ордена. В пятнадцати процентах случаев он был непосредственным свидетелем описываемых им событий[69]. Казалось бы, цифры впечатляющие, они должны говорить о солидности и надежности «Хроники», о достоверности содержащихся в ней сведений. Однако, как убедительно показывает Ж. Поль, личный опыт Салимбене на самом деле не столь богат, он вторичен и не имеет большого значения. Действительно, спрашивает французский историк, что из того, что Салимбене «видел императора шествующим по улице?» В большинстве случаев Салимбене мог наблюдать лишь отдельные фрагменты событий и явлений, поле зрения его в качестве частного лица было весьма ограничено[70]. Он предпочитал рассказывать о тех вещах, которые видел, и при этом преувеличивал их значение, подробно освещал то, что, на его взгляд, было наиболее примечательным, например, движение «Аллилуйя», восстание в Парме против императора в 1247 г., события «рокового», по пророчествам иоахимитов, 1260 г. Соответственно, многие бесспорно важные события оказались в тени или полностью проигнорированы. По мнению Ж. Поля, Салимбене преувеличил значение прежде всего тех лиц и явлений, которые играли существенную роль в иоахимитской интерпретации истории[71]. Невозможно поэтому не замечать влияния идеологических установок автора на отбор и подачу материала, преломления в рассказе о событиях, удостоверенных личными восприятиями, определенной концепции исторического процесса. Большой интерес проявлял Салимбене к императору Фридриху II, в котором иоахимиты усматривали мистического антихриста и со смертью которого, предрекаемой в 1260 г., связывали наступление новой эпохи. Преждевременная кончина Фридриха II в 1250 г. как будто бы заставила Салимбене разочароваться в иоахимизме[72], однако не отбила у него охоту к свойственному этому учению почти магическому восприятию текстов Священного Писания, к пророчествам и мистическим ожиданиям, что сильнее всего проявилось, например, во взгляде на события 1260 г. и начавшееся тогда движение флагеллантов[73].
При анализе историографических особенностей «Хроники» следует учитывать, что доля авторского участия Салимбене в различных частях сохранившегося текста неодинакова. Ее начало, повествование до 1212 г., представляет собой хронику Сикарда Кремонского с незначительными добавлениями Салимбене. Затем в разделах до 1281 г. роль Салимбене как автора резко возрастает, и эту часть «Хроники» вполне можно считать его самостоятельным трудом, хотя и написанным на основе «Книги о временах и летах» Альберта Милиоли или каких-то других близких к ней источников. Наконец, полностью принадлежащим Салимбене и ни в коей мере не производным от других сочинений является заключительный раздел «Хроники», посвященный 1281–1287 гг.[74]
К материалу чужих сочинений, которые использованы в «Хронике», Салимбене относился критически. Поясняя характер работы с подобного рода источниками, он писал о том, что ему придется «приводить их в порядок, улучшать, дополнять, сокращать и излагать хорошо грамматически (gramaticam bonam ponere), когда это будет необходимо, как мы уже сделали – и это ясно видно – выше, во многих местах этой хроники, где мы обнаружили множество ошибок и неточностей: некоторые из них были внесены переписчиками, делавшими много ошибок, а другие были допущены первыми сочинителями. Те, кто добавлял что-нибудь после них, в простоте душевной следовали им, не размышляя, правильно те сказали или нет. И так они поступали, то ли чтобы избежать трудов (propter laborem vitandum), то ли, возможно, потому, что не были сведущи в историописании»[75]. Словом, Салимбене брался исправлять ошибки, неточности, даже грамматические огрехи своих предшественников, замечая, между прочим, что для работы над историческим сочинением потребны особые навыки (peritia). Какие именно, он специально не уточнял. Однако о принципах, которые должны быть положены в основу историописания, и о том, как нужно строить изложение материала, он высказывался не раз.
Так, по признанию Салимбене, сам он добивался в историческом повествовании только правдивости и «не заботился о словесном украшении»[76], хотя, как явствует из приведенного ранее его заявления, он не гнушался заниматься литературной обработкой чужих сочинений, писанных слогом «неотделанным, грубым, тяжелым и косноязычным»[77]. О том, как это стремление к исторической истине могло выражаться в «Хронике», позволяет судить фрагмент, повествующий о морской битве между пизанцами и генуэзцами 1284 г., по поводу исхода которой Салимбене сделал следующую оговорку: «Число пленных и убитых из обоих городов я привести не пожелал, потому что сообщали об этом по-разному. Правда, архиепископ Пизанский в письме епископу Болонскому, своему родному брату, назвал некое число, но я его тоже привести не захотел, потому что поджидал братьев-миноритов из Генуи и Пизы, ибо они точнее всех могут назвать мне это число»[78]. Здесь налицо осторожный, критический подход к различным данным военных потерь, приводившимся, по-видимому, заинтересованными сторонами (представителем такой стороны, несомненно, был архиепископ Пизанский), а равно желание опереться на более достоверные оценки, с которыми могли выступить не связанные ни с одной из них и, следовательно, беспристрастные наблюдатели – францисканцы. Беспристрастность, или, если воспользоваться принятым в нынешнем историографическом обиходе термином, «объективность», так же как и правдивость, полагались Салимбене обязательными для историка, который, словно пушкинский Пимен-летописец, «добру и злу внимая равнодушно, ни ведая ни жалости, ни гнева», обязан без утайки фиксировать все, что попадает в поле его зрения. «Также в этом году случилось много такого, что (увы!) не достойно рассказа, однако не должно и замалчиваться», – эти слова, исполненные смиренной готовности все принять и доложить, а равно и отречения от личных пристрастий, предваряли сообщение о разгроме сына Карла Анжуйского – а сам Салимбене, несомненно, сочувствовал анжуйцам – в морском сражении силами Педро Арагонского[79]. Следование этому же принципу Салимбене декларировал и применительно к характеристике выводимых им на страницах своей «Хроники» персонажей: «Историк должен быть лицом беспристрастным и не описывать только дурные дела какого-нибудь человека, умалчивая о хороших»[80]. И действительно, в целом ряде случаев Салимбене давал неоднозначные оценки изображаемым им лицам, считая уместным показывать их с разных сторон. О монахе Герардине из Борго Сан-Доннино, сочинившем в иоахимитском духе трактат о грядущем обновлении христианской религии, запрещенный папой и сожженный по настоянию самого Салимбене, хронист все же, имея в виду его человеческие качества, отозвался с симпатией: ибо, хотя этот брат Герардин и сочинил порочную и опасную книжонку (libellum), «имел он в себе много хорошего», «был человеком дружелюбным, любезным, щедрым, набожным» и т. п.[81] Так же поступил Салимбене и в отношении Манфреда, незаконнорожденного сына Фридриха II, упомянув среди прочих и о его «хороших качествах». И даже о самом Фридрихе II, к которому Салимбене в качестве стойкого приверженца партии Церкви в ее борьбе с Империей не мог не относиться враждебно, он то и дело отзывался уважительно, целое рассуждение посвятив «благим и положительным качествам» императора[82]. И все же беспристрастность Салимбене как хрониста ни в коем случае не стоит преувеличивать. У него была своя позиция, и, отстаивая ее, он умел, как ему нужно было, представить тех или иных персонажей, изображая в основном в невыгодном свете, например, того же Фридриха II и других представителей его династии, смещенного генерального министра францисканцев Илию, так называемых «апостольских братьев» и уж тем более тех, кто не выказывал, как считал Салимбене, должного уважения к нищенствующей братии. О почившем реджийском епископе Гульельме да Фолиано он написал так: «Ничего он не оставил монахам, ни братьям-миноритам, ни проповедникам… Он был похоронен в кафедральном соборе… На самом деле он заслуживал погребения в навозной куче»[83].
Салимбене писал не без плана, в его труде есть известный порядок и определенная последовательность. Этот порядок ему был навязан сочинениями Сикарда и Милиоли (или реджийской хроникой), следуя которым он должен был держаться хронологического принципа повествования. Правда, хронологический принцип, сковывавший автора, чем дальше по ходу его работы, тем больше нарушался, ибо сам материал очень часто требовал не погодного, но тематически компактного расположения. Салимбене чувствовал возникавшие из-за этого несообразности и должен был оправдываться, объясняя принятый им за основу порядок изложения как тем, что в нем отражается происходящее во времени течение событий и получение о них известий, так и подражанием примеру Моисея в качестве автора библейского Пятикнижия: «Если кто-либо меня спросит, почему я не поведал о татарах все за один раз, я отвечу, что, в какой последовательности те или иные события происходили или я о них узнавал, в той же и надлежало мне их описывать: какие-то отнести к одному году, какие-то к другому, в том порядке, в каком они происходили и могли до меня дойти. Так поступил и Моисей в своих книгах, ибо он изложил все, что касается жертвоприношений и обетов, не за один раз, а в том порядке, в каком слышал от Господа, перемежая свое повествование другими историями»[84].
Однако Салимбене мало удавалось следование раз установленному плану, хронологический способ подачи материала мешал полноценной разработке тех или иных сюжетов и поэтому как нечто чуждое и внешнее им разрывался, а то и просто на время отбрасывался[85]. Так, сообщив под 1198 г. об избрании папы Иннокентия III, Салимбене вскоре упомянул о его борьбе с альбигойской ересью, о созванном им в 1215 г. вселенском соборе, об отношениях с императорами, а затем перешел незаметно для самого себя к борьбе Империи и папства уже при Григории IX (1227–1241) и Иннокентии IV (1243–1254) и к низложению Гогенштауфенов; только завершив тему, Салимбене увидел, что слишком увлекся, и, обрывая себя, заметил читателю перед тем, как вернуться к событиям следующего по порядку 1199 г.: «Имей в виду, что приведенные выше слова о Фридрихе [II. – O. К.], папе Григории [IX. – O. К.] и Иннокентии IV сказаны наперед (per anticipationem) и как бы для заключения»[86].
После таких забеганий вперед или длинных отступлений, которые в иных случаях можно рассматривать в качестве самостоятельных трактатов, вставленных в «Хронику», Салимбене возвращался к принятому им принципу изложения, восстанавливая хронологическую последовательность событий. Например, по окончании долгого рассказа о своей родословной, отце, самом себе Салимбене считал нужным заявить: «Теперь вернемся к порядку и ходу истории и нашего повествования и начнем с того места, где остановились. Итак, выше мы сказали о том, что в лето от Воплощения Господня 1229…»[87] Большой ряд примеров такого рода возвращения к исходному материалу (ad pristinam materiam) дан у П. М. Бицилли[88].
Салимбене сознавал, что отступления нарушали принятый порядок, однако жертвовать ими не хотел и не вымарывал их из текста «Хроники», хотя и замечал, что появляются они «вопреки нашему намерению» (preter intentionem nostram)[89]. Он увлекался какой-нибудь темой и позволял себе порассуждать о ней вволю очень часто с ущербом для хронологии, соблюдать которую как раз и составляло его намерение. Впрочем, этой своей слабости к отступлениям он даже подыскал троякое извинение: «Во-первых, поскольку вопреки нашему намерению нам встречается материал, который мы, если не хотим поступиться совестью, никоим образом не можем обойти молчанием, ибо, как сказано (Ин. 3, 8), “дух дышит, где хочет” и “человек не властен над духом” (Еккл. 8, 8). Во-вторых, мы всегда повествуем о вещах хороших, полезных и достойных того, чтобы о них сообщить, которые для истории могут иметь большую ценность. В-третьих, потому что после мы благополучно возвращаемся к начатому предмету и вследствие этого ничем не нарушаем правдивость исходного повествования»[90]. Ссылка на евангельские слова «дух дышит, где хочет» есть, в сущности, оправдание творческой свободы и – в порядке ее проявления – нарушения рационально установленных и положенных как нормативные самим же Салимбене правил, равно как и ссылка на то, что все эти «хорошие, полезные и достойные вещи» сами по себе заслуживают внимания. Этим признается самоценность авторских отступлений, которые не обязательно должны быть обусловлены целями исторического повествования.
Пособие для проповедников
В свое время П. М. Бицилли очень хорошо объяснил некоторые особенности «Хроники», в частности, широко в ней представленные авторские отступления[91], ее связью с религиозно-назидательной литературой и с деятельностью самого Салимбене в качестве проповедника[92]. Если тот или иной эпизод мог быть использован как нравоучительный пример, то для Салимбене это уже было достаточным основанием, чтобы его вставить в «Хронику», пусть даже он не имел никакого отношения к главному предмету повествования. Как пояснял П. М. Бицилли, для проповедника исторический факт ценен сам по себе независимо от своей связи с другими[93]. И, сообщая о нем, он заботился уже не столько о фиксировании исторической последовательности событий, сколько о моральном воздействии на слушателей или читателей. Рассказ об одном примечательном случае из жизни своего собрата-францисканца, известнейшего проповедника Бертольда Регенсбургского (ок. 1210–1272), Салимбене заключил словами: «Этот пример наилучшим образом подходит для обращения грешников»[94].
В «Хронике» собрано много подобного рода «примеров» (exempla), годных для использования в проповедях[95]. К их числу можно отнести не только исторические события, но и анекдоты житейского характера, рассказы о необычных и чудесных происшествиях, видениях, явлениях трансцендентного мира, а также собственные переживания, сомнения и размышления автора «Хроники». Разумеется, далеко не все они могли претендовать на фактическую достоверность, и все же Салимбене не поколебался их вставить в свое повествование. Дело здесь не в «безразличном отношении к исторической истине», о котором писал П. М. Бицилли[96], а в том, что истина эта не сводилась исключительно к фактической, объективно установленной действительности события, но подразумевала более высокую цель – открыть человеку путь к спасению души. Именно в этом должен был видеть свою главную задачу проповедник, даже если он обращался к историческому материалу. Поэтому нельзя не согласиться с другим утверждением русского историка о том, что «проповедничество сильно отразилось на Салимбене как историографе»[97].
Для «потребы проповедника»[98] Салимбене заготавливал не только разнообразные «примеры», но и своды цитат из авторитетных источников, годных дать подходящие темы для проповедей на разные случаи. Подобрав восемь текстов о необычайных природных явлениях, он счел необходимым пояснить: «Я привел так много высказываний (auctoritates) из Священного Писания, потому что то и дело происходят и солнечные, и лунные затмения, и землетрясения, и если кому-нибудь доведется проповедовать, и у него не окажется тотчас под рукой тем (themata) на данный предмет, то он попадет в затруднительное положение»[99]. Основная часть «высказываний» бралась Салимбене, как и другими проповедниками эпохи, из книг Ветхого и Нового Заветов[100].
Тяготение Салимбене к проповедническому жанру в полной мере обнаруживается в многочисленных отступлениях нравственно-поучительного характера, далеко уводящих от исходного сюжета и в большом ряде случаев представляющих собой наброски проповедей, а подчас и целые проповеди, отделанные и построенные по всем правилам[101]. В рассказ о том, что приключилось с францисканским орденом в правление Илии, Салимбене вставил пространное рассуждение, открывающееся, как и полагалось в проповеди, темой, взятой из Псалтири (49, 15), «призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» и продолженное «конкорданциями», которые призваны были подтвердить единогласие с ней других авторитетных текстов. Далее давались по пунктам примеры тех, которые «призывали» Господа. Отдельные пункты могли, в свою очередь, подвергнуться делению и уточнению. Главный мотив избранной темы, в данном тексте «призвание» Господа, повторялся в приводимых Салимбене цитатах несколько раз[102].
В жанре проповеди выдержано в «Хронике» и слово о патриархе Антиохийском. Салимбене выделяет главное свойство его характера – снисходительное отношение к слабостям ближних при весьма взыскательном отношении к самому себе. В связи с этим он приводит слова Иоанна Златоуста, формулирующие тему: «Хочешь явить себя святым и быть им? К жизни своей будь строг, к жизни других – снисходителен. Пусть люди слышат, что тяжелую работу ты делаешь сам, а малую поручаешь другим». Развивая эту тему, Салимбене обращается к примерам из жизни патриарха[103].
Увлеченность проповедничеством проявилась в повышенном внимании Салимбене к своим сотоварищам по ремеслу, деятельность которых была отражена на страницах «Хроники», причем так, чтобы можно было учесть не только положительные, но и отрицательные стороны их опыта. К последним следует отнести случай с францисканцем Кларом из Флоренции, который, дважды выступив с проповедями по одному и тому же поводу, вызвал неудовольствие слушателей, посчитавших, что второй раз «он просто-напросто повторился», хотя, уточняет хронист, «он выказал все свое мастерство, дабы его вторая речь была совсем не похожа на первую»[104]. Как бы то ни было, а этот урок заставил Салимбене позаботиться о заготовке разнообразных «тем», то есть текстов из Библии и других авторитетных церковных источников, на определенные сюжеты. Не умолчал Салимбене также о том, что францисканцы и доминиканцы заранее обговаривали между собой порядок произнесения своих выступлений, а затем во время проповедей, будто бы получив откровение, сообщали своей пастве, о чем вели речь их товарищи, которые проповедовали в других местах[105]; и это «благочестивое» жульничество, усиливавшее в глазах мирян притягательность нищенствующих орденов, не вызывало осуждения хрониста. С большим почтением рассказывал он о Бертольде Регенсбургском и чудодейственной силе его проповедей, собиравших множество слушателей и обращавших их на путь праведный[106]. Восхищался он также другим своим собратом-францисканцем – Уго-Соломинкой (Paucapalea), великим шутником и большим краснобаем (magnus prolocutor), опровергавшим и посрамлявшим ненавистников ордена. «Был он, – по словам Салимбене, – неистощим по части пословиц, басен и примеров, и они превосходно звучали в его устах, потому что все это он прилагал к людским нравам. Язык его был красноречив и приятен, и народ охотно его слушал. Министры же и прелаты ордена не любили его, ибо он говорил притчами и посрамлял их пословицами и примерами. Но это мало его беспокоило, потому что был он человеком прекрасной жизни»[107]. Перед нами, по-видимому, распространенный тип популярного проповедника, умевшего говорить со слушателями их языком, их образами, их понятиями, – тип, который выработался в среде францисканского монашества, тесно общавшегося с широкими слоями народа.
Приемы схоластической науки
Салимбене не так уж долго систематически учился богословию[108]. Однако неверно было бы утверждать вслед за П. М. Бицилли, что язык Салимбене «выдает его незнакомство со схоластической наукой своим полным отсутствием “ученых”, философских и богословских терминов»[109]. Дело обстоит как раз наоборот. Его язык и стиль в большом ряде случаев обнаруживают достаточно широкое использование приемов и лексики, явно заимствованных из схоластики, освоение которой Салимбене мог продолжать самостоятельно в ходе общения с учеными собратьями и чтения соответствующей литературы. По собственному его свидетельству, сделанному в 1284 г., с момента поступления в орден, а с тех пор уже минуло сорок шесть лет, он не прекращал учиться (non cessavi postea studere)[110]. Книги, судя по некоторым его признаниям, были при нем постоянно, и он ими дорожил; любопытно признание, что в 1250 г., находясь в Парме, многие жители которой в ожидании грядущих гражданских потрясений «начали припрятывать, что у них было самого ценного», он, следуя их примеру, «тоже спрятал свои книги»[111]. Салимбене высоко ценил образованость и знание и ставил их на первое место, давая людям положительные характеристики. Так, Уго де Кассио он называл «человеком образованным», короля Конрадина – «юношей образованным, прекрасно владеющим латинским языком», Гвидо да Бьянелло – «человеком образованным и незаурядных способностей»[112]. Причем если для светского лица ученость служит украшением, и ее отсутствие само по себе не грех и не позор, то для клирика она совершенно необходима, ибо без нее он не в состоянии справиться со своими пастырскими обязанностями. По словам Салимбене, «необразованный прелат – все равно что коронованный осел»[113].
Отношение Салимбене к науке и образованию отражает перемену, происшедшую во францисканском ордене. Во второй четверти XIII в. орден стал пополняться людьми, прославленными ученостью, и вместо прежнего пренебрежения ею, свойственного основателю францисканского движения и его сподвижникам, новые руководители ордена, в особенности Бонавентура, считали образованность обязательной для адептов своей конгрегации, поощряя ученые занятия, панораму которых, конечно же, неполную, можно найти в труде Салимбене[114].
По верному замечанию О. Гийожаннена[115], Салимбене довольно часто умышленно употреблял специальную лексику из словаря университетских диспутов. Евангельскую цитату «от крови Авеля праведного до крови Захарии» (Мф. 23, 35) хронист пояснял в терминах, свойственных современной ему схоластике, полагая ее смысл эквивалентным смыслу понятия «от исходного предела до конечного предела»[116]. Строя рассуждение, он выдвигал вопрос, который подлежал исследованию (querendum est), и затем разбирал его по частям в ряде пронумерованных аргументов (primo… secundo… tertio… etc.), причем приводил иногда доводы не только «за», но и «против» предлагаемого решения вопроса. Подобные приемы были хорошо разработаны в схоластике – чтобы убедиться в этом, стоит обратиться к «Суммам богословия» Фомы Аквинского (1225/1226–1274) или его предшественника и гордости францисканского ордена Александра Галесского (Гэльского, ум. 1245). Разумеется, исследование той или иной проблемы у Салимбене не столь детализировано и нюансировано, как у именитых схоластов, но ведь и писал он не ученый трактат, а хронику, в которой, используя опыт университетской науки, старался придать своим рассуждениям определенную систематизацию. Так, по поводу остроты одного монаха, сказанной им в ответ на слова собеседника, Салимбене предпринял специальное рассуждение: «Но нам следует установить, хорошо ли ответил брат или нет. И мы говорим, что он ответил дурно по многим причинам». Далее дан перечень из восьми пунктов, дополненный тремя пунктами, по которым брата можно извинить[117].
Числовая расчлененность аргументации, ее построение в некой логической последовательности не только обеспечивали упорядоченность материала в духе требований богословской школьной выучки, которой Салимбене, конечно же, не был чужд, но и облегчали восприятие этого материала на слух, случись, сам хронист или кто-то другой пожелали бы его использовать в проповеди. Стоит обратить внимание на одну отмеченную еще П. М. Бицилли особенность подобного рода подразделений (divisiones) у Салимбене, который «почему-то питает слабость к делению всякой “материи” на 12 пунктов»[118]. Причем даже в тех случаях, когда у хрониста не было более аргументов, чтобы число довести до 12, он приходил к этому числу с помощью очевидных натяжек. Насчитав, например, десять «несчастий» Фридриха II, Салимбене на полях приписал: «К этим десяти несчастиям императора Фридриха мы можем добавить еще два, чтобы получилось у нас число двенадцать»[119]. Исчисляя «глупости» (stultitiae) Гиберто да Дженте, Салимбене сумел дойти только до числа восемь, в связи с чем он раздробил восьмую «глупость» еще на четыре, при этом засчитав притязания Гиберто на два города за две самостоятельные «глупости» («в-третьих и в‑четвертых, два соседних с Пармой города, а именно Модену и Реджо, он [Гиберто. – О. К.] желал прибавить к своим владениям»[120]), и так пришел к искомому числу двенадцать. Трудно сказать без каких-либо указаний самого автора, что его привлекало в этом числе, но несомненно то, что для Салимбене оно обладало определенным символическим содержанием[121].
На пути от «exempla» к новеллам
«Салимбене любит анекдоты и хорошо их рассказывает, – замечает Л. П. Карсавин. – Но рассказав, он сейчас же пытается извлечь из анекдотов мораль и несколько строчек веселой историйки сопровождает страницами текстов и богобоязненных размышлений»[122]. Действительно, у Салимбене дело обстоит так или, если быть точным, почти всегда так. Ибо он старался не столько позабавить читателя занимательными рассказами, сколько дать ему готовые «примеры» (exempla), которые могли бы быть использованы в проповеди с целью сделать ее содержание более доходчивым и запоминающимся для слушателей. И эти анекдоты-«примеры», как правило, уже сами по себе, – безразлично, сопровождались ли они нравоучительными рассуждениями и цитатами из Писания, призванными разъяснить, как их должно понимать, или нет, – имели назидательный характер.
Большой ряд такого рода «примеров» дан в рассказах о проделках бесов, которые бесцеремонно вторгаются в повседневную жизнь, эксплуатируют греховные страсти людей, вводя их в соблазн и причиняя им зло. Один брешианец, учивший детей читать Псалтирь, подстрекаемый бесом, из-за боязни великого голода запасал дома муку и сухари, и, по словам Салимбене, именно это и стало причиной его жалкой смерти: дьявол, выследив, когда тот находился дома один, недужный, «его-то и задушил, надругался над ним и бесчестно с ним обошелся»[123]. Провокации дьявола принимают подчас самую неожиданную и даже кощунственную форму, верующий должен быть готов ответить на любой вызов инфернальных сил. Некого монаха дьявол соблазнил обещанием папского престола, являясь ему «то в обличии Распятого, то в обличии блаженной Девы Марии, блаженного Франциска, блаженного Антония, блаженной Клары, блаженной Агнессы». Казалось бы, разве можно не обмануться и не искуситься подобными видениями? Оказывается, можно, и это удалось одному «молившемуся пред алтарем святому отцу», который, когда ему явился под видом Распятого дьявол и сказал: «Я есмь Христос, поклонись мне и не думай ни о чем!», – опустил глаза долу и ответствовал: «Пошел прочь, сатана, ибо в этой жизни я не стремлюсь увидеть Христа», – и посрамленный дьявол исчез[124].
Земная жизнь воспринималась как поле брани трансцендентных сил добра и зла, и главным объектом этой борьбы считался человек, его душа. За всем, что происходит в мире, проницательный богослов и моралист Средних веков, вроде Салимбене, должен видеть скрытый, потаенный смысл и на различных примерах объяснять его людям. Поэтому даже в тех событиях и происшествиях, которые объяснимы естественными причинами, усматривали явление мира потустороннего, активно реагирующего на то, что творится в мире дольнем, и защищающего в нем свои интересы. Некто Нери ди Леккатерра из Модены, сказано в «Хронике» Салимбене, развел в храме Девы Марии костер, желая спалить его дотла, и произнес: «Ну, защищайся, Святая Мария, если можешь!», – и тут «пущенное кем-то копье пробило ему доспех, попало в сердце, и он тот же час пал мертвым». Ничего необычного, казалось бы, в такой смерти нет, однако Салимбене иного мнения. «Полагают, – пишет он, – что поразил его не иначе, как сам Меркурий, которому и раньше случалось карать за нанесенные преславной Деве Марии обиды, и что именно он поразил копьем Юлиана Отступника в войне с персами»[125]. Салимбене не смущало ни то, что убийцей святотатца вполне мог быть обычный человек, сводящий с ним какие-то счеты, ни то, что Меркурий – бог языческого пантеона, а в языческих богах христианство обычно находило персонификации демонических сил.
Таким образом, чудесное совсем не обязательно должно проявляться в нарушении естественного порядка вещей, но, имея в основе действие трансцендентных начал, могло либо воплощаться в этом порядке, используя его, либо менять его в своих видах.
В качестве причин явлений чудесных или необычных выступали силы не только божественные, но и дьявольские. И последние, если верить «Хронике» Салимбене, обнаруживают себя гораздо чаще, повсюду подстерегая человека и угнетая его всевозможными бедствиями[126]. Повествуя о дьяволе, «который погубил двух школяров и позорно обошелся с третьим», Салимбене привел эпизод, показывающий, что дьявол способен на невозможное по обычным представлениям: у одержимого бесом человека монах брат Петр потребовал, чтобы тот заговорил на латыни, и бес «повел речь на прекрасной латыни, чему брат Петр был крайне изумлен, ибо видел перед собой грубого и неотесанного мужика, который так складно говорил с ним и так бойко рассуждал»[127]. Особенно опытны бесы в искушениях, коими человек как бы по собственной его воле направлялся по пути погибели. Среди прочих историй о происках нечистой силы Салимбене поведал, как одного монаха бес соблазнял обещанием возвести на папский престол, другого попутал так, что, поддавшись его уговорам, этот монах согласился подвергнуться распятию[128].
В некоторых случаях, впрочем, роль беса весьма двусмысленна, цель его проделок, подчас веселых проказ, не столько причинить зло человеку и уловить его душу, сколько проучить тех, кто самовольно склоняется ко греху. Так, один бес несколько раз давал оплеухи засыпавшему во время молитвы монаху, когда же монах увидел его и обругал, бес ему ответил: «Вы, неблагодарные, ропщете, еще и недовольны, а я тем временем украл у вас ваши молитвы»[129]. Бесы в подобных ситуациях выполняли функцию своего рода полиции нравов, являясь той репрессивной силой, которую Бог попустил в мир, дабы злом, врачующим грехи, содействовать добру. Не случайно святой Франциск – его слова приводит Салимбене для пояснения приведенного выше рассказа о бесе, укравшем молитвы у нерадивого монаха, – умея проявить сердечность и оправдать любую тварь, даже отпавшую от Бога, называл бесов «прислужниками Господа нашего, которых Он поставил для поучения людей», разрешая в нас вселяться, когда мы отклоняемся от добра[130].
Историйки о бесах, преподнесенные в виде «примеров», близко напоминают новеллы – очень популярный в Средние века жанр литературы[131]. Ту или иную из них можно было извлечь из «Хроники» и вставить как отдельный самостоятельный рассказ в сборник новелл, вроде «Новеллино» или «Римских деяний», по своей сути являющихся сводом нравоучительных «примеров», почерпнутых из разных источников. Религиозно-назидательные задачи особенно бросаются в глаза в «Римских деяниях» (сборник составлен на рубеже XIII–XIV вв.), каждый сюжет которых призван быть иллюстрацией, очень часто довольно условной, той или иной идеи христианского сознания эпохи[132]. Генетическая связь с «примерами» ощутима и в итальянском сборнике «Новеллино»[133] (составлен в конце XIII в.), его материалы, преследующие цели не только развлекательные, но и нравственно-воспитательные, заимствованы в значительной мере из хроник и церковно-учительной литературы[134]. Предметом повествования становится и эпизод из жизни человека известного (например, императора Фридриха II) или неизвестного, и удачно сказанное слово, и бытовые ситуации, рассказанные как притчи. Однако интерес к подтексту, то есть к назиданию, уроку, не подавляет и не умаляет интереса к прямому их содержанию, в некоторых случаях, особенно в житейских анекдотах, уже претендующему на самоценность[135].
Такого же свойства иные заметки Салимбене, повествовательные и художественные достоинства которых заставляют вспомнить не только названные выше анонимные сборники новелл, составленные вскоре после его «Хроники», но и подчас «Декамерон» Боккаччо[136]. В связи с соперничеством монахов доминиканского и францисканского орденов Салимбене привел историю о том, как брат Диотисальви высмеял кандидата в святые от доминиканцев Иоанна из Виченцы: придя однажды в обитель доминиканцев, Диотисальви согласился принять их приглашение на трапезу при том условии, что ему дадут кусок рубашки брата Иоанна, дабы хранить ее как реликвию; после же трапезы он пошел в нужник и подтерся ею, а затем стал ворошить содержимое нужника, крича, что потерял реликвию; доминиканцы услышали крик и высунулись в окошечки, но, почувствовав нестерпимую вонь и увидя действия Диотисальви, поняли, что он их провел. Конечно, это – не просто забавная повестушка о нравах монашества, но одновременно и назидательный сказ о том, как может быть посрамлена гордыня в человеке, слишком возомнившем о себе. В другой раз Диотисальви, сам оказавшийся объектом шуток, удачным ответом снискал уважение своих пересмешников: однажды зимой на улице он поскользнулся и упал на глазах флорентийцев, известных острословов; один из них спросил его, не желает ли он подложить что-нибудь под себя; да, – ответил Диотисальви вопрошавшему, – твою жену[137].
Салимбене отлично чувствовал публицистическую силу таких историек и знал, как ее использовать. Умелый рассказчик, он тем не менее не признавал за ними художественной самоценности. Ему они нужны были или как «примеры», или как «аргументы»: проповедь можно было оживить и сделать более убедительной, используя такого рода «примеры», однако и в спорах допустимо апеллировать к искусно преподнесенным житейским и иного рода случаям, наряду с другими аргументами (цитатами из Священного Писания, церковных отцов, мудрецов древности и т. п.). Отстаивая в полемике прежде всего с приходским духовенством привилегию францисканцев выслушивать исповеди, Салимбене, наряду с многочисленными ссылками на Библию, привел «плутовской, но истинный рассказ, который папа Александр IV передал брату Бонавентуре»: в сущности, поведанная Салимбене история представляет собой готовую новеллу, повествующую о том, как приходской священник, исповедовавший некую даму и пожелавший овладеть ею прямо за алтарем, был посрамлен и публично ославлен, – дама, пообещав удовлетворить его похоти в более подходящем месте, выскользнула из его рук, затем испекла и послала ему великолепный пирог, начиненный, однако, человеческими испражнениями, а священник, решив преподнести этот пирог своему епископу, был им изобличен в греховных намерениях и наказан. За этим рассказом чуть дальше следует «другой рассказ, грустный», но на ту же тему: некая дама, многократно изнасилованная священниками во время исповедей в церкви за алтарем и доведенная до отчаяния, уже готова покончить с собой, но ее спасает брат-минорит, который, не покушаясь на ее честь, исповедовал ее и отпустил ей грехи[138]. Смысл этих историй совершенно ясен, они – аргументы, показывающие преимущества нищенствующей братии перед белым духовенством в качестве исповедников.
В связи с новеллистическими сюжетами «Хроники» Салимбене стоит упомянуть и рассказы о проповедях прославленного францисканца Бертольда Регенсбургского. Все эпизоды, поведанные Салимбене, посвящены чудесам, творимым проповедями Бертольда, и напоминают уже не «примеры» (exempla), но фрагменты жития (vita). Материалы житийного жанра, как известно, также послужили становлению европейской новеллы. Близость к ней рассказов о чудо-проповедях Бертольда несомненна, ибо каждый из них закончен в себе и поэтому без ущерба для его содержания может быть извлечен из контекста и преподнесен как вполне самостоятельное произведение. Так, Салимбене повествует о хлебопашце, которого вопреки его желанию господин не отпустил на проповедь Бертольда, ибо ему надлежало работать в поле, но который тем не менее не только услышал эту проповедь, понял ее и запомнил, хотя находился на удалении десятков миль от Бертольда, но и сумел вспахать участок такого же размера, как и в другие дни; господин же, вернувшись с проповеди, не смог пересказать ее содержание, тогда как крестьянин хорошо это сделал; пораженный чудом господин более уже не возбранял своему крестьянину посещать проповеди Бертольда[139].
Таким образом, «Хроника» Салимбене чревата новеллой, по ходу ее из «примеров» и житийных заметок то и дело возникают рассказики, в которых элемент художественно-повествовательный играет свою особую роль наряду с другими. Правда и то, что рассказики Салимбене не были замечены и использованы составителями новеллистических сборников конца XIII – начала XIV в. Но это было делом случая, превратившего сочинение Салимбене с самого начала в мало доступное для читателя.
Эпоха и среда
В «Хронике» Салимбене напрасно было бы искать новые и свежие мысли, тонкие и неожиданные наблюдения. Ее автор никоим образом и не претендовал на оригинальность. Он типичный, вполне заурядный представитель своего времени и интересен прежде всего тем, что сумел хорошо передать взгляды людей своего круга и чина, характерные для них установки сознания.
Салимбене был убежден, что всем творящимся в мире управляет Божественное провидение, которое обладает абсолютной властью и не оставляет места никакой случайности. Фортуна в его понимании – это не персонификация иррациональной переменчивости и непостижимой подвижности наличного бытия, но не более, чем обозначение силы, послушной Божьей воле. Он выражает свойственное мыслителям христианского Средневековья воззрение, утверждая: «О колесо фортуны, которая то низвергает, то возносит! Впрочем, не фортуна, но “Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает” (1 Цар. 2, 6–7)»[140]. Каждое событие имеет высший смысл и должно рассматриваться как производное трансцендентной каузальности, а не просто как звено доступной непосредственному восприятию внешней связи явлений. В 1258 г. папский легат и архиепископ Равеннский Филипп был захвачен веронским тираном Эццелино да Романо, как отметил Салимбене, «попущением Божьим» в воздаяние за жестокое обращение со своей челядью[141]. Под 1287 г. хронист сообщает, что в Парме упал с высоты и разбился новый колокол, «никому не причинив вреда, только сломал ногу одному молодому человеку», и это было в отношении него не нелепой случайностью, но наказанием и судом Божьим, ибо незадолго до того молодой человек поколотил своего отца[142]. Как видим, суд Божий не заставляет долго себя ждать, и не обязательно он откладывается до смерти человека, но очень часто происходит еще при его земной жизни, как бы вмешиваясь в нее и корректируя или даже прекращая ее течение[143]. Примеры этого можно было бы продолжить, однако и приведенных достаточно, чтобы увидеть, сколь тесно, по Салимбене, мир дольний связан с миром горним, что оба они – по сути одно целое, что в каждом явлении и событии этой действительности запечатлен промысл Божий, который следует увидеть, понять и правильно, то есть сообразно высшей целесообразности, истолковать. Именно этим то и дело занимается Салимбене по ходу своего повествования.
Поскольку этот мир лишен имманентной ему причинности, то как таковой в своей феноменальной данности он воспринимается как ложная, способная увести человека от истинной цели реальность, достойная поэтому осуждения и презрения. Тема презрения к миру постоянно разрабатывалась виднейшими мыслителями европейского Средневековья, и Салимбене, касаясь ее, прибегнул к цитированию предшественников – Августина, Григория Великого и «прекрасного и полезного трактата о презрении к миру», сложенного неким стихотворцем, дабы убедить в том, что, во‑первых, «мира цветение есть обольщение, душам грозящее», а во‑вторых, «смертному надобно мериться к подвигу/ Богоугодному и неподвластному смерти прожорливой,/ Чтобы когда уже мирские ценности сгинут, бесследные,/ Нам удостоиться славы и радости неистлевающей»[144]. Вместе с наличным миром утрачивала подлинную ценность и самостоятельное значение земная жизнь человека. Вся «Хроника», в сущности, имела в виду прежде всего показать и подчеркнуть убогость и ничтожество этой жизни, однако Салимбене, кроме того, не удержался, чтобы особо не остановиться и не привести на сей счет мнение Августина («О, жизнь! Скольких ты обманула, скольких соблазнила, скольких ослепила!») и пространное сочинение поэта-ваганта Примаса Орлеанского («Горе мне, о жизнь земная!»)[145].
Одним из аспектов неприятия и отвержения этого мира было настороженное, подозрительное отношение к женщине, в которой средневековое сознание усматривало один из наиболее сильных и опасных мирских соблазнов, греховную приманку, влекущую на путь порока и погибели. Такое отношение к женщине не было чуждо Салимбене, собравшему в рассуждениях, направленных против так называемых «апостольских братьев», свод библейских цитат с явно выраженным «антифеминистским» содержанием[146]. Впрочем, может показаться, что Салимбене делал исключение по крайней мере для одной женщины – своей матери, о которой отзывался с большим почтением, характеризуя ее как женщину благочестивую, набожную, творившую дела милосердия[147]. Однако в рассказе о страшном землетрясении, приключившемся в его раннем детстве (1222 г.), он счел нужным заметить, что мать в минуту опасности поступила недолжным образом: она схватила и вынесла на руках двух его старших сестренок, тогда как ей следовало бы прежде всего позаботиться о нем, лежавшем в колыбели младенце[148]. И вызванное этим эпизодом чувство обиды сохранялось в нем вплоть до старости, когда он сел за сочинение «Хроники». Объяснение такой «литературной выходке» Салимбене против собственной матери можно было бы подыскать в будто бы свойственном ему эгоизме, о котором уже шла речь в историографии[149]. Гораздо правильнее, однако, увидеть в подобном чувстве проявление характерного для человека Средневековья убеждения в том, что мальчик и девочка – существа неравноценные, что жизнь первого как продолжателя рода и кормильца гораздо важнее, и в силу этого именно его, мальчика, нужно беречь и лелеять в первую очередь. Руководствуясь именно такого рода убеждением, Салимбене в описанном эпизоде и осуждал свою мать[150], о которой в других случаях говорил с симпатией.
Выходец из кругов городской знати, Салимбене, даже став монахом-францисканцем, держался привитых ему с детства рыцарско-куртуазных идеалов. Как подчеркивает П. М. Бицилли, Салимбене аристократ особого рода, он – республиканец, дурно относившийся к тирании, всегда державший сторону городской знати[151]. Стоит сказать, что именно Салимбене, пожалуй, первому из историографов, принадлежит наблюдение о различиях между феодальным классом Франции и Италии. Будучи во Франции, он заметил, что там «рыцари и благородные дамы обитают в своих усадьбах и имениях», в городах же живут только горожане (burgenses), тогда как в Италии «рыцари и власть имущие, и знать обитают в городах»[152].
Салимбене придавал великое значение происхождению человека. Ему чужда мысль о том, что благородство определяется нравственными достоинствами, свойствами души. Разделяя «предрассудки» своего класса, он доверял породе, был убежден, что благороден лишь тот, кто происходит от благородных родителей, ибо вместе с их социальным статусом он должен наследовать и высокие сословные качества благовоспитанности и великодушия (curialitas, liberalitas), которые Салимбене часто противопоставлял грубости и алчности (rusticitas, avaritia)[153]. Соответственно, к простонародью – будь то горожане или крестьяне – он относился с презрением. Его социальное кредо выражают слова: «Пополаны и мужланы суть те, которые приводят мир в беспорядок, а рыцари и нобили сохраняют его»[154]. Каждый обязан соблюдать свое место в социальной иерархии, ибо предназначен служить определенной цели. Поэтому никто из низов не должен претендовать на изменение своего положения. «Хуже нет ничего, – любил повторять Салимбене “чьи-то” стихи, по-видимому, ставшие уже расхожим общим местом, – чем подлый, поднявшийся к власти»[155]. Процитировав поэта-публициста Патеккьо, писавшего на народном языке и в своем сочинении «Досады» (Taedia) изобразившего нарушение установленного порядка различными посягательствами «подлого» люда на то, что ему не подобает («[Отвратительно] и когда из грязи выходят в князи»), Салимбене пояснил: «Поэт хочет сказать, что отвратительно, когда то, что должно быть внизу, лезет наверх»[156].
Это предвзятое, недоброжелательное отношение к неблагородным сословиям и их представителям постоянно дает о себе знать в «Хронике». Причастность к францисканскому ордену, известному демократичностью своего состава, не мешала Салимбене осуждать орденские порядки, не считавшиеся со знатностью рода. В связи с братом Илией, добившемся поста генерального министра францисканцев (1232–1239), которого Салимбене презирал за темное происхождение, в «Хронике» написано: «Заметь, что в ином монашеском ордене всегда будут люди, бывшие в миру знатными, богатыми, могущественными… Тем не менее во главе таких людей ставится прелат, рода недостаточно знатного…». И это, по Салимбене, не может не привести к бедственным последствиям[157]. Сходным образом, объясняя злонравие настоятельницы луккского монастыря Св. Клары, обвинившей монахов-миноритов в попытках любодействовать с ее клариссами, Салимбене ссылался на то, что «была она дочерью какой-то генуэзской булочницы и правление ее было отвратительным, жестоким и вместе с тем бесчестным»[158]. В собрате по ордену Бонавентуре из Изео Салимбене задевала «заносчивость, словно у какого-то барона», на которую тот, по убеждению хрониста, не имел права: ведь, «как поговаривали, матерью его была мелкая лавочница»[159].
Существенным моментом, во многом определявшим отношение Салимбене ко всему, что он описывал, являлась его принадлежность к францисканскому ордену, интересы которого он воспринимал почти как свои собственные. Довольно часто в зависимости от того, как складывалась жизнь францисканцев в том или ином владении, городе, диоцезе, как их принимали, какие привилегии и милости им оказывали, Салимбене изображал, выставляя в выгодном или невыгодном свете, конкретных феодальных синьоров, прелатов и церковные конгрегации, городские коммуны и корпорации, а также отдельных персонажей, привлекавших его внимание[160]. Благожелательная характеристика короля Иерусалимского Иоанна (ум. в 1237 г.), данная ему в «Хронике», во многом объясняется тем, что незадолго до своей смерти «он стал братом-миноритом». Недоумение читателя может вызвать отзыв о епископе Пармском Обиццо, который, по словам Салимбене, «был большим плутом, большим мотом, щедрым, милостивым и обходительным», «продал задешево много земель и владений епископских и передал каким-то проходимцам», «церковные приходы давал тем, кто ему угождал» – и при всем этом, оказывается, «совершил один [оказывается, всего один! – O. К.] непорядочный поступок: когда он был епископом в Триполи, он оставил свое епископство» и с помощью высоких покровителей «отнял епископство Пармское у магистра Иоанна да донна Рифида», своего учителя. Не продиктовано ли такое снисходительное отношение хрониста к Обиццо тем обстоятельством, что епископ Пармский «любил монахов и в особенности братьев-миноритов»? И наоборот, тех, кто чем-то ущемлял миноритов, Салимбене не щадил. Даже если это были папы. Гонорий IV назван «человеком никчемным, подагриком… жадным и негодным», он «замышлял и строил планы подвергнуть величайшему поношению и насилию такие славные ордена, как орден братьев-миноритов и орден братьев-проповедников»; но «Бог прибрал его [1287 г.], и смерть помешала ему осуществить» задуманное; Салимбене нисколько не сомневается, что одна из причин смерти понтифика (коей «явил Бог Свою волю») – его намерение «ополчиться на орден братьев-миноритов и орден братьев-проповедников и лишить их права проповедовать и исповедовать»[161]. Та же участь, по убеждению Салимбене, постигла Иннокентия IV (ум. в 1254 г.), который «был поражен Богом за то, что восстал против братьев-миноритов и проповедников»[162]. С позиций монаха-францисканца, радеющего об интересах своего ордена, Салимбене судил и свой родной город Парму, попрекая его жителей недостаточным уважением к миноритам: «Я, брат Салимбене из Пармы, 48 лет пробыл в ордене братьев-миноритов, но никогда не хотел жить вместе с пармцами из-за их непочтительности к рабам Господним, и это на самом деле так. Они не стремятся им услужить, хотя отлично могли бы и сумели бы это делать, было бы только желание, ибо гистрионам, жонглерам и мимам они подают щедро, да и тем, кого называют “рыцарями двора”, когда-то много от них перепадало, как я видел своими глазами. Конечно, если бы такой большой город, каким Парма является в Ломбардии, был во Франции, то там подобающим и достойным образом жила бы и существовала сотня братьев-миноритов, имея в изобилии все необходимое»[163].
Привязанность к своему ордену была у Салимбене так велика, что подавила в нем чувство любви к родному городу, – столь характерный для большинства средневековых хронистов локальный патриотизм[164]. Вместе с тем, возможно, благодаря именно этому у Салимбене, как чуть позже у Данте, а затем и у Петрарки, появляются первые проблески национального сознания. По справедливому замечанию П. М. Бицилли, «францисканскому монаху легче было отрешиться от узости городского кругозора, чем нотарию или судье, проведшему весь свой век на службе общины, ушедшему с головой в ее дела и интересы»[165]. Более того, францисканство давало Салимбене удобную возможность для проявления патриотического чувства, поскольку воспринималось из-за преобладания в нем с самого начала итальянского элемента как дело сугубо национальное, к руководству которым нельзя допускать иноземцев: «Магистры у братьев-проповедников чаще были из заальпийских краев (ultramontani), чем из наших (cismontani). Есть для этого убедительная причина, ибо из заальпийских краев был первый из них, а именно блаженный Доминик, родом из Испании. У нас же [то есть миноритов. – O. К.] больше было из Италии, чем из других стран. И это по трем причинам: во‑первых, сам блаженный Франциск был родом из Италии; во‑вторых, [в ордене] преобладают голоса уроженцев Италии; в‑третьих, они лучше умеют управлять [орденом]. Итальянцы боятся, что если французы придут к власти в ордене, то наступит послабление строгости устава»[166].
Столкновение с иноземцами – и здесь опять сошлемся на П. М. Бицилли – было одной из причин пробуждения национального чувства[167]. С позиций итальянского патриота подавал Салимбене под 1287 г. известие о поражении французов от испанцев в морском сражении неподалеку от Неаполя[168]. С этих же позиций он сокрушался о судьбе «несчастной Италии», над которой после вторжений вандалов, гуннов, готов, лангобардов нависла угроза нового, татарского нашествия, о чем, по его мнению, свидетельствует послание повелителя татар к папе, доставленное францисканцем Иоанном да Плано Карпини[169].
В борьбе разных сил внутри страны Салимбене умел возвыситься до понимания общеитальянских интересов и, руководствуясь уже ими, осудить и оплакать междоусобную войну своих соотечественников[170]. «Ибо кто без печали и великого плача может рассказывать и даже думать, – сообщал он под 1284 г. о кровопролитном столкновении Генуи и Пизы, – о том, как эти два прославленных города, из которых к нам, итальянцам [курсив мой. – O. К.], приходило столько всяческих благ, разрушили друг друга единственно из честолюбия, тщеславия и суетного искания славы, в которой они хотели превзойти друг друга, как будто моря не хватает всем плавающим по нему»[171]. В числе прочих преступлений он обвинял императора Фридриха II и в том, что Италия «разделилась на партии и страдает от несчастий, которые терзают ее и сегодня, и нет им конца, ни края из-за людской порочности и козней диавола»[172]. Хотя в борьбе Империи и Церкви Салимбене в качестве убежденного поборника папского верховенства[173] держал сторону Церкви, тем не менее им не осталась незамеченной политика пап, направленная на увеличение их светских владений в Италии. «Римская церковь получила ее [область Романью. – O. К.] в дар от господина Рудольфа, который еще во времена господина нашего папы Григория X был избран императором. Ибо римские понтифики всегда стараются что-нибудь выманить у государства, когда императоры венчаются на царство»[174]. Правда, Салимбене из этих наблюдений не сделал выводов, подобных тем, которые позже будут сделаны Макиавелли, усмотревшим в своекорыстной политике папства в Италии главную причину невозможности государственного объединения страны[175].
И это понятно, ибо для подобных выводов национальное сознание должно было пройти долгий и сложный путь развития, у Салимбене же оно еще не вполне выработалось, о чем свидетельствует сбивчивость в употреблении даже таких слов, как «Италия» и «итальянцы», которые могли обозначать не только целое (то есть всю страну и всех ее жителей), но и его часть. Пример второго значения можно встретить в записи под 1283 г., когда «Хроника» отмечала «великий падеж коров по всей Ломбардии, Романье и Италии»[176]. Об Италии как целом Салимбене говорил, противопоставляя свою страну другим странам[177]; когда же он вел речь о внутриитальянских делах, то местнические привычки сознания брали верх, и на первый план в его повествовании выходили Ломбардия, Романья, Эмилия, Тоскана и т. д., и само имя Италия приобретало сходное с этими названиями содержание[178].
XIII в. – время широкого развития мелкого товарного производства и тесно связанного с этим роста рыночного хозяйства. Торговля, банковские операции начинали играть заметную роль в повседневной деятельности людей, однако отношение к этим становившимся все более необходимыми явлениям хозяйственной жизни было очень противоречивым. С одной стороны, предпринимались попытки найти в учении церкви смягчающие аргументы и оправдать ремесло купца и даже – на определенных условиях – ростовщика[179], а с другой, напротив, в обществе усиливались настроения, одним из крайних выражений которых было францисканство, категорически осуждавшее стяжательство и в качестве проявления такового все виды денежно-кредитных сделок. И хотя общество уже не могло обойтись без них, указанное настроение превалировало в нем. Салимбене в ряде историй-«примеров» своей «Хроники» хорошо проиллюстрировал господствовавшее убеждение в греховности ростовщичества, разделяемое в конечном счете даже теми людьми, которые им занимались. В рассказах о Бертольде Регенсбургском он поведал о чуде с менялой, который под воздействием проповеди Бертольда решил отойти от порочного промысла, заявив о готовности «вернуть чужое и из любви к Богу раздать все, что нажил, бедным», дабы «стать добрым человеком»[180]. Так же поступили два брата, ставшие францисканцами, но прежде, в миру, бывшие ростовщиками: они «вернули то, что брали в рост и что было ими неправедно нажито, и, движимые любовью к Богу, наделили одеждой двести нищих, и дали двести имперских либр братьям-миноритам»; однако одному из них, брату Иллюминату, этого показалось мало, и он «велел прогнать себя бичами по городу, при этом у него к шее был привязан кошель с деньгами»[181]. Такое поведение раскаявшегося было в порядке вещей, ничего особенно экстравагантного брат Иллюминат не сделал – он, как сказано, лишь последовал примеру другого брата, Бернарда Бафуло, который приказал «двум своим людям, дабы один сел на коня, а другой привязал к хвосту этого коня самого Бернарда, и, бичуя его, пошли они по городу и вступили на большую дорогу, крича изо всех сил: “А ну, наддай разбойнику! А ну, наддай разбойнику!”»[182]. Впрочем, Бернард тоже не был оригинален[183]. Их публичные самоизобличение и наказание должны были свидетельствовать о готовности все претерпеть, дабы искупить грехи прошлой жизни, о глубоком раскаянии, без которого человек Средних веков не мог и помыслить о спасении своей души. Сходным по образу действий и настроениям было массовое движение флагеллантов (бичующихся), также нашедшее отражение в «Хронике» Салимбене[184].
Образ человека: типическое и особенное
Вопрос о том, «что есть человек», в общем, абстрактно-метафизическом плане не интересовал Салимбене. Но и конкретные черты человека, его особенные свойства или их неповторимое сочетание редко привлекали внимание хрониста. Описание многочисленных персонажей, которые встречаются на страницах труда Салимбене, как правило, не передает специфические, частные качества каждого конкретного лица. Оригинальность, самобытность характера воспринимались чуть ли не как нарушение установленного порядка вещей, как своеволие, в иных случаях приравниваемое или даже отождествляемое с ересью[185].
Индивидуальное в человеке Салимбене не ценил и не подчеркивал, в лучшем случае он его подавал, если воспользоваться словами русского историка, «как просто феноменальное обнаружение типического»[186], причем все то, что составляло неповторимое своеобразие единичного, им отбрасывалось. Как и другие средневековые писатели, Салимбене всякое частное пытался соотнести с общим, указать в нем черты, свойственные некому классу явлений; человек в его описании типизирован, выступает прежде всего как социально определяемый субъект[187]. Ни о каком рождении индивидуальности, ни о каком ощущении личности в творчестве Салимбене или культуре его эпохи речь, конечно же, идти не может. Человек должен являть собой характерные признаки того целого, к которому он относится, того класса, сословия, корпорации, членом которой он состоит; поэтому человек сам по себе, в своей неповторимости и исключительности, остается неузнанным, скрыт за личиной, навязанной ему его социальной группой. О собственном отце – а с ним Салимбене расстался в таком возрасте, в котором был уже способен хорошо запомнить обстановку домашней жизни и особенности родных людей, – он сообщил только то, что свидетельствовало о нем как о представителе знати, рыцаре: «Упомянутый же отец мой Гвидо де Адам был мужем красивым и храбрым; некогда, во времена Балдуина, графа Фландрского, он участвовал в походе за море для защиты Святой Земли…»[188] В подобных характеристиках, по верному наблюдению П. М. Бицилли, Салимбене «предан шаблонам и готовым формулам»[189]. Слова «красивый», «сильный», «умелый воин», как показал в своем исследовании Жак Поль, в разнообразных, но близких по смыслу словосочетаниях очень часто употреблялись Салимбене при описании типичного представителя знати[190]. Даже наиболее развернутая из характеристик, в которой Салимбене представил графа ди Сан-Бонифачо воплощением рыцарственности и христианской доблести, составлена из расхожих клише, общепринятых штампов, годных для изображения идеального типа, но мало что сообщающих о конкретном лице: «Человек добрый и святой, мудрый и добродетельный, и сильный, и хорошо владеющий оружием, и опытный в военном деле»[191].
Собственную мать, которую Салимбене должен был знать, конечно же, лучше других людей и в отношении которой имел возможность сообщить частные свойства натуры и быта, индивидуализирующие ее облик, он представил средоточием нравственных качеств, присущих доброй христианке, женщиной благочестивой, кроткой, творившей дела милосердия и помогавшей бедным, то есть такой, какой, с его точки зрения, – точки зрения францисканского монаха – обязана быть всякая мирская женщина: «Мать моя, госпожа Иммельда, была смиренной и набожной женщиной, много постившейся и охотно подававшей милостыню бедным. Никогда ее не видели разгневанной, никогда не поднимала она руку на служанку. Из любви к Богу в зимнее время она всегда давала приют какой-нибудь бедной горянке… наделяла ее одеждой и пропитанием…»[192] Вот почти все, что можно узнать из «Хроники» о госпоже Иммельде. Особенные, присущие только ей черты характера стерты общими словами, более обнаруживающими взгляд автора на то, что должна являть собой женщина, нежели передающими конкретный женский образ.
Сходным образом Салимбене держался и в отношении клириков, превознося их за те качества, которые полагал подобающими им, и, наоборот, порицая за отсутствие такого рода качеств[193]. Как всякий средневековый писатель, в оценках человека Салимбене руководствовался тем, что приличествует каждому «чину», прилагал к нему общепризнанную мерку сословия, класса или корпорации. В человеке поэтому он выделял не его частные свойства в качестве конкретного лица, но прежде всего социально значимую функцию, соответствие или несоответствие ей[194].
Публикации «Хроники» на языке оригинала и в переводах
«Хроника» Салимбене получила известность заслуженную, хотя и весьма запоздалую, после ее первого издания на латыни в Парме в 1857 г.[195], изобиловавшего, впрочем, многими изъянами и неточностями, о которых вскоре было сказано в исследовательской литературе[196]. Прошло более полувека, прежде чем вышло новое, теперь уже научное, критическое издание «Хроники», снабженное палеографическими, текстологическими и историческими комментариями, обширным индексом имен собственных и библейских цитат; подготовил его немецкий ученый Освальд Гольдер-Эггер для «Памятников германской истории», однако из-за смерти издателя работа вышла с предисловием Б. Шмейдлера[197]. В 1942 г. латинский текст «Хроники» в серии «Писатели Италии» выпустил Фердинандо Бернини[198]. В 1966 г. для этого же серийного издания его подготовил Джузеппе Скалиа, продолживший и уточнивший в некоторых случаях критические изыскания Гольдер-Эггера[199]; Скалиа, в частности, пересмотрел прочтение целого ряда мест, дал развернутый индекс собственных имен и глоссарий редких или употреблявшихся в особенных значениях латинских терминов, а равно и слов на народном языке; он также сделал два свода цитат (один – библейских, второй – установленных и неустановленных авторов), которые, как и текстологические примечания, основывающиеся на рукописи «Хроники», и биобиблиографическую статью о Салимбене, о рукописи и изданиях его «Хроники», вывел в конец работы.
В 1882 г. вышел в свет полный перевод «Хроники» на итальянский язык, однако основывался он на ненадежном первом (пармском) ее издании[200]. Затем в течение длительного времени в Италии появлялись лишь фрагментарные переложения «Хроники»[201], и только в 1987 г. был, наконец, опубликован новый полный перевод по изданию Скалиа, снабженный хронологической таблицей важнейших дат жизни Салимбене и политических и религиозных событий эпохи[202]. Уже после него вышло в свет еще одно частичное итальянское переложение труда Салимбене[203].
На немецком языке до сих пор имеется единственное издание «Хроники», опубликованное Альфредом Дореном еще в 1914 г.[204] Перевод этот выполнен по тексту Гольдер-Эггера, однако памятник он воспроизводит не полностью (опущены заимствования из хроники Сикарда, библейские цитаты и некоторые другие фрагменты).
Нет полного перевода «Хроники» и на французский язык, хотя известно, что он должен появиться в ближайшее время[205]. Все существующие французские переложения касаются отдельных и, как правило, небольших сюжетов[206].
Впервые на английском языке «Хроника» Салимбене была напечатана во фрагментах в 1907 г.[207] Еще одно ее неполное издание, составленное по образцу французской публикации 1959 г., появилось в 1961 г.[208] Наконец, в 1986 г. вышел перевод почти всей «Хроники» на английском языке, авторы которого, правда, сочли возможным опустить начальную часть текста на том основании, что она взята из хроники Сикарда Кремонского[209].
Исследовательская литература о Салимбене исчисляется сотнями работ. Наиболее полные их перечни приведены в трудах Ф. Бернини, Д. К. Уеста, М. Д’Алатри и О. Гийожаннена[210].
Хроника
От переводчиков
Перевод сделан по итальянскому изданию латинского текста «Хроники», осуществленному Джузеппе Скалиа: Salimbene de Adam. Cronica / Ed. G. Scalia. Vol. 1–2. Bari, 1966, – и сверен с изданием: Cronica fratris Salimbene de Adam Ordinis Minorum / Ed. O. Holder-Egger (Monumenta Germaniae historica. Scriptorum tomus XXXII). Hannoverae et Lipsiae, 1913; Editio nova. Hannoverae, 1963. При составлении примечаний переводчики, наряду с другими материалами, использовали комментарии к тексту в издании О. Гольдер-Эггера.
Листы рукописи «Хроники» пронумерованы самим Салимбене; на листе пергамена содержится четыре колонки текста – по две на каждой стороне. В настоящем переводе, как это принято и во всех других изданиях, сохранена авторская нумерация листов с буквенным указанием колонки (а, b, с, d); например, f. 253 d: f = folium («лист»), 253 – авторский номер листа, d – колонка 4.
Многочисленные цитаты из Библии приводятся Салимбене по Вульгате. Вульгата (букв.: «простонародная») – это общепринятое название Библии на латинском языке (полное название – Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, или: Biblia Sacra Vulgata), перевод которой был сделан в IV в. бл. Иеронимом; он перевел с древнееврейского тексты Ветхого Завета и отредактировал уже существовавший латинский текст Нового Завета, сверив его с греческими источниками. В 1546 г. этот перевод с некоторыми изменениями был объявлен католической церковью каноническим. В настоящем издании библейские цитаты приводятся по русскому синодальному переводу: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Международный издательский центр православной литературы. М., 1994. В тех случаях, когда между текстом Вульгаты и синодальным переводом имеются незначительные грамматические и лексические расхождения, но содержание и смысл цитаты совпадают, было сочтено возможным пренебречь этими расхождениями и дать канонический русский текст, например: Verbum dulce multiplicat amicos et mitigat inimicos (Сир. 6, 5) – буквальный перевод: «Сладкое (или: приятное) слово умножает друзей и смягчает недругов»; синодальный перевод: «Сладкие уста умножат друзей и смягчат недругов». В случаях серьезного смыслового расхождения или отсутствия стиха Вульгаты в синодальном переводе цитата переводится по латинскому тексту; это каждый раз отмечено в примечаниях. Библейские цитаты приводятся с сохранением орфографии, пунктуации и выделений, принятых в синодальном переводе: слова, напечатанные курсивом, приведены в нем для ясности и связи речи; слова, поставленные в квадратные скобки, заимствованы из греческого перевода 70‑ти толковников («Септуагинты»). Салимбене, цитируя Библию, делает отсылку только на книгу и номер главы, нумерация стихов добавлена переводчиками; отсылки, поставленные в круглые скобки, в тексте «Хроники». отсутствуют.
Квадратные скобки в тексте перевода «Хроники» используются в трех случаях: а) для обозначения конъектур, сделанных издателями латинского текста; б) для указания даты того или иного события по современному (точнее, по юлианскому) календарю и дня памяти того или иного святого, например: «от январских до июльских календ [с 1 января до 1 июля]»; «начиная с дня блаженного Франциска и до дня святой Лючии [с 4 октября до 13 декабря]»; в) для уточнения персонажа, например: «они [минориты]».
Все собственные имена в «Хронике» латинизированы; в переводе латинизированная форма сохранена для лиц духовного звания и передана в современном звучании для светских персонажей, например, Iohannes: для клирика – Иоанн, для светского лица – Джованни. Унифицированы также все разночтения в написании собственных имен; например, в латинском тексте: Pellavicini, Pelavicini, Pellavisini, Pelavisini – в переводе: Паллавичини. Географические названия, за очень редкими исключениями, даны в их современном виде. При уточнении имен был использован перевод «Хроники» на итальянский язык: Salimbene de Adam da Parma. Cronaca. Traduzione di B. Rossi. Bologna, 1987.
В переводе сохранено множество терминов, связанных с социально-политической жизнью и бытом средневекового человека, а также относящихся к церковной и монастырской сфере: «анциан», «аренго», «асессор», «дистретто», «индикцион», «гвардиан», «кустод», «апокрисарий», «визитатор», «комплеторий» и др. Объяснение значения этих терминов содержится в «Глоссарии».
Хроника брата Салимбене де Адам
О том, что Мануил[211], император Константинопольский, захватил великое множество венецианцев
[В том же году[212] Мануил, император Кон][213]/f. 208a/стантинопольский, в течение одного дня захватил великое множество венецианцев, рассеянных по всей Греции, как птиц[214], запутавшихся в силках, расставленных охотниками; ибо они из ревности и зависти совершили нападение на других латинян[215], пользовавшихся расположением императора, и избили их, оставив полуживыми. За это венецианцы с великим множеством мужей на ста галерах напали на острова Романии[216] и некоторые из них захватили. Однако, зимуя на Хиосе, почти все они погибли от чумы. А те, которые остались в живых, вернувшись, убили своего дожа[217].
О том, что ломбардцы построили для защиты от императора новый город, названный ими Алессандрией
В лето Господне 1168 ломбардцы, помня о пословице «беда не ходит одна», построили новый город для переселенцев, чтобы защищаться от императора[218], и назвали его Алессандрией по имени папы Александра[219]. Другие называют его Новым городом, жители же Павии по сей день называют его Палией[220]. В том же самом году римляне, снова окрепнув, завоевали и сожгли Альбано и разграбили все имущество.
О том, что в 1171 году при Артальде[221], короле Англии, претерпел мученическую смерть блаженный Фома Кентерберийский[222]
В лето Господне 1171 в Англии при Артальде, короле Англии, в день памяти Невинноубиенных[223] претерпел мученическую смерть перед алтарем от рыцарей короля блаженный Фома, архиепископ Кентерберийский.
Об осаде Анконы
В лето Господне 1172 Христиан, эрцканцлер[224], который был архиепископом Майнца, осадил с венецианцами Анкону и до того довел осажденных, что они ели тухлое мясо, вареную кожу и прочие непригодные и гнилые продукты и продавали ослиную голову за сто сорок денариев. Однако несломленные, они мужественно сопротивлялись, и их, получивших денежную поддержку Мануила Константи /f. 208b/ нопольского, Господь освободил из рук гонителя. В лето Господне 1174 император, вновь придя в Италию[225], разрушил Сузу, осадил Палию; и не допустил он, чтобы был снят урожай и чем-нибудь полезным наполнены житницы.
В лето Господне 1175 ломбардцы собрались около Костеджо против императора, который вынудил их к сдаче и, вернув им мечи, почетным образом принял их капитуляцию.
О том, что маркиз Монферратский взял в жены дочь короля Иерусалимского
Приблизительно в это самое время Балдуин[226], король Иерусалимский, знаменитый своими славными победами, хотя и прокаженный, отдал свою сестру Сивиллу в жены Вильгельму, первенцу маркиза Вильгельма Монферратского[227]. А тот был видом пригож, храбрец, отважный рыцарь, наделенный добродетелью и силой. Когда недужный и страдающий слоновой болезнью король пожелал возложить на Вильгельма корону, тот отказался, так как по праву наследования владел Яффским графством[228]. На самом деле он держал под своим присмотром все королевство и породил красивого сына именем Балдуин[229]. Его-то и короновали по смерти деда-короля и отца[230], хотя он был еще малолетним. И пока он находился под опекой тамплиеров, бароны для защиты королевства пригласили Раймунда, графа Триполитанского[231].
О том, что императорское войско было побеждено ломбардцами
В лето Господне 1176 императорское войско в сражении при Леньяно[232] было побеждено ломбардцами. О колесо фортуны, которая то низвергает, то возносит! Впрочем, не фортуна[233], но «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает» (1 Цар. 2, 6–7).
О том, что император примирился с Церковью и заключил мир с папой Александром
В лето Господне 1177, видя, что муж не укрепился силою /f. 208c/ мышцы своей и что Господь возносит смиренных и низлагает сильных[234], и понимая, что Господь создал Церковь Свою на прочном камне «и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18), император смирился перед могучей дланью Господней и заключил в Венеции мир с понтификом Александром; и так как он был отлучен от лона матери-церкви, то теперь был возвращен вселенской Церкви, и в Венеции он подписал соглашение с ломбардцами на шесть лет и с королем Сицилии[235] на пятнадцать лет. В то время в Италии был голод[236].
О том, что христиане победили сарацин и взяли их в плен
В этом году христиане сразились за морем с сарацинами, и случилось так, что семь тысяч христиан обратили в бегство тридцать две тысячи сарацин и победили их, согласно предвещанию Господню, написанному в Книге Левит 26, 3, 7–8: «Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их… будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча; десятеро из вас[237] прогонят… тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Итак, император [Фридрих] возвратился в Германию, и папа [Александр] прибыл в Рим.
О том, что император Мануил отдал дочь в жены сыну маркиза Монферратского и сделал его королем в Фессалонике
Приблизительно в то же самое время император Константинопольский [Мануил] попросил Вильгельма, маркиза Монферратского, прислать одного из своих сыновей[238] в Константинополь для женитьбы на его дочери. Тогда Конрад и Бонифаций были уже женаты, а Фридрих служил священником[239]. Впоследствии, став епископом Альбы[240], он, будучи знатного рода, вел более роскошную жизнь, нежели того требовал епископский сан. Посему в Константинополь отправили младшего сына [Райнерия], красивого и привлекательного на вид юношу. Мануил отдал ему в жены свою дочь Кирамарию и увенчал его короной короля Фессалоники.
О том, что папа Александр созвал Вселенский собор
В лето Господне 1179 папа Александр /f. 208d/ созвал Вселенский собор[241], на котором установил церковные правила и обнародовал их.
В лето Господне 1181 папой избрали Луция[242]. Он смело сразился с римлянами в защиту Тускула[243].
Об Андронике и его злодеяниях
Мануилу Константинопольскому наследовал его юный сын Алексей[244], которого родила после Алматона дочь князя Антиохийского[245]. Алексея после двухлетнего его правления убил Андроник[246] и правил три года. Вступив на путь злодеяний, он также убил императрицу, мать юноши, и Райнерия, зятя императора, и жену его. Наконец он уничтожил многих знатных греков, а очень многих лишил зрения.
О том, как император заключил мир с ломбардцами в городе Констанце
В лето Господне 1183 император Фридрих заключил мир[247] с ломбардцами, и совершил он это в Констанце в священной курии 7 июля.
В лето Господне 1184 по повелению Фридриха в Верону прибыл папа Луций. Там и скончался упомянутый папа.
В лето Господне 1185 император, придя в Италию, назло жителям Кремоны[248] вновь отстроил Крему. Тогда же в Италии было сильное землетрясение. А против Андроника, содеявшего зло, Вильгельм, король Сицилии, вооружил войско, которое захватило Дураций и Фессалонику. Но одни были обмануты и попали в плен, а другие возвратились с позором.
О свадьбе короля Генриха, отпразднованной в Милане
В том же году король Генрих отпраздновал в Милане свою свадьбу с Констанцией[249], дочерью покойного короля Сицилии Рожера.
Тогда же господин Прендипарте, подеста Болоньи, отправил в Крему к императору Фридриху рыцарей. Тогда же Бертольд, канцлер императора Фридриха, осадил Фаэнцу.
В лето Господне 1186 император Фридрих разрушил до основания кремонскую крепость, называвшуюся именем Ман/f. 209a /фреда. В том же году Исаак[250], умертвив позорной смертью Андроника, овладел властью в государстве и сочетал браком свою сестру Ирину с Конрадом, сыном часто упоминаемого маркиза[251]. Он [Конрад] в единоборстве отсек голову Вране[252], неприятелю императора и города Константинополя, и освободил Грецию от этого врага. Однако он вызвал к себе зависть и ненависть многих. Посему во избежание коварства греков он, взойдя на корабль, решил отправиться ко Гробу Господню.
О том, что в 1187 году в июле месяце Саладин[253] овладел Иерусалимом и земля Господня была захвачена неверными
В лето Господне 1187, в июле месяце[254], Саладин овладел Иерусалимом, и земля Господня была захвачена неверными. Причиной этого вторжения была несправедливость, совершенная христианами. А именно, хотя между Саладином и королем Иерусалимским был заключен мир, христиане по приказанию Райнальда, принца Монте-Регале и правителя долины Хеврон, бесчестно нарушили его, захватив сарацинские караваны[255]. Другой причиной стал раздор между королем Гвидо[256] и Раймундом, графом Триполитанским, вызванный злобой, то есть возмущением, из-за того, что королева Сивилла[257] после смерти супруга вышла замуж за Гвидо из Пуатье, а после смерти сына[258] передала корону этому чужеземцу без согласия графа Раймунда и других баронов. Тактика захвата Иерусалима была такова: Саладин вторгся в страну и осадил сначала Таварию, или Тивериаду. Король Гвидо расположился лагерем в Маршалии. Послушай пророчество, означающее скорое поражение, а именно: когда патриарх Ираклий в эту ночь читал в шатре на утрене из Библии, ему попалось место о ковчеге завета, который некогда был захвачен филистимлянами. И вот утром произошло сражение. Граф Триполитанский бежал. Король, /f. 209b/ и Святой Крест, и часто упоминаемый маркиз Вильгельм Монферратский старший, прибывший в Святую землю ради паломничества и ради защиты упомянутого выше внука, и все остальные бароны и народ были захвачены; войско христиан было побеждено. Затем была взята Тивериада, а упомянутый Райнальд, виновник преступления[259], был обезглавлен мечом Саладина. Да и многие другие были обезглавлены. Кроме того, были взяты города Акра, Сидон, Бейрут и Библ.
О том, что Конрад, маркиз Монферратский, стал правителем в Тире и храбро защитил от Саладина живущих во Христе
Между тем Конрад, маркиз Монферратский, по воле Божией прибыл в Константинополь, чтобы отправиться ко Гробу Господню. Узнав о том, что Акра занята неверными, он, воспользовавшись попутным ветром, пристал к берегам Тира. Жители, лишенные правителя, охотно его приняли и предложили ему править ими и городом.
Саладин же, взяв с собой Вильгельма, отца Конрада, захваченного им в плен во время сражения, прибыл из Бейрута в Тир, чтобы, потребовав выкуп за отца, вместе с тем погубить и сына, и город; и через отца [Вильгельма] он подал знак сыну [Конраду], чтобы тот за освобождение своего отца и остальных пленных сдал город. Конрад ответил Саладину, что он не получит и камня в городе. И вот Саладин приблизился, угрожая пронзить Вильгельма копьем, на что Конрад ответил, что он первый пустит стрелу в отца. О счастливое нечестие! Ради спасения христиан Конрад, пренебрегая сыновним долгом, заявил, что он пронзит отца, находившегося под прицелом варваров. Но достойно упоминания и благочестивое нечестие, которое заставляет предпочесть любовь к Богу любви к отцу. Да и под влиянием все того же отца Конрад считал, что тот, будучи стариком, не стоит внимания и не заслуживает никакого выкупа.
О том, что Саладин захватил многие земли христианские и причинил христианам много зла
После семидневной осады Тира Саладин возвратился в Акру. Затем, захватив Наблус и /f. 209c/ Назарет, Хайфу и палестинскую Кесарию, Яффу и Азот, Газу и Аскалон и присоединив другие земли, принадлежавшие Иерусалиму, он наложил на него дань. Храм Господень, ранее нечестиво оскверненный христианами, Саладин освятил по своему обычаю и, освященный, охранял, Гроб Господень и ясли в Вифлееме он поручил охране суриан[260]. Кроме того, он провел перед воротами Тира на обозрение жителей более ста тысяч побежденных христиан и заставил силою гнать их до самого Триполи. Начисто ограбленные и униженные триполитанцами и антиохийцами, они вступили в Армению и, голодные, страдающие от холода и раздетые, разбрелись вплоть до Конии и, по справедливому суду Божию, были доведены до гибели, неся наказание за оскверненное ими наследие Божие.
О том, что при Ираклии[261] Крест Господень вновь был обретен, а позже при другом Ираклии[262] в Иерусалим вторглись магометане
И смотри: благодаря императору Ираклию Крест Господень[263] вновь был обретен, а позже при том же Ираклии[264] в Иерусалим вторглись магометане, и тогда при патриархе по имени Ираклий Иерусалим был потерян; затем, при папе Урбане[265], вновь обретен, а ныне при Урбане[266] Иерусалим захвачен теми же варварами.
О том, что христиане за морем отомстили за себя своим недругам. О мужестве Конрада, маркиза Монферратского, благодаря которому Саладин снял осаду и с позором отошел от Тира, приказав обрезать хвост у своего коня, на котором он ездил, дабы побудить своих к мести за нанесенную обиду
Между тем мужественный Конрад Монферратский, правитель Тира, дважды одержал победу в морском сражении. Он, проявив отвагу, с помощью пизанцев вывел несколько галер и кораблей из Акрского порта и с еще большей отвагой пользовался ими, разыскивая повсюду необходимое жителям продовольствие. Ожидая нападения только что одержавшего победу врага, он укрепил стену с бойницами. И вот в ноябре месяце Саладин вновь приступил к осаде Тира. А в предшествующую ночь обвалилось 60 локтей стены. Жители Тира, помня об Иерихоне[267], сильно испугались. Но маркиз [всю ночь] не смыкал глаз /f. 209d/ и восстановил [стену] с помощью каменщиков уже на следующий день, а мужчины и женщины [расчищая завал] уносили песок и камни даже за пазухой. Саладин выслал вперед лучников. Маркиз направил пизанцев в Акру, а женщинам велел в мужской одежде подняться на стену, дабы казалось, что город полон людей. Пизанцы вернулись с победой, приведя два корабля с добычей. И вот Саладин напал на город с суши и с моря; полагая, что и маркиз, и пизанцы хотят бежать, он приказал особенно охранять галеры; когда же пять из них, на которых были и знатные мужи и пираты, оружие и продовольствие были захвачены, Саладин, удрученный потерей, напал с суши на стену, атакуя ее камнеметами, «кошками», копьями, стрелами и метательными снарядами. И поскольку положение маркиза было весьма тяжелым, он вызвал своих, одержавших победу на море, и начал сражение на суше, нанеся сарацинам[268] значительный урон без ущерба для своих[269]. И когда Саладин увидел, что морское сражение не принесло никакого успеха, он приказал отвести девять галер в Бейрут. Христиане храбро преследовали их и так их потеснили, что Саладин велел восемь галер сжечь собственным греческим огнем[270], девятая же разбилась о берег Сидонский. Поэтому, понимая, что флот уничтожен и осада не удалась, Саладин сжег осадные машины и накануне январских календ[271] снял осаду. В знак горя он велел обрезать хвост у своего коня, на котором ездил, дабы этим побудить своих воинов к мести за нанесенную обиду.
В том же году в Ферраре папой избрали Григория[272]. Он был очень верующим мужем, так «что мир, лежащий во зле»[273], не был достоин его при /f. 210a/сутствия. И потому Господь взял его, едва он пробыл понтификом два месяца. Он много раз призывал христиан принять знак креста[274] и вновь обрести святой город Иерусалим и Гроб Господень.
О том, что император Фридрих собрался в крестовый поход[275], желая со своими людьми воевать за Господа. И в этом же году Саладин пришел в Триполи и обратил свой бич на Антиохийское княжество, где покорил многие земли христиан; подобное он совершил и в Галилее. Тогда император отправил к Саладину графа Генриха, всячески убеждая его покинуть землю Иисуса Христа, в которую он вторгся
И вот победоносный император, покинув умиротворенную Италию, возвратился в Германию; пылая любовью к Богу, он и верные ему люди приняли знак креста, намереваясь воевать за Господа. В то время Григорию наследовал папа Климент[276]. Скончался Григорий в Риме.
В лето Господне 1188 жители Тира, побуждаемые сильным голодом, поскольку они не осмеливались выходить из города, чтобы нарубить дров или накосить травы, ибо на них нападали сарацины, по приказу маркиза вторглись в Арсуф на кораблях, которыми командовал Уго, [владетель] Тивериадский; там они захватили командира[277], некогда взявшего в плен короля Гвидо, освободив при этом из темницы 40 христиан и приведя в Тир 500 пленных воинов и младших командиров вместе с неисчислимым количеством денег и запасом продовольствия. Маркиз в обмен на этого командира получил своего отца. Затем начали приходить корабли с паломниками. К берегам Тира пристал со своим флотом и Маргарито, адмирал сицилийского короля. Его пираты плохо обошлись с жителями Тира, и их принудили покинуть Тир и пристать у Триполи, где они погибли от голода, понеся заслуженное наказание. В том же году Саладин, подойдя к Триполи и видя, что он ничего не может добиться, обратил свой бич на Антиохийское княжество и покорил Габуль и Лаодикею, Саон и Гардию, Трапессак и Гваскон и много других городов. Затем, вернувшись в Галилею, он голодом вынудил к сдаче укрепленнейшую крепость Бельведер, которая защищала границы Иордании и преграждала дороги в Тивериаду, Наблус и Наза/f. 210b/рет. К этому времени к Тиру прибыли два графа сицилийского короля Вильгельма с пятьюстами рыцарями на пятидесяти галерах. Прибыли и многие другие паломники с преподобным Герардом, архиепископом Равеннским, легатом римского престола. И вот маркиз вместе с ними сильной рукой поверг множество сидонских сарацин. В этом же году великодушный император по императорскому обычаю направил к Саладину графа Генриха Дица[278], убеждая и уговаривая Саладина покинуть землю Иисуса Христа, в которую он вторгся. Ведь таков обычай империи: объявлять войну врагам, ибо не в ее правилах начинать войну тайно. Мы же по просьбе наших граждан отправились в Тевтонию испросить у императора разрешения на восстановление крепости Манфреда. Но надежда не оправдалась, и по возвращении мы приступили в этом году к возведению крепости Кастеллеоне. Эти слова принадлежат Сикарду, епископу Кремонскому.
В лето Господне 1189 Убальд, архиепископ Пизанский, легат апостольского престола, и паломники почти из всех западных стран приплыли в Тир. И так как Тир не в состоянии был принять их, между различными группами возникли сильные раздоры, так что возмущение из-за вступления в город короля Гвидо, прибывшего из Триполи, и запрещения маркиза[279] [впустить его] породило смуту и междоусобную брань.
После многочисленных обсуждений паломники решили осаждать Акру. И вот в августе месяце они напали на Акру и осадили ее. Однако и их самих также осадил Саладин и так потеснил, что у них не оставалось никакой надежды на спасение. Но неожиданно прибыли 40 лодок и с ними множество рыцарей и баронов. /f. 210c/ Саладин нападал на христиан без передышки и днем, и ночью. А так как маркиз и архиепископ Равеннский не прибыли для участия в осаде и не подтвердили, что придут, осажденные через епископа Веронского и ландграфа Тюрингского слезно попросили, чтобы те пришли к ним на помощь. Те прибыли вопреки желанию маркиза, знавшего ловкость турок. Самонадеянные французы решили вступить в сражение. И что же! И тамплиеры, и около семи тысяч паломников пали. На следующий день Саладин приказал извлечь из трупов внутренности и бросить их в реку, дабы увеличить позор, а также отравить воду и испортить воздух[280].
После этого прибыли маркизы и графы и более пятисот рыцарей из Ломбардии. С ними пришло большое грузовое судно, которое было построено в Кремоне и с людьми и грузом разных вещей отправлено за море на помощь Святой земле. При сложившихся обстоятельствах паломники решили преградить сарацинам и вход в город, и выход, открытый со стороны горы Мускард. И поскольку не нашлось таких, которые захотели бы разбить в этом месте лагерь, маркиз, во всем решительный и отважный, расположился там лагерем. Поэтому Саладин с ожесточением напал на него. И тогда маркиз приказал разбить морские скалы, чтобы сделать там гавань для приема кораблей из Тира. Этот порт и по сей день называется Маркизов. Крестоносцы укрепились, вырыв изнутри и снаружи ров по кругу, чтобы, стоя посередине, легче было защищаться от нападения с обеих сторон. Полководцы, они же правители, чтобы устранить всякие разногласия, приказали французам повиноваться своим начальникам, а прибывшим из Империи повино/f. 210d/ваться представителям императора. И вот в День святого Стефана [26 декабря] к порту Акры подошли из Египта 45 галер [с сарацинами]. Ошеломленные крестоносцы, запертые и с суши, и с моря, предпочли погибнуть в сражении, чем сдаться без боя. Маркиз, опытный в боях, ободрил всех, полуживых [от страха], речью, заявив, что он полностью уничтожит галеры сарацин. И вот он пришел на небольшой галере в Тир, хотя этой ночью он из-за шторма сто раз подвергался смертельной опасности. И когда он рассказал жителям Тира о нуждах войска и побудил их вооружить галеры, они сказали: «Мы готовы жить с тобою и идти на смерть». И на исходе февраля маркиз смело появился с флотом в Акрском порту и спокойно опустошил на виду у сарацин их корабли с продовольствием. И хотя у крестоносцев не было сомнения, что город с помощью осадных машин будет взят, однако эти машины сарацины сожгли греческим огнем. Но и две сарацинские галеры были захвачены в морском сражении.
В том же году счастливый император [Фридрих], имеющий пятерых сыновей, – среди них первенца Генриха, которого он сделал соправителем, Фридриха, герцога Швабского, графа Оттона, Конрада и Филиппа, герцога и воина Христова, – поручил соправителю все – и власть и членов императорского дома и, покинув вполне замиренную и устроенную Западную империю, вступил в восточные края с теми спутниками, в том порядке и под тем знаком, о котором мы пишем. Он пустился в путь в День святого Георгия [23 апреля]. Выехав из Германии, он совершил путь от Регенсбурга до австрийских краев на корабле, причем по суше за ним следовало войско с конями и обозами. Наконец, пройдя через Паннонию и устроив /f. 211a/ там для бедных и недужных приют со всем необходимым, он вступил в Венгрию[281], где, как говорят, у него было девяносто тысяч ратников. Среди них было 12 тысяч рыцарей. Принятый с почетом в Эстергоме венгерским королем Белой[282], он пересек Венгрию. И он отправил к императору Константинопольскому Исааку епископа Мюнстерского и графа Роберта Нассауского. А тот их задержал и выслал к границе Болгарии три отряда, чтобы помешать переходу. Был там лес [протяженностью] в четыре дня пути, и дорогу через него, очень узкую, разрушил наместник Болгарии, и, построив укрепление на выходе из леса, приготовился с отрядами напасть на императора. Но герцог Швабский[283], шедший впереди войска, пройдя с большими усилиями и трудностями лес, разрушил укрепление и убил великое множество его защитников; когда император приблизился к городу Нишу, князья Сербии выразили горячее желание покориться ему. Но светлейший император, стремящийся к миру, отказался их принять [под свою руку]. Затем, 24 августа, напав на город, называемый Филипполем, крестоносцы взяли его. Город же этот является столицей Македонии. Один человек нам сказал, что они пришли не в Филипполь, а в Филиппополь[284]. Там императору сообщили о пленении его послов. И туда же император Исаак прислал императору письмо, надменное и заносчивое, со словами: «Исаак, избранник Божий, святейший, высочайший, могущественнейший великий император, августейший правитель римлян, наследник короны Константина Великого[285], выражает милость свою и братскую искреннюю любовь возлюбленному брату, величайшему государю Германской империи». В этом письме высказывалось негодование по поводу дерзкого прихода императора в Грецию. /f. 211b/ После этого греческий император направил против римского императора большое войско, состоявшее из греков и турок. Вступив с ними в ожесточенное сражение, герцог Швабский, сын Фридриха, победил их и обратил в бегство, а укрывшихся за какими-то стенами захватил силой и всех перебил. Двенадцать турок, укрывшихся в каком-то укреплении и упорно сопротивлявшихся, он сжег. Затем, придя в Адрианополь, получивший свое название от слова «мужество» или по имени его основателя[286], крестоносцы овладели им. И было так, что иные города они брали силой, а иные города сдавались без сопротивления, как то: Темофикон, Аркадиополь и сопредельные [с ними].
Между тем Калопетр, правитель блакков[287], попросил нашего императора возложить на него корону. Светлейший император любезно согласился. В это время греческий император отправил к римскому императору досточтимых послов, секретарей и других, всего числом шестнадцать, обещая свободный и безопасный проход. Однако великодушный император в присутствии послов стал упрекать греческого императора за то, что тот столь вызывающе написал ему, напомнив, что он сам и его династия владеют Римской империей четыреста лет; потому-де он, Исаак, должен был бы называться не императором римлян, но императором ромеев. В Адрианополь также прибыли послы султана и Мелиха, его сына, с речами о мире, но полными коварства.
Итак, хотя непобедимый император в отмщение за вышесказанное, опрометчиво совершенное греческим императором, хотел идти на Константинополь, однако, уступив совету вельмож, предлагавших поспешить в Святую землю на помощь христианам, потребовал заложников и получил их; проводив его в Галиополь, греки обеспечили ему переправу через море. И вот войско переправилось в течение пяти дней, герцог[288] первым, а отец /f. 211c / вслед за ним. Когда они прошли, преодолев многочисленные трудности и препятствия, через город Тиахит и Эги, город Ликии, где Косма и Дамиан[289] были увенчаны мученическим венцом, они достигли Сард. Затем они пришли в Филадельфию. Правитель филадельфийский, отказав им в доставке провианта, приготовился к сражению. Но затем, видя, что не в силах сопротивляться, обещал доставить провиант и позволил императору с немногими войти в город. Потом из-за дороговизны продовольствия между греками и тевтонцами возник спор, началось сражение, и против воли императора они дрались непрерывно два дня и две ночи. Наконец, побежденные греки, укрывшись в городских укреплениях, заключили соглашение и уступили провиант за приемлемую цену; они спускали товары в корзинах [из окон] с помощью веревок и таким же образом получали плату. Более того, когда император покидал город Филадельфию, правитель предоставил ему гонца в качестве проводника, который повел войско окольными путями, горными и лесными тропами, где они в течение двух дней совсем не находили пищи. Прошли они также и город Иерополь, в котором претерпел мучения блаженный Филипп. А при выходе из леса некоторые греки и армяне миролюбиво предоставили им провиант сколько смогли.
К тому времени турки из Бетии, называемые также бедуинами, люди дикие, никому не подвластные, живущие не в укрепленных городах, а в полях, собрав несметное и неисчислимое войско, более ста тысяч, нападали на христиан и днем и ночью в течение четырех недель, так что войско христиан постоянно шло в боевой готовности. Однако войско императора много их уничтожило вместе с неким предводителем, начальником их конницы. Рестан же, их повелитель, с большим войском /f. 211d/ преградил императору путь в горном ущелье, говоря, что тот не пройдет, если не даст ему сто ослов, нагруженных золотом и серебром. Император ответил, что охотно даст, но только одну монету. Между тем посланники султана, которые вели его обманным путем, говорили, что он скоро вступит в землю султана, где этот народ [бедуины] больше не будет причинять ему зла. Тогда, поскольку Господь не оставляет возложивших надежду на Него, некий начальник по внушению небесной благодати или потому, что он случайно попал в руки наших[290] и боялся смерти, подошел к императору, раскрыл обман и рассказал, что утром будет сражение, и, убедив его обогнуть равнину, по которой император собирался идти, повел его через горы. В горах они наткнулись на врагов, и там и сям завязалось сражение. Но когда герцог [Фридрих], оставив снаряжение и продовольствие, смело спустился с гор, спустился и император. Они победоносно напали на врагов и одержали верх над недругами Господними. В этом сражении герцог, пораженный камнем, потерял два зуба. Отсюда бежали проводники, данные султаном, боясь, что по обнаружении обмана император им отомстит; войско же христиан, уповая на Господа, выведшего народ Израиля из пустыни, 15 дней шло по какой-то равнине, питаясь кониной. А дикие турки, о которых мы говорили, полагая, что те совершенно ослабели от голода, вновь начали сражение близ города Филомены с большим отрядом конницы и полчищем пехотинцев, и непобедимый император разбил их наголову. И когда многочисленный отряд бедуинов вынужден был отступить в какое-то укрытие, тевтонцы всех их сожгли. И с того времени дикие турки больше не преследовали войско, но сгинули от лика императора, как «прах, возметаемый ветром [с лица земли]» (Пс. 1, 4). /f. 212a/
В лето Господне 1190 Мелих, сын султана, с войском, состоявшим из пятисот тысяч всадников[291], выступил навстречу [императору] и послал к нему вестников со словами: «Возвращайся! Что ты думаешь делать, когда у меня знамен больше, чем у тебя воинов?» И когда император подошел к какому-то мосту, турки оказались и спереди и сзади. Но герцог разбил находившихся впереди, а император перебил большую часть находившихся сзади; таким образом все войско перешло через мост. Затем огромное и неисчислимое полчище турок окружило со всех сторон войско христиан, так что на протяжении всего пути они ожесточенно сражались и днем и ночью в течение четырех недель, и пищей христианам служила только конина. И они не находили воды ни днем и ни ночью, пока, наученные неким пленным турком, томимые жаждой и голодом, не отыскали соленую воду.
На другой день они расположились лагерем в садах Иконии, города Исаврии. Отсюда император отправил султану послание, спрашивая его, доставит ли он провиант или нет. Султан ответил, что он предоставит провиант; но так как он запросил за него слишком дорогую цену, христиане приготовились к сражению. И поскольку приближалась пятница трехдневного поста [18 мая], Готтфрид, епископ Гербиполенский, уверявший, что ему было видение, как блаженный Георгий храбро сражался за христиан против врагов, объявил покаяние и разрешил есть мясо, и они [христиане] выступили в поход. Герцог, осадив город, смело им овладел и всех непокорных перебил мечом. А император, также направив победоносные отряды против сына султана, сражавшегося с тыла, прогнал упомянутые тысячи турок и бедуинов и убил неисчислимое множество их. Когда город был взят силой, султан, укрывшись в весьма укрепленной городской крепости /f. 212b/, послал к императору сказать, что он готов предоставить ему провиант и что император получит все, чего ни пожелает. Император потребовал заложников и выехал из города из-за трупного зловония, поскольку дома и улицы были завалены трупами, и расположился лагерем в садах. Итак, султан дал заложников, предоставил и провиант, то есть продовольствие, и лошадей. Но поскольку турки заботились о том, чтобы продавать лошадей за слишком дорогую цену, а именно предлагали лошадь за сто марок, то тевтонцы отплатили за хитрость хитростью, и турки получили вместо полновесной марки монету неполной стоимости. Узнав об этом, султан послал к императору спросить, зачем он обманывает его людей при оплате. На что император ему ответил, что если бы они давали хороший провиант, то и получали бы полновесную марку. Вот почему с обеих сторон были назначены добросовестные оценщики.
Продвигаясь вперед, христианское войско терпело много тягот от неких диких турецких племен, не подвластных султану, до тех пор пока оно не подошло к городу Лавренда, стоящему на границе Армении и Ликаонии, и к горам Армении; там под утро внезапно услышали звон оружия и шум. Но поскольку на самом деле никого не было, то посчитали это за предзнаменование близкого несчастья. В горах Армении император нашел греков и армян, быстро предоставивших ему провиант. Когда до Саладина дошли слухи об этих победах, он испугался. И в День святой Пятидесятницы Саладин, заполнивший горы, холмы и равнину таким множеством своих воинов, какого, как полагали, никогда прежде не являлось, всей мощью напал на христиан, надеясь захватить все шатры и пленить несчастных христиан. Но помыслы его оказались тщетными, ибо христиане, мужественно сопротивляясь, нанесли ему немалый урон метательными орудиями. И вот, отступая, /f. 212c/ Саладин оставил большую часть своего войска для сопротивления императору.
Но (увы!) по прошествии нескольких дней стало известно о смерти императора, и внезапно появившийся слух о смерти короля Сицилии сильно взволновал христианское войско. Спускаясь с гор, император оказался у реки Салеф, по берегу которой он два дня продвигался вперед, а на третий сделал дневку в приятном месте. И так как стояла очень сильная жара, император вошел в реку с двумя своими рыцарями, желая искупаться. И когда он поплыл, то, ударившись о камень, потерял силы и не мог плыть. Рыцари его подхватили и вывели на берег полуживым. И, исповедовавшись и причастившись Тела Христова, он в тот же день и скончался [в субботу, 8 июля][292]. Какое горе! Водная стихия погубила того, кого не смог победить пламень войны. Не побежденный крепостью меча побеждается мягкостью текучей стихии. В тот день исполнилось пророчество, начертанное халдейскими письменами на башне, построенной около реки, а именно: «Лучший из людей и могущественнейший из всех захлебнется в водах селевкийских». Вот почему Мануил, император Константинопольский, собираясь переправляться в этом месте, повелел построить там мост. Итак, когда покойного императора привезли в город Селевкию, его забальзамировали; во главе с герцогом, который был назначен командующим войском, тевтонцы прибыли в Таре, город в Киликии, где похоронили плоть[293] императора. Затем они двинулись навстречу Левону Монтанскому[294] и, великолепно принятые, с великим торжеством были препровождены в город Мамистию, где низвергается с гор река, называемая жителями Геон. Ее источник, или, лучше сказать, поток, ежегодно, только в Великий пост, наполняется таким множеством рыбы, что верующие армяне в этот день насыщаются ею до того, что в дни поста больше /f. 212d/ и не хотят ее есть. Там, когда герцог занедужил, его посетил католикос Армении. Затем, пока герцог направлялся на корабле в Антиохию, войско христиан, пройдя Портеллу, где, как говорят, был погребен Дарий[295] и сокрыты сокровища Александра, через какое-то ущелье достигло крепости, называемой Гваскон[296]. Так как этой крепостью владел Саладин, то его лучники задержали войско христиан. Наконец патриарх, князь и народ антиохийский торжественно проводили герцога и войско в Антиохию и с почестями предали погребению плоть императора. Там по совету князя и патриарха герцог сделал остановку и вызвал к себе маркиза Монферратского, который тогда был занят осадой Акры. Узнав о вызове, маркиз[297], посоветовавшись с баронами, поспешно прибыл в Антиохию. Поскольку в его отсутствие никто не мог обуздать пехотинцев в войске при Акре, то в День святого Иакова [25 июля] они разбрелись кто куда, и более восьми тысяч их погибло в результате набега сарацин.
Проезжая через Тир, маркиз с большим почетом принял прибывшего морем Генриха, графа Шампанского[298]. Когда же маркиз прибыл к войску, все признали его полководцем. И проходя через Триполи, маркиз оказал помощь вдовам, сиротам и находившимся в нужде знатным лицам, раздав золото и серебро. Затем он вошел в бухту Святого Симеона, называемую жителями также Солдином. Возле бухты находится гора Черная, на которой живет много отшельников, воздающих хвалу Господу на разных языках и по своим обычаям. Торжественно принятый патриархом, князем и герцогом, маркиз, сопровождаемый ими отсюда до самого города, вступил в него. Герцог полностью доверил себя и войско маркизу, уверяя, что он желает повиноваться его приказам как отцовским /f. 213a/. Услыхав об этом, Саладин выслал войско под командованием своего брата Тахахадина и сына Мирахальма, чтобы они заняли область Бейрута. Герцог и маркиз, узнав об этом после того, как прибыли из Антиохии в Триполи – при этом их всячески беспокоили сарацины лаодикейские и другие, – из Триполи на корабле достигли Тира, где предали погребению гроб со скелетом императора. И в сентябре тевтонцы расположились лагерем на равнине у Акры. И тогда же приплыл архиепископ Кентерберийский. Затем христиане, выйдя из лагеря, приготовились к сражению и преследовали Саладина, спасавшего знамя на повозке, как принято у ломбардцев, до Сафореи и Рекортаны, где берет начало река, протекающая через Акру, потому что преследуемый ими Саладин изменил местоположение своего войска; после чего христиане вернулись в лагерь невредимыми.
С наступлением ноября у христиан начался такой сильный голод, что они ограничивали себя в потреблении конины, покупаемой за очень дорогую цену. И таким образом они мучились всю зиму от голода, холода и меча [врагов]. Тогда же Изабелла, дочь покойного короля Амальриха, добиваясь по смерти сестры [своей] королевства по наследственному праву, была разведена по решению епископов с Сигифредом[299] Торонским, за которым она была замужем. Сочетав ее браком с маркизом, бароны избрали его королем и государем. И вот, будучи щедрым и великодушным и имея в море галеры, маркиз восстановил силы воинов[300] пшеницей и ячменем. Когда наступил Великий пост и пришли корабли с товарами, цена на модий пшеницы за один день упала со ста безантов до восьми и постепенно понизилась до одного.
В лето Господне 1191 прибыли Филипп, граф Фландрский, затем – король Франции, герцог Бургундский, граф Неверский /f. 213b/ и граф де Бар[301]. И вот король разбил королевский лагерь перед башней, называемой «Проклятой», и возвел каменное здание, намеренно названное «Злым соседом», так что башня «Проклятая», осыпаемая ударами камней со стороны «Злого соседа», оправдала истинное свое название[302]. Король приказал выставить катапульты, крюки и осадные машины и закрыть их от греческого огня свинцовыми пластинами. Когда же вскоре скончался граф Фландрский, король, получив от воинов Фландрии клятву в верности, все чаще «осыпал проклятьями» «Проклятую башню» из метательных орудий и с большим ожесточением напал на город Акру. А именно после того как все его орудия были сожжены, сильно разгневанные паломники по приказу короля, приставив лестницы, поднялись на стены. Но из-за огня и густого дыма они в конце концов отступили. Альберик же, королевский маршал, спустившись внутрь городских стен, свирепствовал, «как лев рыкающий» (Иез. 22, 25). И когда он один очень многих убил обоюдоострой секирой, называемой и топором, и еще больше ранил, его самого убили. Его голову сарацины, зарядив ею вместо камня метательное орудие, выбросили к его товарищам. Двое сарацин, пробив дыру в стене, вышли из города и попросили окрестить их во имя Христово. Эти новообретенные верующие проявили себя на деле. Под руководством маркиза были восстановлены машины, он передал королю Тир, соблюдая свое обещание, а именно, что отдаст его целиком первому пришедшему из-за моря венценосцу. Король же укрепил город своими людьми.
Между тем Ричард[303], король Англии, покорил остров Кипр, взяв в плен Исаака, называвшего себя императором, и увез огромное богатство, продовольствие и скот. Плывя по морю с Кипра, Ричард увидел сарацинский корабль, направлявшийся из Бейрута и спешивший в Акру. На нем /f. 213c/ было семьсот «людей воинственных» (1 Пар. 7, 9); у них были достаточно большие деньги и оружие всякого рода, греческий огонь, змеи и крокодилы, предназначенные для гнусного убийства. И вот Ричард на 24 галерах, на которых он шел, охраняя сзади свои корабли, три или четыре раза нападал на него с большими потерями для своих. После упреков и увещеваний короля, угроз и обещаний наград воины короля приготовились к бою, напали на корабль, сделали в нем пробоину и потопили; при потоплении остались в живых только двое; одного из них король по прибытии в лагерь отослал к Саладину, а другого – в город [Акру]. В это же время король Франции вопреки воле короля Англии назначил сражение. Сражение произошло, крепкие стены рухнули, и сарацины отправили к Саладину посольство, чтобы он поспешил к ним на помощь. С наступлением ночи маркизу поручили охрану; он с согласия короля Франции заверил Моштуба[304] в безопасности во время переговоров. Когда наступил день, состоялись переговоры в присутствии королей и других баронов. На них Моштуб обещал сдать город со всем имуществом, лишь бы они разрешили людям уйти невредимыми. Христиане же вновь потребовали Святой Крест, всех пленных и все королевство. Моштуб объявил, что он должен посоветоваться с Саладином. И, дав заложников, посоветовался. Саладин также обещал отдать Крест и Акру, тысячу пятьсот христиан, сто рыцарей и выплатить двести тысяч безантов.
Во время этих событий король Англии подступил к стенам, город сдался, и им овладели в 4‑й день перед июльскими идами [12 июля] в лето Господне 1191. Короли выставили в воротах стражу, вход был открыт только одним французам /f. 213d/ и англичанам, остальные же, будь они из Римской империи или из других мест, хотя бы они и переносили все тяготы в течение двух лет, позорным образом были отогнаны. Ибо желающих войти в город прогоняли, избивая кулаками и плетьми. И изувечили тринадцать пулланов[305], отрубив у каждого ногу. И вот короли, получив в свои руки около пятисот тысяч человек, не считая женщин и детей, и столько оружия, что его с трудом можно было пересчитать, и пять сосудов с греческим огнем, пять двухмачтовых галер с грузовыми судами и 70 четырехмачтовых галер и прочее богатство, которому нет числа, все это разделили только между собой. Да осудят их Церковь и потомство за то, что они, облеченные королевским достоинством сочли пристойным прибрать к своим рукам то, что было добыто кровью и зимними трудами остальных, не стыдясь того, что им пришлось попотеть всего лишь три месяца. Ведь не себе они должны были приписать победу, а Господу. Но уж коли они вознамерились приписать ее себе, они должны были помнить о других, о тех, чьи кости тлеют на кладбище, или о тех, кто, уцелев, терпел невзгоды неупорядоченной жизни. В самом деле, во имя Господа умерли архиепископ Равеннский, ландграф Тюрингский, Фридрих, герцог Швабский, и многие графы и бароны Империи, а общее число погребенных, погибших от чумы, голода и меча, неизвестно; однако нет сомнения, что при осаде, кроме князей ушли из мира сего почти двести тысяч человек.
В довершение к этому король Франции старался возвести в короли маркиза[306], а король Англии вновь поставить королем Гвидо[307]. Наконец, по достижении соглашения маркизу отошли Тир, Сидон, Бейрут, половина Аскалона и по праву наследования Яффа; кроме того, ему отошла половина Акры и половина всего приобретенного королевства и того, что собирались приобрести; остальное отошло Гвидо. Однако /f. 214a/ соглашение было таково, что ни один из них не должен был пользоваться королевским венцом, пока жив другой. После этого король Франции, набрав для личной защиты пятьсот рыцарей и распределив доставшееся ему оружие между тамплиерами, госпитальерами и маркизом, вернулся на родину, осыпаемый бесчисленными упреками, которые повсюду бросали ему в лицо: «Э, бежавший и покинувший землю Господню!»[308] А король Англии, не получив обещанного выкупа за пленных, вопреки Божескому и человеческому праву всех их перебил (которых лучше было бы сохранить и обратить в рабство), за исключением Моштуба, Каракуша[309] и некоторых других воинов, которых он освободил за деньги. Тем не менее Саладин не воздал пленным христианам злом за зло. Король Англии, продолжая сражаться на суше и на море, вновь обрел Хайфу и Кесарию. И когда он прибыл в Азот[310], был убит Иаков из Авена. Далее, отправившись в Яффу и перезимовав в Рамле, Лидде, Туронемилите и Вефенубиле, [крестоносцы] подошли к Аскалону. При виде разрушенных стен они возрыдали о нем и в короткое время восстановили и стены, и башни. Тем временем между королем Англии и герцогом Бургундским и другими французскими баронами возник сильный раздор из-за того, что король не считался с ними. Поэтому они вернулись в Тир к маркизу, и с ними пятьсот отборных рыцарей, с которыми маркиз действовал весьма успешно, делая набеги на поселения сарацин.
Тогда же, то есть в лето Господне 1191, у римлян начал править Генрих[311], сын Фридриха I; правил он восемь лет. Его короновал и увенчал императорской короной папа Целестин[312], наследовавший Клименту. И тогда император отдал папе Тускул[313], а папа отдал его римлянам. Римляне же разрушили город и крепость, а тускуланцам выкалывали глаза /f. 214b/ и наносили другие безобразные увечья. Затем император с супругой Констанцией, дочерью покойного короля Сицилии Рожера и сестрой короля Вильгельма[314], отправился в Апулию, чтобы получить королевство, которое ему досталось по праву наследования после смерти брата жены. Но в Палермо уже поставили и короновали Танкреда. И вот, когда императрица прибыла в Салерно, жители схватили ее недостойным образом и отправили в Мессину к королю Танкреду; он держал ее в палермском дворце с почестями, подобающими супруге императора. Император же лишился своих надежд и чаяний при осаде Неаполя, так как почти все его люди погибли от чумы.
В том же году случилось бедствие, которое кремонцы называют «дурной смертью», ибо те из них, которые объединились с бергамцами у Чивидате, замка бергамцев, против жителей Брешии, по суду Божию нападали друг на друга и даже сбрасывали [друг друга] в реку Ольо; многие были захвачены в плен, а многие – убиты. Но император, возвращаясь из Апулии, освободил пленных из темницы, и отдал этим кремонцам Крему и закрепил это привилегией. После этого он вернулся в Германию. Танкред вернул ему супругу.
В 1192 г., во времена императора Генриха VI, были такие дожди с градом, молниями и бурей, каких не помнят и в старину. В самом деле, вместе с дождем с неба низвергались кристаллы величиной с яйцо, которые уничтожили деревья, виноградники и посевы и убили много людей. Видели также, как вороны и бесчисленные птицы, летающие в воздухе во время этой бури, несли в клювах горящие угли и поджигали дома. Генрих всегда проявлял самовластие по отношению к Римской /f. 214c/ Церкви. Поэтому Иннокентий III[315] после его смерти[316] воспротивился возведению на престол его брата Филиппа и склонился на сторону Оттона[317], сына герцога Саксонского, повелев возвести его на германский престол в Аахене.
О захвате города Константинополя
Тогда же многие французские бароны, отправившиеся за море для освобождения Святой земли, захватили Константинополь.
О том, как по наущению короля Англии ассасины[318] убили маркиза Монферратского
В лето Господне 1192 король Англии, находясь в Аскалоне, озабоченный и своим возвращением [на родину], и управлением Святой землей, спросил у войска, на кого надежнее всего было бы оставить завоеванную землю и ту, которая еще будет завоевана. После того как были высказаны различные пожелания (ибо некоторые предпочитали немиропомазанного Гвидо, некоторые непобедимого маркиза, иные – графа Шампанского), королем избрали маркиза и утвердили в присутствии войска. И вот король Англии торопит маркиза как можно скорее получить королевскую инфулу и скипетр.
В четвертый день перед майскими календами [28 апреля] были представлены грамоты. В тот же самый день ассасины с криками: «Не будешь ты маркизом, не будешь королем!» – убили маркиза. Один из убийц был сожжен, другой, когда с него сдирали кожу, признался, что его господин Старец гор послал его совершить это [убийство] по приказанию короля Англии. На третий день беременную супругу[319] [маркиза] против ее воли сочетали браком с прибывшим туда графом Шампанским Генрихом. Он поспешно возвратился в Акру, овладел городом и не позволил Гвидо вступить в него. Поэтому король Англии передал Гвидо Кипрское королевство[320], купленное за 20 тысяч безантов.
О Саладине, осадившем Яффу
После этого Саладин осадил Яффу; в ней Рудольф, выбранный патриархом, заключил с Саладином перемирие на условии, что, если в двухдневный срок он не получит помощи, он сдаст ему город. И поскольку у патриарха не было другого человека, он, ради своей паствы, отдал в заложники самого себя. По прошествии двух дней король Англии с пизанцами на корабле пристал к берегу и, проявив храбрость, прогнал сарацин, осаждавших крепость. Кастеллан предоставил /f. 214d/ королю коня. Он, один-единственный рыцарь[321], и сопровождающие его пехотинцы за городом на виду у турок располагаются лагерем. Турки, обращенные в бегство нападением этого единственного рыцаря, приходят в полное замешательство. Подоспевшие христиане натягивают палатки. Турки очень опасались, как бы такой свирепый король не захотел напасть на Египет. Что же дальше? После того как оба войска обратились в бегство, было заключено перемирие на три года на том условии, что Аскалон должен быть разрушен и им не будет владеть ни та ни другая сторона. Но король совершил грех, не освободив патриарха-заложника, находившегося в оковах. И вот христиане приходят ко [Гробу Господню][322] и обнаруживают там обнаженного эфиопа, собирающего, к бесчестию христиан, жертвенные дары.
О том, как король Англии, приказавший убить маркиза, был схвачен и пленен в некой кухне, когда он в одежде оруженосца жарил кур
Но король не пожелал идти для поклонения Гробу, находившемуся в руках неверных, и поспешил с возвращением. Подозреваемый в причастности к смерти маркиза, он в одежде слуги тамплиеров и госпитальеров достиг невредимым Австрии, отпустив своих людей в разных местах. Там, когда он жарил кур, его обнаружили, схватили и привели[323] к герцогу Австрийскому. И вот, узнав о том, что герцог Австрийский захватил английского короля, возвращавшегося в одежде слуги, император [Генрих VI] взял короля под стражу, ибо, как полагали, тот что-то злоумышляет в Сицилийском королевстве против императора и является гнусным устроителем убийства маркиза. В конце концов император отпустил его, заключив с ним выгодное для себя соглашение.
В лето Господне 1194 император Генрих вновь пришел в Италию и, дойдя до нижней части ее, покорил Апулию, Калабрию и Сицилию и, захватив все силой, увез в Германию имущество страны и сокровища королевства; он взял в плен королеву и сына ее[324], который наследовал отцу, и всех, кого пожелал. О, сколь заслуженно Божие воздаяние, которое не оставляет безнаказанным ни одного /f. 215a/ злодеяния! Первенствующие, «строящие козни в тайне с богатыми, какою мерой меряют, такою и им будут мерить, и каким судом они судят, таким будут и они судимы»[325]. А Филипп, брат императора, нашел в палермском дворце вдовствующую дочь константинопольского императора Исаака II Ирину, бывшую замужем за Рожером Старшим, сыном Танкреда, и сочетался с ней законным браком. А этого Исаака II, императора, ослепил его брат Алексей[326] и, бросив в темницу сына его Алексея, захватил власть.
В лето Господне 1197 император, вновь прибывший в Италию, скончался на Сицилии, где и был предан погребению.
Об аббате Иоахиме, предсказавшем будущее
В это время появился некий аббат Иоахим[327] из Апулии, обладавший даром прорицания. Он предсказал смерть императора Генриха, грядущее запустение Сицилийского королевства и упадок Римской империи. Что и было с очевидностью подтверждено. В самом деле, в Сицилийском королевстве неоднократно возникала смута, и Империя из-за раскола была разделена.
О смерти императора Генриха VI и об избрании Оттона IV
В лето Господне 1198[328] в День святого Михаила [8 ноября] в Сицилийском королевстве скончался император Генрих, сын покойного Фридриха I. В связи с избранием нового императора в королевстве произошла смута. Ибо император Генрих, оставляя сиротой мальчика, рожденного супругой, добился от князей его избрания. И некоторые даже сохранили верность сироте. Однако между Филиппом, также сыном Фридриха, братом Генриха, дядей сироты, и Оттоном, сыном покойного герцога Саксонского, стремившимися к императорской власти, в Германии началась борьба, ибо князья избрали и того и другого. В это время папой стал Иннокентий III; он, чтобы помочь сироте и защитить права Церкви, сра/f. 215b/жаясь обоими мечами с неким Маркоальдом, также объявившим себя (не знаю, по чьему наущению) ревнителем прав мальчика, свел на нет его усилия. Апулия, Калабрия и Сицилия колебались в своем выборе. В Германии также были расхождения во мнениях, но ни права, ни возможности соперников не были равными.
О папе Иннокентии III и многих его заслугах
Сей упомянутый папа Иннокентий III явил себя мужем честным и смелым, заявляя, что он обладает двумя мечами, а именно, духовной и светской властью, и защищал мальчика Фридриха, короля Апулии и Сицилии. Вначале папа посвятил в императоры Оттона[329] и его же потом низложил за его коварство и гордыню, а поставил императором отрока Фридриха, назвав его сыном Церкви. Иннокентий подчинил и греков с Константинопольской церковью[330]. С помощью аббата цистерцианцев Арнальда, крестоносцев, короля Франции и графа де Монфор он уничтожил ересь и еретиков[331]. Воистину, этот Иннокентий был знатоком права и исправил и кратко изложил все право, как каноническое, так и гражданское, в третьем и четвертом томах Декреталий. Он же побудил всех христиан к верному служению Святой земле[332]. Сей муж был столь «сильный в деле и слове» (Лк. 24, 19), что, если бы он прожил еще десять лет, он покорил бы весь мир и привел бы к единой вере все народы. При нем благодаря одному главе, а именно римскому первосвященнику, греческий и римский императоры стали друзьями, повинуясь ему и исповедуя католическую веру. В самом деле, римский понтифик обладает обоими мечами, ибо он наместник Бога Живого, от Которого дана папе та и другая власть.
Об орденах братьев-миноритов и проповедников и о многочисленных образах, в которых они были прообразованы
В это время появились два ордена: орден братьев-миноритов и орден братьев-проповедников, предсказанные аббатом Иоахимом[333] в многочисленных образах, содержащихся как в Ветхом, так и в Новом Заветах: в вороне и горлице[334], ибо тот весь черный, а эта вся пестрая; в двух ангелах, посланных вечером с известием о том, что Содом будет разрушен; в Исаве и Иакове; в Иосифе и Вениамине; в Манассии и Ефреме; /f. 215c/ в Моисее и Аароне; в Халеве и Иисусе Навине; в двух соглядатаях, посланных в Иерихон Иисусом Навином; в Илии и Елисее; в Иоанне Крестителе и в человеке Иисусе Христе; в двух идущих в Эммаус; в Петре и Иоанне, идущих ко гробу, о которых говорится: «Они побежали оба вместе» (Ин. 20, 4); в них же, поднимающихся во храм в час молитвы девятый (Деян. 3, 1), один из которых [Петр] сказал: «Серебра и золота нет у меня» (Деян. 3, 6); слова «у меня» аббат Иоахим отмечает особо: почему именно Петр употребил их в единственном числе, а не во множественном, ведь у Иоанна также не было ни серебра, ни золота, ибо он был из тех, кому Господь сказал: «Не берите с собою ни золота, ни серебра» (Мф. 10, 9). На этот вопрос отвечают двояко: во‑первых, согласно Епифанию[335], Иоанн после похорон отца своего Зеведея по воле Христа купил тот дом, в котором Христос праздновал Пасху с учениками Своими и заставил Фому уверовать; в сем доме также, запершись, пребывали ученики в страхе перед иудеями. В нем был избран Матфий, дабы быть двенадцатым апостолом. Здесь снизошел на них Дух Святой. Там же Христос совершил трапезу с учениками в день Вознесения. Сей дом был на возвышенном месте Иерусалима. Половину сего дома занимал тот, о котором Господь сказал: «Пойдите… к такому-то и скажите ему: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?» (Мф. 26, 18; Лк. 22, 11). Другую же половину дома прежде занимал Каиафа, поэтому говорят, что ученик тот был знакόм первосвященнику. И вообще, когда говорят о Богоматери, что с того времени ученик сей взял Ее в дом свой (Ин. 19, 27), Епифаний ставит неопределенно «к себе», то есть на Святой Сион. А аббат Иоахим усмотрел в Петре прообраз, поскольку орден проповедников, предвещанный в Петре, желает приписать все себе; и поэтому Петр не произнес: /f. 215d/ «серебра и золота нет у нас», – но сказал: «нет у меня», либо потому, что был неимущим, либо предугадывал тот орден, который все, относящееся к славе, желает приписать себе, либо, в‑третьих, потому что Петр как первый из апостолов уже имел преимущество понтифика и потому начинал говорить первым согласно речению сына Сирахова, 32, 4: «Разговор веди ты, старший, – ибо это прилично тебе».
Еще многое отметил Иоахим, говоря об Исаве и Иакове, – то, что орден, который был прообразован в Исаве, обратится к дочерям Хеттейским[336], то есть к светским наукам, как то: к учению Аристотеля и других философов. Таков орден братьев-проповедников, представленный в вороне, не столько из-за черноты греха, сколько из-за их одеяния.
Стал «Иаков человеком кротким, живущим в шатрах» (Быт. 25, 27). Таков орден братьев-миноритов, который с начала своего появления в мире предался молитвам и набожному созерцанию.
Не лишено тайны также то, что сказано у Иоанна 20, 4: «Побежали оба вместе», – то есть оба ордена появились в одно и то же время и при одном и том же папе Иннокентии III. Ибо блаженный Франциск основал орден братьев-миноритов на десятом году понтификата Иннокентия III, в 1207 г. А что касается слов, что «другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый… Но не вошел во гроб» (Ин. 20, 4–5), так это означает, что орден миноритов появился в мире раньше, в вышеупомянутом году. Блаженный же Доминик основал орден братьев-проповедников в 1216 г., при папе Гонории III, в первый год его понтификата, и прожил в нем пять с половиной лет. Его канонизация была отложена на 12 лет[337]. В Болонье, где покоится его прах, поклоняются ему. А блаженный Франциск прожил в своем ордене полных 20 лет, и ему поклоняются в Ассизи, где и находится его прах. Упокоился же он в 1226 г., в четвер/f. 216a/тый день перед октябрьскими нонами [4 октября][338] вечером в субботу, и погребен в воскресенье. Канонизировал же блаженного Франциска папа Григорий IX в лето Господне 1228, в 17‑й день перед августовскими календами [16 июля]. Перенесение мощей его произошло в 8‑й день перед июньскими календами [25 мая] 1230 г. Блаженный Доминик упокоился при папе Гонории III, в восьмой день перед августовскими идами [6 августа] 1221 г.
Также аббат Иоахим говорит[339] о двух орденах, об ордене миноритов и ордене проповедников, что они были еще прообразованы в Варнаве и Павле и в двух свидетелях Апокалипсиса, 11, 3. И многое такое говорит Иоахим. Он также объясняет применительно к двум орденам место из Иеремии, 16, 16–17, а именно: «Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо очи Мои на всех путях их». А место из Захарии, 13, 7–8: «И Я обращу руку Мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь…» и т. д., – по его мнению, нельзя истолковать иначе как провозвестие об ордене братьев-миноритов, как из-за предшествующих слов, так и из-за последующих.
Затем Иннокентий III отправил к Филиппу, королю Франции, послов сказать, чтобы он вторгся в землю альбигойцев и уничтожил еретиков. Тот, захватив их всех, приказал их сжечь. В 1215 г., на 18‑м году своего понтификата, Иннокентий III созвал Вселенский собор, в котором принимали участие прелаты со всего мира. И я[340] видел его проповедь, произнесенную им на тему: «Очень желал Я есть… сию пасху» и т. д. (Лк. 22, 15), и читал все постановления, которые там были приняты. Среди прочего папа постановил, чтобы впредь не появлялись никакие нищенствующие ордена. Но это постановление из-за нерадивости прелатов не выполнялось. Более того, всякий желающий надевает на себя монашеский капюшон и нищенствует и хвастается тем, что он создал новый орден. От этого среди мирян происходит смятение, ибо это им в тягость, и тем, кто посвящает себя проповеди и учению, кого Господь наставил жить по евангельским заветам, не хватает подаяний. В самом деле, необразованные миряне, без всякого разумения и различия, одной отшельнице оставляют в /f. 216b / завещании столько же, сколько целому братству, в котором бывает по 30 священнослужителей, которые молятся почти ежедневно за живых и усопших. Да увидит это Господь и исправит к лучшему то, что делается плохо. Об остальном, что там [на соборе] было решено, я не буду писать, чтобы не вызвать досады многословием.
В 1209 г. Иннокентий короновал в императоры Оттона IV[341] и потребовал от него клятвенного обещания соблюдать права Церкви. Но Оттон в тот же самый день нарушил клятву и велел разграбить Ромипеты. Вот почему папа отлучил его от Церкви и низложил[342]. После низложения Оттона избрали и увенчали императорской короной Фридриха, сына Генриха[343]. Он издал превосходные законы в защиту свободы Церкви и против еретиков. И всех других Фридрих превосходил богатством и славою, но он злоупотребил ими в своей гордыне. А именно, он самовластно обрушился на Церковь. Заковал в кандалы двух кардиналов, а прелатов, которых Григорий IX[344] призвал на собор, приказал схватить. И папа за это отлучил его от Церкви. Наконец, после того как Григорий претерпел многочисленные притеснения и скончался, Иннокентий IV[345], генуэзец, созвав в Лионе собор, низложил самого императора. По низложении императора и его смерти императорский престол до сих пор остается свободным. Имей в виду, что приведенные выше слова о Фридрихе, папе Григории и Иннокентии IV сказаны наперед и как бы для заключения.
Следующие слова принадлежат Сикарду, епископу Кремонскому. Тогда же в Кремоне был некий муж, простой, весьма верующий и набожный, именем Омобоно [Добрый человек]; после его кончины по заступничеству и заслугам его Господь явил сему миру многочисленные чудеса. По этой причине в 1199 г. я отправился паломником в Рим, был на приеме у верховного понтифика /f. 216c / и милостью Божией успешно добился, чтобы Омобоно церковным решением причислили к лику святых.
И в том же году жители Болоньи пришли в Чезену, чтобы выступить против Маркоальда. И после смерти Генриха VI названный Филипп, брат Генриха, стал королем и был в раздоре с Оттоном, и погиб от меча.
В лето Господне 1199 жители Реджо, находившиеся на службе у пармцев и кремонцев, со своим войском выступили против миланцев и пьячентинцев и подошли к Борго-Сан-Доннино, и между ними произошло большое сражение, и был взят замок Пойяно.
В лето Господне 1200 римляне силой подчинили жителей Витербо, с триумфом доставив в Рим богатую добычу и людей.
В лето Господне 1201 жители Константинополя, питая ненависть к тирану Алексею[346], неожиданно короновали некого Иоанна. Но они же его и низложили во дворце. Вот почему ближайшей ночью его убили варяги[347] Алексея. Во время этого столкновения был освобожден из темницы юноша, сын Исаака[348]. В том же году в восьмой день перед концом сентября [23 сентября] жители Реджо победили, захватили в плен и обратили в бегство жителей Модены в деревне, называемой Формиджине. И жители Реджо гнали их до долины Тенцоне. При этом они захватили моденского подеста, господина Альберто из Лендинары, и почти всех моденцев.
В лето Господне 1202, словно в году юбилейном[349], почти вся Ломбардия заключает соглашение о пятилетнем перемирии. Я по справедливости могу назвать этот год юбилейным, ибо великое множество паломников, во искупление грехов стремившихся в Иерусалим, опоясались мечом[350]. Первыми среди них были Балдуин Фландрский, Людовик, граф Блуаский, а также и Бонифаций, маркиз Монферратский. В том же году в Сирии было сильное землетрясение, сотрясавшее большие и /f. 216d/ малые города. Даже почти весь Тир был разрушен. Кроме того, в той же самой провинции видели великое сражение звезд, в котором северные звезды одержали победу над восточными. Что, несомненно, предвещало собою грядущую погибель. В самом деле, упомянутые паломники, собравшиеся в Венеции и отправившиеся в путь[351] с венецианцами при поддержке досточтимого мужа дожа Энрико Дандоло и венецианских кораблей, сначала напали на Задар, укрепленнейший город в Далмации, расположенный в Адриатическом заливе и враждебный венецианцам; после непродолжительной осады венецианцы его разрушили. Между тем упомянутый юноша, сын императора Исаака, освобожденный из темницы, прибыл к своему родственнику Филиппу[352], королю Германии, умоляя оказать ему помощь. В том же году в июне месяце пришли жители Вероны с боевыми повозками и жители Феррары с боевой повозкой и со своими войсками и осадили замок Рубьеру[353], применяя осадные машины и снаряды для метания камней, однако названному замку они не причинили никакого вреда. В том же году, при господине Герардо Роландини, подеста Реджо, вода реки Секкьи была отдана реджийской коммуне при содействии судей: господина маркиза Гвидо Лупо, гражданина и подеста Пармы, Гвариццо да Микара и Аймерико Додоми, подеста Кремоны, как написано в регистре коммуны[354] Реджо.
В лето Господне 1203 в Сирии было такое множество саранчи, что она погубила все всходы. В том же году упомянутый дож и остальные бароны, проявив единодушие, взяли юношу [Алексея], пересекли Адриатическое море /f. 217a/ и достигли Иллирика. И прежде всего подчинился юноше [город] Дураций. Подчинив и остальное побережье, они через Геллеспонт достигли Константинополя. Между тем находившиеся в Константинополе венецианцы и другие латиняне подвергались жестоким преследованиям со стороны греков и варягов, которые нападали на них, хватали и убивали. И хотя граждан убеждали принять законного наследника престола и изгнать тирана, они отказались; тогда латиняне храбро ворвались в город, разорвали портовые цепи и потопили корабли. И когда они осаждали Влахернский дворец, греки для замешательства врагов установили на стене Одигитрию, то есть икону Святой Девы, сделанную для самой Девы евангелистом Лукой. Эту икону латиняне благоговейно чтили. Затем греки вынесли Василографию, то есть сочинение о царях некого пророка Даниила Ахейца, который в темных выражениях изложил преемственность константинопольских императоров. Когда прочитали о том, что, хотя и придет светловолосый народ на погибель города и завоюет его в тяжелом бою, однако в конце концов (да случится это с ними самими) он погибнет, греки, положившись на это предсказание, внезапно напали на латинян. Но после того как город подвергся смелой атаке и с суши, и с моря и большая часть его была сожжена, тиран бежал. Исаака восстановили, а в июле месяце в соборе Святой Софии торжественно короновали юношу Алексея[355]. Затем, поскольку греки принародно подвергали латинян многочисленным оскорблениям и тайно убивали, латиняне, взявшись за оружие, снова сожгли город и унесли богатую добычу.
Затем юный император, со/f. 217b/брав войско, с помощью баронов обратил в бегство тирана, укрывавшегося в Адрианополе, и покорил Фракию. Но когда паломники потребовали обещанное им большое вознаграждение, император отплатил им неблагодарностью за оказанные ему услуги: вняв дурному совету греков, он тайно и явно противился выплате. И вот, посеяв между ним и латинянами семена раздора, греки, питавшие к нему [Алексею IV] ненависть, сделали императором некого Константина; народ же избрал императором Алексея Мурцуфла[356]. В этой борьбе [за власть] сильнее был Алексей Мурцуфл. А юный Алексей, процарствовав едва шесть месяцев, был задушен; умер и его отец Исаак. Тиран Мурцуфл отказал паломникам, требовавшим выплаты денег. Вот почему венецианцы и паломники, объединившись, напали на город, опустошили все окрестности, обратили в бегство Мурцуфла, скрывавшегося некоторое время в лесных убежищах, захватив его брата, знамя и царскую икону. Греки же, самонадеянно рассчитывая на свою силу, вооруженные скорее бранными речами, чем телесной силой и отвагой душевной, сопротивлялись.
В том же году царь Армении[357] осадил Антиохию, но, хотя он и вошел в нее с войском, не овладел ею. В том же году магистр Петр, кардинал, легат апостольского престола, вручил в Селевкии, городе Киликии, когда я (Сикард. – Прим. пер.) там был, армянскому католикосу мантию, а четырнадцати его епископам митры и пасторские посохи в присутствии армянского царя, получив от него заверение в надлежащей верности святой Римской церкви.
В лето Господне 1204 был большой урожай зерна и винограда: за 12 имперских солидов давали секстарий пшеницы, и за 4 имперских солида – секстарий спельты и гречихи, и за 8 имперских солидов – секстарий бобов. И /f. 217c/ был большой падеж скота и болезни среди волов и свиней; и Пасха пришлась на День святого Марка [25 апреля].
В том же году, поскольку наглость греков, сопровождаемая оскорбительными словами, усиливалась, венецианцы и бароны опоясались для войны и, подступив к городу и с суши и с моря, храбро начали сражение. Греки сопротивлялись, применяя машины, дротики и стрелы. Но когда они выбились из сил, рыцари стремительно вошли в город. Мурцуфл бежал. Жители, приведенные в смятение, выбрали императором другого, а именно Аскари. Но на рассвете латиняне захватили Влахернский и Буссалеонский дворцы. Что же дальше? После уничтожения множества греков народ этот, некогда бывший дщерью премудрости[358], а ныне лишенный ее, покинутый духом совета, рассеялся, как пыль, исчез, как дым, иссох, как трава[359], и народ латинский в апреле месяце победоносно овладел Константинополем[360]. Затем бароны короновали императорским венцом Балдуина, графа Фландрского, с общего согласия разделив империю на части[361]. Именно: четвертая часть досталась императору, половина из трех четвертей – венецианцам, и остальное – паломникам. А маркиз Бонифаций, взявший в жены императрицу Маргариту, [супругу] покойного Исаака, сестру Аймерика, короля Венгрии, потребовал себе Фессалонику. Мурцуфл же, придя к тирану Алексею и пытаясь соблазнить его льстивыми речами, вселяющими какую-то надежду, был ослеплен. Вернувшись в город, он добился у латинян прощения. Но когда он вновь замыслил предательские козни, его по приговору сбросили с колонны Тавра, так что как он возгордился, «восшед на высоту» (Еф. 4, 8), так и /f. 217d/ упал с высоты в пропасть. Когда же Аскари бежал через Геллеспонт, победители латиняне почти овладели греческой монархией. Итак, сбылось пророчество, предсказанное неким греческим астрологом: «Радуйтесь, семь холмов, но не тысячу лет». Ибо со времени Константина[362] не прошло еще тысячи лет, когда семипрестольный град, то есть Константинополь, упал с вершины радости в пропасть уныния.
В том же году над Акрой сияла большая комета. И тогда же досточтимые мужи, господин Сосфред и магистр Петр, кардиналы-пресвитеры, легаты апостольского престола, прибыли из Сирии в Константинополь, где их с почетом приняли в Святой Софии император, латинские и греческие граждане. И там они решили духовные дела между греками и латинянами и совершили при моем участии торжественное богослужение. Ибо и я [Сикард], по повелению названного кардинала, магистра Петра, провел всю торжественную службу трехдневного поста в субботу перед Рождеством Господним в храме Святой Софии. Как и раньше, когда Петр сам совершал паломничество в Сирию из любви к распятому Господу, а я был его спутником, дабы помогать Петру в Армении, так и позже я был его спутником в Греции. В том же году греки, как бы пробудившись, собрались в Адрианополе, изгнав [оттуда] латинян[363].
В лето Господне 1205 Балдуин, император Константинопольский, осадил греков в Адрианополе. Но присоединившиеся к ним извне блакки и куманы[364] схватили его и убили, равно как они схватили и убили некоторых его баронов. Поэтому войско латинян, сняв осаду, хотя и отошло с позором /f. 218a/, но вернулось в Константинополь невредимым. После того, как был похоронен Энрико, венецианский дож, войско возглавил брат императора, по имени Генрих, отважный муж и опытный воин. Также много претерпел от враждебно настроенных греков и блакков маркиз Бонифаций, подчинивший себе Фессалоникийское королевство с прилегающими провинциями. Итак, в этом году фортуна грекам улыбалась и благоприятствовала, а от латинян отвернулась. Это предсказали греческие астрологи. Тем не менее непобедимый маркиз [Бонифаций] отправил взятого им в плен бывшего императора Алексея и жену его [Ефросинью] в Ломбардию, чтобы содержать его под стражей и положить предел тирании, всегда им проявляемой. В том же году достопочтенный папа Иннокентий назначил двух патриархов: Альберта, епископа Верчелли, патриархом (увы!) только по названию Иерусалимским, ибо [Иерусалим] «стал, как вдова; великий между народами, князь над областями сделался данником» (Плач 1, 1), и Фому, венецианца, которого он поставил во главе Константинопольской церкви.
В лето Господне 1206 в Восточной и в Западной империи и в Антиохии по упомянутым причинам разгорелась борьба между указанными знатными мужами.
В лето Господне 1207 из Вероны изгнали маркиза Аццо[365], и из-за этого Верона была разрушена. В том же году в сражении погиб Бонифаций, маркиз Монферратский, оставив наследниками сыновей – Вильгельма в Италии и Димитрия в Фессалонике.
В лето Господне 1208 ссора королей из-за Западной империи поутихла. Ибо Филиппу[366], преступно убитому в [собственной] опочивальне, счастливо наследовал Оттон IV. О нем некому человеку было ночью видение, будто он говорит по благодати Божией и предсказывает будущее в таких /f. 218b/ стихах[367]: Sufflo da terre rex Octo xer errat Adolfus. Xer dolor Octo tibi, suspice: finit ibi.
Смысл этого палиндромона на тот год объясняется так: суффло – «внушаю»; да терре – «скажи земнородным»; рекс Окто ксер – «король Оттон страдает»; эррат Адольфус – «заблуждается Адольф» – Кёльнский архиепископ; ксер долор Окто тиби – «Горе тебе, король Оттон» – пояснение предыдущей фразы об Оттоне; суспице, финит иби – «смотри, конец там»; видение показывает провидцу крайний срок – изображение года буквами на стене.
В том же году в осаде Суццары[368] участвовали боевые повозки из Пармы и Болоньи, находившиеся на службе коммуны Реджо. Осаду предприняли мантуанцы и маркиз д’Эсте, феррарцы и веронцы, моденцы и кремонцы, и с ними находились возле Суццары многие другие с осадными и метательными машинами и прочими орудиями для захвата замка Суццары. И все они бежали, боясь реджийцев и их друзей. И было в этом году великое изобилие хлеба и вина.
В лето Господне 1209 император Оттон гостил на берегах Рено (это бурный поток в Реджийском епископстве), и гостил он также в Сальватерре. И в 11‑й день от начала октября его короновал папа Иннокентий III. И в том же году Салингуерра[369] взял Феррару, удерживаемую маркизом Аццо, и изгнал его. А упомянутый Оттон, получив корону, с многочисленными силами немедленно выступил против отца, короновавшего его, против матери-церкви, породившей его, и тотчас вооружился против сироты – короля[370] Сицилии, единственным покровителем которого была Церковь.
Поэтому в следующем году, то есть в лето Господне 1210, достопочтенный отец Иннокентий, «сильный в деле и слове» (Лк. 24, 19), отлучил /f. 218c/ упомянутого императора от Церкви. Тем не менее [император] послал в Апулию войско во главе с маркизом Аццо д’Эсте. Проходя через Тоскану и собрав большое войско, маркиз захватил некоторые местности силой, некоторые же сдались ему сами, при этом до конца сопротивлялись Витербо, Перуджа, Орвьето и немногие другие. Затем он поспешил в Капую на зимние квартиры.
Об Угвиционе, епископе Феррарском
Угвицион, родом из Тосканы, пизанский гражданин, был епископом Феррары; он сочинил книгу Дериваций[371]. Управлял он епископством энергично, достойно и честно и свою жизнь закончил похвально. Написал он и некоторые другие полезные сочинения, имеющиеся у многих; я также видел и читал их не однажды и не дважды. В лето Господне 1210 в последний день апреля он переселился ко Христу. И был он епископом 20 лет без одного дня.
О господине Николае, епископе Реджийском
В лето Господне 1211 в первый день июня господин Николай[372] получил епископскую кафедру в Реджо. Он был именитым епископом и, так сказать, мужем брани, пользовавшимся расположением императора Фридриха и римской курии. Падуанец по происхождению, из знатного рода Мальтраверси, он был человеком красивым, щедрым, воспитанным и обходительным. Он велел построить большой дворец для реджийской епископии. Он так возлюбил братьев-миноритов, что пожелал отдать им для жительства главную, то есть кафедральную, церковь. И с этим согласились каноники, жившие там, и хотели из любви к братьям уйти и поселиться в часовнях города Реджо, но братья-минориты по своему смирению не позволили им этого и наотрез отказались. Этому епископу пожаловались, что его лавочник утаивает от братьев-миноритов установленные им хлебные подаяния. И поэтому епископ позвал его к себе и весьма сурово его упрекал, говоря: «Разве не говорит сын Сирахов 4, 1: “Сын мой! не отказывай в пропитании нищему”?» Но понимая, как свидетельствует Соломон в Притчах, 29, 19, что «словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается», епископ посадил его в тесное и лишенное света узилище и кормил «его скудно хлебом и скудно водою» (3 Цар. 22, 27), а затем прогнал от себя. Да будет он благословен! Ибо он знал, что «род рабов исправляется только наказанием», как сказал некий тиран воспитателям святого Ипполита[373]. «Да будет благословен /f. 218d/ маркиз Монферратский, – говорит Патеккьо[374], – пощадивший всех, кроме оруженосцев». Весьма жалки те люди, которые, после того как их при дворах вельмож возвеличили и осыпали почестями, становятся алчными, чтобы выказать себя хорошими блюстителями и хранителями имущества своих господ, и утаивают от бедняков и мужей праведных то, что потом отдают своим содержанкам; и иногда, в некоторых случаях, жены и дочери господ становятся любовницами слуг, лавочников и гастальдов, потому что только из рук подобных людей они могут получить хоть что-то из домашних вещей. Весьма жалки и подобные господа, больше заботящиеся о тленных вещах, чем о собственной чести и телах жен и дочерей. Все это «видело око мое» (Сир. 16, 6) и подробно отмечало. Итак, господин Николай, епископ Реджийский, был сильным и опытным во многих делах мужем. Ибо с клириками он был клирик, с монахами – монах, с рыцарями – рыцарь, с баронами – барон.
В том же году император Оттон, продвигаясь по Апулии, захватил города и земли до Поликоро, принудив их к сдаче. А в это время германские князья избрали императором уже упоминавшегося нами короля Сицилии Фридриха, сына покойного императора Генриха VI, и побуждали его поспешить в Германию. Услышав об этом, император [Оттон], посетивший курию в Лоди, можно сказать, напрасно (ибо маркиз д’Эсте с согласия верховного понтифика уже заключил с жителями Павии, Кремоны и Вероны союз для противодействия ему), поспешил без всякой славы вернуться в Германию.
В лето Господне 1212 упомянутый король Сицилии[375] прибыл в Рим, где его торжественно приняли верховный понтифик и римляне. Затем, на корабле достигнув Генуи, он с их помощью и с помощью маркиза /f. 219a/ Вильгельма Монферратского был препровожден до самой Павии и со славою там принят, после чего они проводили его до Ламбро. Кремонцы, радостно встретившие его у Ламбро, проводили его в Кремону, развлекая по пути веселыми плясками и турниром. Но при возвращении многие рыцари из Павии были взяты в плен миланцами. А король, весьма счастливо проходивший через Мантую, Верону и Тренто, со славою пребывал в каждом городе. Отсюда он через Кур вступил в Германию и, получая ежедневно от князей уверения в преданности, был коронован в Майнце; после этого присутствовал в Регенсбурге на торжественном собрании двора и получил заверения в преданности от короля Богемии и от многих других князей. В этом же году, в первый день от начала августа, пешее и конное войско реджийцев, находившееся на службе у болонцев, подошло к горе Самбука в Пистое, чтобы выступить против жителей Пистои.
В том же самом году Альмирамамолиний[376], король Мавритании, придя в Испанию с бесчисленным множеством сарацин, угрожал захватить не только Испанию, но даже и Рим, и более того – всю Европу. Но папа Иннокентий велел собрать против них множество христиан-крестоносцев; они прежде всего взяли замок Малагон, затем, заняв Калатраву, Аларгос, Бенавент, Педробуену, стали лагерем у входа в ущелье Пуэрто-Мурадал. Ущелье было таким узким, что, казалось, двести человек могли воспрепятствовать проходу всех людей. И вот, пока наши колебались, двое живущих во Христе явились под видом торговцев, и во главе с ними все войско христиан неожиданно для сарацин обошло гору с другой /f. 219b/ стороны и в субботний день [14 июля] расположилось лагерем недалеко от лагеря врагов Христовых. На рассвете в понедельник, 16 июля, построившись на поле в боевом порядке, сошлись христиане и враги Христовы. И по милости Спасителя враги, уничтожаемые христианнейшими королями Арагона, Наварры и Кастилии[377], обратились в бегство; неисчислимые тысячи их поглотил меч[378] христианский. Ибо, преследуемые на протяжении пяти миль[379], гибли они бессчетно[380]. Затем наши, одержав победу и продвигаясь вперед, отважно захватили город Убеду. В нем они уничтожили шестьдесят тысяч неверных обоего пола. Наконец христианское войско двинулось восвояси, воздавая благодарность Спасителю, Коему честь и слава во веки веков. Аминь.
Здесь кончаются слова епископа Сикарда.
Начиная с этого места, слог становится неотделанным, грубым, тяжелым и косноязычным, часто он не следует даже правилам грамматики, зато согласуется с ходом истории. И потому отныне нам надо будет приводить его в порядок, улучшать, дополнять, сокращать и излагать хорошо грамматически, когда будет необходимо, как мы уже сделали – и это ясно видно – выше, во многих местах этой самой хроники, где мы обнаружили множество ошибок и неточностей; некоторые из них были внесены переписчиками, делавшими много ошибок, а другие были допущены первыми сочинителями[381]. А те, кто добавлял что-нибудь после них, в простоте душевной следовали им, не размышляя, правильно те сказали или нет. И делали они это либо во избежание трудностей, либо случайно, потому что не имели опыта составления истории. И все же лучше, чтобы они написали хоть что-нибудь, пусть и простым слогом, чем вообще опустили что-то из происходящего. Ибо от них мы знаем, по крайней мере, и в каком году от Воплощения Господня /f. 219c/ произошло то или иное, и хоть какую-то правду об истории, о деяниях и о случившихся событиях, чего мы, пожалуй, не знали бы, разве только Бог пожелал бы открыть, как Он открыл Моисею, Ездре, и Иоанну в Апокалипсисе, и мученику Мефодию[382] в темнице, и многим другим, кому были открыты будущее и тайны небесные. Вот почему блаженный Иероним говорит[383], что «в скинии Господней каждый предлагает то, что он может. Одни предлагают золото и серебро и драгоценные камни, другие – виссон и пурпур, и червленую ткань, и аметист. Что до нас, то хорошо, если мы предложим шкуры и козью шерсть. И однако апостол полагает наши жалкие дары более необходимыми. Потому и вся эта красота скинии, которая отдельными особенностями является прообразом Церкви настоящей и будущей, покрывается шкурами и тканями из козьей шерсти, и вещи более дешевые защищают ее от солнечного зноя и непогоды». То же самое мы сделали и во многих других хрониках, которые мы написали, издали и исправили.
Далее, в вышеупомянутом году король Франции и граф де Монфор приняли знак креста и приготовились вместе с другими крестоносцами оказать помощь в сражении войску, бывшему в Испании[384], когда император Сарацинский, у которого было пятьдесят королей, потерпел поражение при Мурадале[385] от трех испанских королей – Кастилии, Наварры и Арагона, поддерживаемых португальцами; одиннадцать тысяч их, сражавшихся в первых рядах, погибли[386].
В том же самом году, то есть в 1212-м, неисчислимое множество паломников – бедных людей обоего пола и детей из /f. 219d/ Тевтонии, побуждаемых тремя отроками[387] двенадцатилетнего возраста, принявшими знак креста в области Кёльна и говорившими, что им было видение, прибыло в Италию. Они единодушно и в один голос говорили, что пройдут по морю, как по суше, и вернут Господу Святую землю – Иерусалим; но потом все затихло. В том же году был такой сильный голод, особенно в Апулии и Сицилии, что матери поедали даже детей.
В лето Господне 1213, на пятидесятый день после Святой Пасхи, в День святых мучеников Марцеллина и Петра, а именно 2 июня, кремонцы пришли на помощь жителям Павии, многие из которых, как мы сказали выше, были захвачены миланцами при переезде короля из Павии в Кремону; все как один они собрались с боевой повозкой у Кастеллеоне, имея поддержку всего лишь 300 рыцарей из Брешии. И вот «внезапно сделался шум» (Деян. 2, 2), так как миланцы со своей повозкой летели как стрелы и неслись как молния. К ним на помощь пришли рыцари и лучники из Пьяченцы, конные и пешие из Лоди и Кремы, из Новарры и Комо, и столько же или более из Брешии, сколько, как уже сказано, пришло на помощь кремонцам. Все они единодушно, с яростным криком, одним порывом и натиском нападают на кремонцев и прочих рыцарей «извне»[388], атакуют, обращают их в бегство, захватывают и одолевают. Тем не менее кремонцы одержали победу над миланцами и их войском и, силой /f. 220a/ овладев боевой повозкой упомянутых миланцев, с ликованием привезли ее в город Кремону в знак победы. В том же году, 13 июня, коммуна Болоньи обещала и поклялась начать войну с моденцами в защиту коммуны Реджо, и служить ей, и не заключать мира с вышеназванными моденцами без согласия реджийской коммуны.
В лето Господне 1214 рыцари из Реджо, находившиеся на службе у кремонцев и пармцев, пришли в епископство Пьяченцы поживиться имуществом жителей Пьяченцы и остановились близ Коломбы, монастыря ордена цистерцианцев.
В лето Господне 1215 папа Иннокентий III провел в Латеране Вселенский собор. На нем он исправил и упорядочил церковную службу, добавив то, что полагалось, и освободив от ненужного. До сего времени она не была приведена в надлежащий порядок, как того желали многие и требовало действительное положение дел, ибо в ней было много лишнего, и это вызывало скорее раздражение, чем религиозное чувство, как у слушающих, так и у служивших мессу. Например, первая воскресная служба[389], когда священники должны служить свои мессы и народ их ожидает, а того, кто должен служить, нет, так как он занят на этой первой службе. Равным образом вызывает только досаду и чтение восемнадцати псалмов во время воскресной всенощной перед пением «Тебе Бога хвалим», как летом, когда и блохи докучают, и ночи короткие, и жара сильная, так и зимой. До сих пор в церковной службе есть многое, что можно было бы изменить к лучшему, и это было бы уместно, ибо много в ней нелепого, хотя не все это понимают.
В лето Господне 1216, в июле месяце, в Перудже скончался папа Иннокентий III, и покоится он, погребенный в кафедральной церкви. /f. 220b/ В его время Церковь процветала и была сильной, главенствуя над Римской империей, над королями и правителями всей земли. Однако начало брани и разногласиям между Римской империей и Церковью положил он сам со своими императорами Оттоном IV и Фридрихом II, которого он возвеличил и назвал сыном Церкви. Сам же Фридрих был человеком, несущим гибель, проклятым, раскольником, еретиком и эпикурейцем, разорителем всей земли[390]. Ибо он посеял в городах Италии семена разделения и раздора, которые произрастают по сей день, так что сыновья могут посетовать на отцов словами пророка Иезекииля, 18, 2: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». И то же говорит Иеремия в конце Книги Плача (5, 7): «Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их». Вот почему кажется, что сбылись слова Иоахима[391], сказанные императору Генриху, отцу Фридриха, вопрошавшему еще в детские годы сына, каким он будет. Аббат ответил: «О, король! Мальчик твой – разрушитель, негодный сын и наследник твой. Увы, Господи! Он приведет в беспорядок землю и будет “угнетать святых Всевышнего” (Дан. 7, 25)». Вот почему с Фридрихом случилось то, что сказал Господь устами Исаии об Ассуре или о Сеннахериме, Ис. 10, 7: «У него будет на сердце – разорить и истребить немало народов». Все это воплотилось во Фридрихе, как мы видим своими глазами, мы, живущие ныне, в 1283 г., когда мы пишем это в канун Дня святой Магдалины[392]. Однако папу Иннокентия можно оправдать, поскольку он по доброму побуждению низложил Оттона и вознес Фридриха согласно стиху Псалма, 74, 8: «Одного унижает, а другого возносит».
И заметь: папа Иннокентий был человеком смелым и великодушным. В самом деле, однажды он приложил к себе несшитый хитон[393] Господень, и ему показалось, что Господь был небольшого роста, а когда он надел его /f. 220c/, тот оказался больше его самого. И он испытал перед Ним великий трепет и почтил Его так, как и подобало. Он же однажды произносил перед народом проповедь, держа, как и обычно, перед собою книгу. Когда же капелланы спросили, зачем он, такой мудрый и образованный, делает это, он ответил: «Я делаю это ради вас, дабы дать вам пример, ибо вы необразованы и стыдитесь учиться». Он был человеком, который «в ткань своих забот» вплетал «порой и веселье»[394]. Когда однажды некий жонглер из Анконской марки приветствовал его словами: Папу Иннокентия, / Смертных просветителя, / Приветствует Скатуччи, / О господин мой лучший! – папа в ответ ему сказал: Откуда ты, Скатуччи? – Скатуччи: Из замка Рекано. / Я родился тамо. – Папа: Если в Рим твоя дорога, / то даров получишь много, то есть: «Я сделаю тебе добро!» Так сказал ему папа, как тому учит грамматика: «В каком духе вопрос, в таком же духе должен быть ответ», – ибо как жонглер говорил нескладно, так и ответ получил нескладный.
Однажды во время проповеди прихожанам папа заметил некого школяра, смеявшегося над его словами. И по окончании проповеди он незаметно позвал его в свои покои и спросил у него, почему тот смеялся над священными словами, тогда как они полезны для спасения души. И ответил школяр, что слова, которые папа произносил, – это только слова; сам же он [школяр] умеет показывать на деле, как вызывать мертвых и [приказывать] демонам. И по его словам папа понял, что он некромант и что он выучился этому в Толедо[395], и попросил его вызвать одного своего умершего друга для доверительной беседы с ним и для того, чтобы узнать у него о состоянии его души /f. 220d/. И вот они выбрали пустынное и уединенное место в Риме, куда папа пришел под видом прогулки и повелел своим спутникам отойти от него и ожидать его возвращения. Они подумали, что папа удалился по нужде, и исполнили, что он им сказал. И вот школяр вызвал Иннокентию архиепископа Бисмантовы[396], явившегося с той пышностью и тщеславием, с какими он обычно приходил в курию. А именно: первыми шествовали отроки, которые должны были приготовить покои, затем – в большом количестве – ослы, навьюченные сокровищами, затем – челядь, обученная прислуживать, затем – рыцари и, наконец, он сам в сопровождении многочисленных капелланов. И когда некромант вопросил его, куда он направляется, тот ответил, что он идет в курию к папе Иннокентию, своему другу, который пожелал его видеть. Школяр ему в ответ: «Вот он, твой друг Иннокентий, он желает знать, каково тебе [там]». Тот ему сказал: «Плохо мне, ибо я осужден за свою любовь к пышности, за тщеславие и другие грехи, совершенные мною. И я не покаялся и потому предан демонам и тем, кто “нисходит в преисподнюю” (Пс. 113, 17)[397]». И вот по окончании взаимной беседы видение исчезло, и папа вернулся к своим. Иннокентию наследовал Гонорий III[398].
В вышеуказанное лето Господне 1216 около замка Святого Архангела рыцари и лучники, находившиеся на службе у жителей Болоньи, выступили против жителей Римини и осадили этот замок, и оставались там в течение долгого времени, пока не был заключен мир; и все те из Чезены, которые находились в темнице в Римини, были отпущены (а было их семьсот человек). И в ту зиму было очень много снега, и лед был очень крепким, так что он поломал виноградники, и река По покрылась льдом, на котором /f. 221a/ женщины водили хороводы и рыцари устраивали турниры. И крестьяне переправлялись через По на телегах, двуколках и волоком. И стоял упомянутый лед в течение двух месяцев. И в то время продавали секстарий пшеницы за девять империалов, бывших в обращении, и секстарий спельты – за три империала. И госпожа королева, супруга императора Фридриха, сына покойного императора Генриха VI, направляясь из Апулии в Германию к своему упомянутому мужу, прибыла в Реджо. И пока королева пребывала там, ее содержала реджийская коммуна.
В лето Господне 1217 папой стал Гонорий III; он созвал собор, на котором постановил отлучать от Церкви тех, кто выносит любое решение, ущемляющее свободу Церкви; и постановил, чтобы ни один священник или прелат не слушал этих решений и чтобы их не читали в Париже. И он отстранил епископа, который не читал Доната[399]. И установил, чтобы перед причащением всегда зажигали свечу и чтобы священник нес причастие к больному перед грудью.
В лето Господне 1218, в июне месяце, реджийцы, находившиеся на службе у кремонцев и пармцев, выступили со своим войском против миланцев и их партии в Дзибелло; и в один из дней трехдневного поста [7 июня] произошло большое сражение между ними. И с той и другой стороны было много убитых, и еще больше было захвачено в плен. И между Реджо и Пармой был заключен союз, и господин Гвидо из Реджо был подеста в Парме. И в том же самом году христиане-паломники осадили Дамьетту.
В лето от Воплощения Господня 1218, в VI индикцион, в середине мая[400] был осажден город Дамьетта, все христиане погрузились на корабли и в какую-то из следующих недель, во вторник[401], вступили в землю египетскую и расположились лагерем возле города Дамьетты, и оставались там все лето и зиму; и в следующем, 1219 г., в IX индикцион, в пятый день от начала ноября, в канун Дня святого Леонарда, христиане-паломники в честь Господа нашего Иисуса Христа овладели Дамьеттой. Это произошло в правление короля Иерусалимского Иоанна, мужа выдающегося, знатного, благоразумного, большой веры и скромности, и при патриархе Иерусалимском, украшенном знанием и добронравием, и при участии многих других знатных рыцарей, которые перечислены в истории, описывающей взятие этого города[402].
В лето Господне 1219 христиане захватили Дамьетту.
В лето Господне 1220 папа Гонорий III короновал в /f. 221b/ Риме, в соборе Святого Петра, в день памяти святой девы и мученицы Цецилии [22 ноября] Фридриха, сына императора Генриха; была коронована императрицей и супруга его, королева Констанция, при всеобщем согласии римлян (что вряд ли можно было услышать когда-либо о каком-либо императоре). И правил он 30 лет и 11 дней; и скончался он в тот же самый день, в который был коронован, в Апулии, в небольшом городке, называемом Фьорентино, возле Лучеры Сарацинской[403]. В упомянутом году реджийцы, пармцы и кремонцы осадили замок Гонзаги, который удерживали мантуанцы и Альберто, граф ди Казалольдо из епископства Брешии. В том же году начали рыть и вырыли канал Талеату, то есть отвели рукав и пустили в него воды По. И во вторник, 16 июня, мантуанцы, веронцы, феррарцы и моденцы захватили замок Бондено[404]. В том же году, 10 августа, в День святого Лаврентия, люди из Бедулло, собравшиеся туда из Фаббрико и Кампаньолы, чтобы сжечь и разграбить Бедулло, победили, обратили в бегство и захватили мантуанцев.
В лето Господне 1221, в 8‑й день перед августовскими идами [6 августа] скончался блаженный Доминик. И в том же самом году, в седьмой день перед октябрьскими идами [9 октября], в День святых Дионисия и Донина, родился я, брат Салимбене де Адам из города Пармы. И как рассказывали мне родители мои, воспринял меня от святой купели в пармском баптистерии, находившемся рядом с моим домом, господин Балиано Сидонский[405], великий барон из Франции, прибывший из Святой земли к императору Фридриху II. То же самое поведал мне гость из города Акры, брат Андрей из ордена братьев-миноритов, который находился в свите упомянутого господина, будучи его спутником в путешествии. Он видел мое крещение и поделился своими воспоминаниями об этом /f. 221c/.
В лето Господне 1222 жители Болоньи и Фаэнцы разрушили рвы города Имолы и перенесли ворота этого города в город Болонью[406]. В том же самом году, в Рождество Господа нашего Иисуса Христа, во время проповеди господина Николая, епископа Реджийского, в кафедральной церкви Святой Марии, в Реджо-Эмилии произошло сильнейшее землетрясение[407]. Это землетрясение охватило всю Ломбардию и Тоскану. Но особо говорили о землятресении в Брешии, ибо там оно было наиболее сильным, так что жители, покинув город, жили в палатках, чтобы не оказаться под руинами зданий. И от этого землетрясения рухнули многие дома, башни и замок в Брешии. И жители Брешии так привыкли к этому землетрясению, что, когда падала кровля с какой-нибудь башни или дома, они смотрели и громко смеялись. Это землетрясение некто описал в следующих стихах:
- В лето тысяча двести двадцать второе, считая
- С оного дня, как Ты воплотился, Иисусе, телесно,
- Ты нам явил, восславляемый Царь, чудеса таковые:
- Август был на исходе, когда просияла комета;
- Шел сентябрь, когда дождь потопил и грозди и лозы,
- И разрушил дома, разлившись хищным потоком;
- В месяц ноябрь луна претерпела затмение в небе;
- В самый день Рождества Христова на утренних зорях
- Стон ужасный земля издала и страшно дрожала,
- Рушились кровли, тряслись города и падали храмы,
- Много знатных господ испустили дух под обвалом, —
- В Брешии больше всего в руинах погибло народу,
- Даже реки хлынули вспять, устремляясь к истокам /f. 221d/.
Мать моя[408], бывало, часто рассказывала мне, что во время этого землетрясения я лежал в колыбели, а она сама, взяв двух моих сестер, каждую под мышку (ибо они были маленькие), и оставив меня в колыбели, бежала к дому своего отца, матери[409] и братьев. Ибо она боялась, по ее словам, как бы на нее не обрушился баптистерий, поскольку он был рядом с моим домом. И от того-то я ее не так сильно любил, потому что она должна была заботиться более обо мне, мужчине, чем о дочерях. Но она говорила, что нести их ей было удобнее, потому что они были побольше меня.
В лето Господне 1223, в майские календы [1 мая], мантуанцы захватили кремонцев вместе с их груженными солью кораблями, которых было около сотни, и разграбили их, и утопили корабли на дне Бондено.
В лето Господне 1224 приплыли на кораблях мантуанцы и устроили засаду на реджийской дороге, на болотах и выше Талеаты, и навалили груды сушняка, чтобы поджечь мосты и корабли, находившиеся в затоне. И в то время скончался господин Якопо де Палуде, и из-за него был величайший раздор между людьми де Палуде и людьми да Фолиано[410].
В лето Господне 1225 при содействии реджийского подеста, господина Раванино ди Беллотти из Кремоны, было заключено перемирие между жителями Реджо и Мантуи.
В лето Господне 1226, в 4‑й день перед октябрьскими нонами [4 октября], в субботу вечером, из этого гибельного мира отошел в царствие небесное блаженный Франциск[411], основатель и наставник ордена братьев-миноритов; и погребли его в воскресенье в городе Ассизи, и отмечен он был стигматами Иисуса Христа, и закончил он 20 лет своей деятельности[412] от начала своего обращения. Ибо начал он [проповедовать] в 1207 г. при папе Иннокентии III. О нем поют[413]:
- Начав при Иннокентии,
- Скончал он при Гонории
- Свой путь земной отменный.
- За ними став понтификом,
- Григорий чудославного
- Премного возвеличил.
В вышеупомянутом году в округе Каноссы скончались /f. 222a/ господин Уголино да Фолиано и господин Гвидо да Байзио.
В лето Господне 1227 зерно и съестные припасы были очень дорогими: секстарий пшеницы продавали за 12 и 15 имперских солидов, и секстарий спельты – за 5 и 6 имперских солидов, и секстарий сорго – за 8 имперских солидов, и фунт свинины – за 12 имперских солидов.
В лето Господне 1228 около замка Баццано собрались болонцы, имея при себе боевую повозку, а против них выступили моденцы, пармцы и кремонцы, сжигая на своем пути земли болонские, и дошли они до реки Рено и напоили ее водой своих коней. И когда они шли обратно по дороге, в округе Санта-Мария-ин-Страда им навстречу вышли болонцы, и между ними произошло величайшее сражение[414], и весьма многие с обеих сторон погибли. В том же году, пока болонцы стояли возле Баццано, моденцы, пармцы и кремонцы захватили и сожгли замок Пьюмаццо. И в этом году в день памяти святого Христофора [в январе] начал идти обильный снег; а до этого дня стояла такая прекрасная погода, и зима была такой теплой, что дороги были пыльными. В этом году первую праздничную мессу в церкви Святой Троицы в Кампаньоле отслужил господин кардинал Уголин, который был ректором, протектором и корректором ордена братьев-миноритов и выполнял обязанности легата в Ломбардии. И в том же году скончался Гонорий[415], и папой избрали упомянутого господина кардинала Уго, получившего имя папы Григория IX, и был он из города Ананьи /f. 222b/.
Сей Григорий из пяти томов Декреталий сделал один. Он же долгое время находился в раздоре и воевал с императором Фридрихом II, причинившим много зла Церкви Божией, воспитавшей его и короновавшей, так что корабль Петра при означенном папе чуть не погрузился в бездну. Сюда подходят слова аббата Иоахима[416], сказанные им о римских понтификах, а именно: «Одни будут пытаться противостоять правителям, другие же проведут свои дни мирно». В самом деле, Александр III, и Иннокентий III, и Григорий IX, и Иннокентий IV много имели тяжб с правителями государства. А Гонорий III, Александр IV и Климент IV жили мирно. Таким образом, почти весь патримоний святого Петра[417] был захвачен названным императором Фридрихом; и по вине этого императора многие прелаты и даже кардиналы подвергались смертельной опасности как на суше, так и на море.
В том же самом году испанцы вновь обрели Мериду, главный город Лузитании, город Бадахос, замок Эквину и Клавигану в Альгарвии, Эльвас, Румению и Аликост, Серпу и Мору, Кордову и Валенсию, и королевство Майорку, и множество других земель. И в том же году Венгрия была сильно разрушена куманами и татарами.
Этот папа отлучил от Церкви греков за то, что они неправильно толковали исхождение Святого Духа, и за то, что они не пожелали повиноваться его главенству, то есть Римской церкви. И в том же году, в 17‑й день перед августовскими календами [16 июля], вышеупомянутым папой был причислен к лику святых и канонизирован блаженный Франциск. Он же канонизировал блаженную Елизавету[418], которая была дочерью короля Венгрии и супругой ландграфа Тюрингского; среди прочих /f. 222c/ бесчисленных чудес она воскресила 16 умерших и одарила зрением слепого от рождения. Кажется, что и сегодня из ее мощей истекает елей. Сия святая по смерти супруга своего жила в послушании у братьев-миноритов и всегда была им предана.
В лето Господне 1229, в августе, болонцы осадили замок Сан-Чезарио[419] и взяли его на виду у жителей Модены, Пармы и Кремоны, которые были там со своими войсками. Поскольку болонцы укрепились, то находившиеся в противоположном стане не могли к ним подойти. И однако ночью между ними и болонцами произошло величайшее сражение. У болонцев были метательные орудия на телегах (что являлось тогда необычным видом ведения войны), они метали камни в боевую повозку пармцев и в их сторонников. И боевая повозка пармцев лишилась людей, так что на ней остался только один господин Якопо де Бовери; когда свои ему говорили, чтобы он сошел с нее, а то его убьют, он хвастливо отвечал, что охотно примет смерть за честь пармской коммуны. Но сказано в Книге Екклесиаста 7, 17: «Не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?» Ибо «благоразумно бояться, – говорит Иероним, – того, что может случиться»[420]. Однако там он не погиб. Кремонцы быстро подоспели на помощь пармской повозке[421], поскольку жители Пармы и Кремоны в то время крепко дружили. В самом деле, в другом сражении, у Санта-Мария-ин-Страда, когда кремонцы, возвращавшиеся от реки Рено, первыми столкнулись с болонцами и сразу ими были повержены, помощь им быстро оказали пармцы, также возвращавшиеся от Рено. В этом сражении (я говорю о сражении при Санта-Мария-ин-Страда) не участвовали пешие, а только конные. В сражении у замка Сан-Чезарио погиб господин Бернардо ди Оливьеро де Адам из Пармы, прославленный /f. 222d/ судья и опытный воин. Тело его отнесли и положили в пармском баптистерии, находившемся рядом с его домом, и он лежал там на погребальных носилках до тех пор, пока не собрались его родственники и друзья. Затем его тело положили в гробницу, находившуюся перед входом в церковь Святой Агаты, которая является часовней при кафедральной церкви города Пармы и примыкает к ней с южной стороны. Бернардо ди Оливьеро де Адам был близким родственником моего отца. Ведь они были сыновьями двух братьев.
Упомянутый же отец мой Гвидо де Адам был мужем красивым и храбрым; некогда, во времена Балдуина, графа Фландрского, он участвовал в походе за море для защиты Святой земли. Об этом походе я упоминал выше[422]; это было еще до моего рождения. И от отца моего я слышал, что, в то время как другие ломбардцы, находясь в заморских краях, вопрошали прорицателей о состоянии дел у себя дома, отец мой не пожелал вопрошать их; и когда он возвратился, то нашел в доме своем порядок и спокойствие, а у других было горе, как им и было предсказано прорицателями. Я также слышал от него, что конь его, которого он брал с собой в Святую землю, превосходил [коней] всех, с кем он общался, красотой и выносливостью. Равно я узнал от отца моего, что, когда закладывали пармский баптистерий, он положил в его основание камни как знак памяти, и когда построили баптистерий, были еще целы дома моих родственников. Но после того как их дома были разрушены, они переехали в Болонью и стали гражданами этого города и назывались они де Кокка.
Далее. В старину члены моей семьи назывались Гренони, как я нашел в старых грамотах, затем были названы де Адам. Были в городе Парме другие, Грелони, которые пишутся через «л» /f. 223a/; они жили в Кодепонте, на дороге, ведущей в Борго-Сан-Доннино; у них перед входом был знаменитый вяз, называвшийся вязом Джованни Грелони. Поэтому когда говорят, что Оливьеро Гренони создал общество Святой Марии Пармской, то это был Оливьеро де Адам, отец вышеупомянутого судьи. Ведь у Адама деи Гренони было два сына, одного из которых звали Оливьеро де Адам, другого – Джованни де Адам. У Оливьеро де Адам родились два сына, а именно: Бернардо ди Оливьеро, упомянутый судья, и Роландо ди Оливьеро. У Бернардо ди Оливьеро родились четыре сына: Леонардо, Эмблавато, Бонифачо и Оливьеро, – и четыре дочери: госпожа Айка, монахиня в монастыре Святого Павла, госпожа Рикка, госпожа Романья, сестра [монахиня] в монастыре Святой Клары в Болонье, и Мабилия, которая умерла в девичестве. У Роландо ди Оливьеро родились шесть сыновей: Бартоломео, Франческо, Оливьеро, Гвидо, Пино и Роландино, – и две дочери: Мабилия и Альберта. Далее, у Джованни де Адам было два сына: Адамино, который был человеком доблестным, воспитанным и образованным, он умер бездетным, и Гвидо де Адам, у которого было четыре сына; старший из них, брат Гвидо де Адам, провел конец своей жизни в ордене миноритов. У него была жена по имени Аделассия, знатная госпожа, дочь господина Герардо деи Баратти; от нее Гвидо де Адам имел только одну дочь, которую звали сестра Агнесса. Обе, мать и дочь, похвально закончили свою жизнь[423] в пармском монастыре ордена святой Клары. Брат же Гвидо, муж и отец, в миру был судьей, а в ордене /f. 223b/ братьев-миноритов был священником и проповедником. Эти Баратти хвалились тем, что были родственниками графини Матильды[424] и что из их семьи ушли на войну, служа пармской коммуне, сорок рыцарей. Второго сына Гвидо де Адам звали Никколό, и он умер в детском возрасте, согласно реченному: «Пока я еще ткал, Он отрезал меня от основы» (Ис. 38, 12)[425]. Третий сын – я, брат Салимбене, достигнув развилки пифагорейской буквы «γ»[426], то есть по завершении трех пятилетий, каковые составляют цикл в пятнадцать лет, вступил в орден братьев-миноритов[427], в котором прожил много лет, будучи священником и проповедником; и я много повидал, жил во многих провинциях[428] и многому научился. В миру некоторые называли меня Балиано де Сагитта – то есть они хотели напомнить о Сидоне – из-за упомянутого господина[429], воспринявшего меня от святой купели. А мои товарищи и домашние называли меня Оньибене[430]. С этим именем я жил в ордене в течение целого года. И когда я шел из Анконской марки на жительство в Тоскану и проходил через Читтà-ди-Кастелло, я повстречал в пу́стыни одного известного брата, старца, «насыщенного днями» (Быт. 25, 8) и по заслугам вознагражденного, у которого в миру было четыре сына-рыцаря. Он был последним братом, которого, по его словам, блаженный Франциск и наставил и принял в орден. Услышав, что меня зовут Оньибене, он изумился и молвил мне: «Сын, “никто не благ, как только один Бог” (Лк. 18, 19). Отныне пусть имя твое будет брат Салимбене, ибо ты хорошо прыгнул[431], вступив в хороший монастырь». И я возрадовался, понимая, что все разумно устраивалось, и видя, что имя мне дал такой святой муж. Однако имя, которое мне было любезно, я не носил. Ибо я желал, чтобы меня звали Дионисием, не только из-за почитания этого выдающегося наставника, ученика апостола /f. 223c/ Павла, но еще и потому, что я явился на свет в день его памяти [9 октября]. Итак, я видел последнего брата, которого принял в орден святой Франциск; после него Франциск уже никого не принимал и не наставлял. Видел я также и первого, а именно брата Бернарда да Квинтавалле, с которым я прожил одну зиму в сиенском монастыре[432]; он был моим близким другом и рассказывал мне и другим юношам о многочисленных деяниях блаженного Франциска, и от него я узнал и услышал много хорошего.
Отец мой всю свою жизнь испытывал огорчение по поводу моего вступления в орден братьев-миноритов и не получил утешения, поскольку у него не оставалось сына, который наследовал бы ему. И он пожаловался императору[433], прибывшему тогда в Парму, что братья-минориты отняли у него сына. Тогда император написал брату Илии, генеральному министру ордена братьев-миноритов, чтобы он, если дорожит его милостью, внял ему и вернул бы меня отцу моему. Ибо в орден в лето Господне 1238 меня принял брат Илия, когда он, по поручению папы Григория IX, направлялся к императору в Кремону. Затем отец мой прибыл в Ассизи, где находился брат Илия, и подал в руки генеральному министру письмо императора. Письмо начиналось так: «Дабы облегчить горестные вздохи нашего верного Гвидо де Адам…» и т. д. Брат Иллюминат, который был тогда секретарем и писарем брата Илии и который, кроме того, отдельно заносил в тетрадь все замечательные письма, присылаемые государями всего мира генеральному министру, показал мне это письмо, когда я по прошествии времени жил с ним в сиенском монастыре. Позже брат Иллюминат был министром в провинции святого Франциска, потом он стал епископом в Ассизи, где и встретил последний день своей жизни.
И вот, прочитав письмо императора, брат Илия тотчас /f. 223d/ написал письмо братьям монастыря в Фано[434], где я жил, чтобы они, если я захочу, со смирением без промедления вернули меня моему отцу, и наоборот, если я не желаю идти с моим отцом, чтобы они хранили меня, любезного [им], как зеницу ока своего[435]. И вот с моим отцом пришло много рыцарей к обители братьев в городе Фано, чтобы видеть исход моего дела; для них я сделался позорищем[436], а для себя самого – виновником спасения[437]. Когда собрались братья и миряне в капитуле и с обеих сторон было сказано много слов, мой отец принес письмо генерального министра и показал братьям. По прочтении его брат Иеремия, кустод, в присутствии всех ответил моему отцу: «Господин Гвидо, мы сострадаем вашему горю и готовы повиноваться письму нашего отца. Однако здесь присутствует ваш сын, он “в совершенных летах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет” (Ин. 9, 21). Если он желает идти с вами, пусть идет во имя Господа. Если нет, мы не можем заставить его силой идти с вами». И вот отец мой спросил, хочу ли я идти с ним или нет. Я ему ответил: «Нет, ибо Господь говорит: “Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия” (Лк. 9, 62)». И сказал мне отец: «Ты не заботишься ни об отце твоем, ни о матери твоей, которая из-за тебя сокрушается великими горестями». Ему я в ответ: «Воистину, не забочусь, ибо Господь говорит: “Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня”. О тебе Он также говорит: “Кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня” (Мф. 10, 37). Следовательно, отец, ты должен заботиться о Том, Кто был распят на кресте за нас, дабы даровать нам жизнь вечную. Ведь Сам Он говорит: “Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его. Итак всякого, кто исповедает /f. 224a/ Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным” (Мф. 10, 35–36, 32–33)». И дивились братья, радуясь таким словам, которые я говорил отцу моему. И тогда мой отец сказал братьям: «Вы околдовали и обманули сына моего, дабы он не был для меня утешением. Я вновь пожалуюсь на вас императору и генеральному министру. Все же разрешите мне поговорить с сыном моим без вас, наедине, и вы увидите, что он тотчас последует за мной».
Итак, братья разрешили мне говорить с отцом моим наедине, поскольку из-за моих слов, уже высказанных, они стали более уверены во мне. Но тем не менее они подслушивали за стеной наш разговор. Ибо они дрожали, как тростник в воде, как бы отец мой своими ласковыми словами не изменил моего настроения, и боялись не только за спасение души моей, но и того, как бы мой уход не послужил поводом для других не вступать в орден. И вот отец мой сказал мне: «Милый сын, не верь этим мочерясникам (то есть тем, которые мочатся в рясы), они тебя обманули, идем со мной, и я все свое дам тебе»[438]. И я ответил и сказал отцу моему: «Ступай, ступай, отец! Мудрец говорит в Притчах 3, 27[439]: “Не мешай делать добро тому, кто может; если ты в силах, и сам делай добро”». И ответил отец мой, со слезами сказав мне: «Сын! Что же я скажу матери твоей, которая беспрерывно сокрушается о тебе?» Я ему в ответ: «Ты скажешь ей от моего имени: так говорит сын твой: “Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня” (Пс. 26, 10). Он также говорит: “Ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня” (Иер. 3, 19), ибо “благо человеку, когда он несет иго в юности своей” (Плач 3, 27)». Выслушав /f. 224b/ все это, отец мой, отчаявшись в моем уходе [из ордена], распростерся на земле перед братьями и мирянами, пришедшими с ним туда, и сказал: «Призываю на тебя тысячу диаволов, проклятый сын, и на брата твоего, который находится здесь с тобой и соблазнил тебя. Да будет с вами вечное мое проклятие, которое да отдаст вас адским духам». И он удалился в высшей степени взволнованным. Мы же, когда он нас оставил, весьма утешились, воздавая благодарность Господу нашему и говоря себе: «“Они проклинают, а Ты благослови” (Пс. 108, 28). Ибо, “кто благословен на земле, будет благословен в Боге. Аминь!” (Ис. 65, 16)»[440]. Итак, миряне удалились, весьма ободренные моим постоянством. Но и братья были очень рады тому, что Господь внушил мне, Своему отроку, поступить мужественно. И поняли они, что истинны слова Господа, сказанные Им, Лк. 21, 14–15: «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам».
А на следующую ночь меня укрепила Святая Дева. Ибо мне привиделось, будто я лежу, распростертый перед алтарем для молитвы по обычаю братьев, когда они вставали на утреню. И услышал я голос Святой Девы, позвавшей меня. И, приподняв голову, увидел я Святую Деву, сидящую на алтаре, на том месте, куда кладут дары и чашу: у груди ее был Младенец, которого она протягивала мне со словами: «Не бойся, подойди и поцелуй Сына Моего, Которого ты вчера восславил пред людьми». И хотя я испытывал трепет, я увидел, с какой радостью Младенец простер ручки, ожидая меня. И вот, полагаясь на радость и невинность Младенца, а также на такое щедрое великодушие Его Матери, я подошел, обнял и поцеловал Его. И /f. 224c/ Мать благосклонно отдала Его мне на длительное время. И поскольку я не мог насытиться Им, Святая Дева благословила меня и сказала: «Иди, возлюбленный сын, и не допусти того, чтобы братья, которые поднимутся к утрене, нашли тебя с нами». Я успокоился, и видение исчезло. Но в сердце моем осталась такая сладость, что об этом я не в состоянии поведать. Признаюсь, что никогда в жизни я не испытывал такой сладости. И тогда я узнал, что истинно речение, гласящее: «Тот, кто вкусил духа, теряет вкус к плоти»[441].
В то время, когда я еще оставался в городе Фано, мне приснилось, что сын господина Томмазо де Армари из города Пармы убил одного монаха, и я рассказал сон моему брату. А спустя несколько дней через город Фано проходил Амидзо де Амичи, направлявшийся в Апулию, чтобы получить там золото, и он пришел в обитель братьев повидать нас, поскольку он был наш знакомый и друг, и даже сосед. И мы, как бы издалека, стали его расспрашивать, как дела такого-то (а звали его Герардо де Сенцанези), – и он ответил нам: «С ним плохо, так как он второго дня убил одного монаха». И поняли мы, что сны иногда сбываются.
Также в это время, когда отец мой, направляясь в Ассизи, прошел впервые через Фано, братья скрывали меня и моего брата в течение многих дней в доме господина Мартино из Фано[442], законника; его дворец находился близ моря; и он иногда приходил к нам и беседовал с нами о Боге и о Священном Писании, и мать его прислуживала нам. По прошествии времени, а именно во время подестата в Реджо Якопо деи Пеннацци да Сессо[443], когда мне было доверено выбрать одного умного мужа из любой партии, который примирял бы жителей Реджо с болонцами по /f. 224d/ любому делу, я, помня благодеяние господина Мартино, выбрал его. Он очень ободрил жителей Реджо; и впоследствии он получал жалованье от моденцев за чтение лекций школярам Модены. Потом, по миновании почти двух лет, генуэзцы выбрали его на должность подеста[444]. По окончании своего подестата он вступил в орден проповедников, в котором достославно окончил свою жизнь. В то время в его земле велась жестокая война. И пока он жил еще в ордене проповедников, какие-то люди выбрали его в своем городе епископом. Однако братья-проповедники, не желая его терять, не позволили ему принять сан епископа. Я его навестил в Римини, в обители братьев-проповедников, и, приветствуя его и радуясь встрече с ним, сказал: «Вы поступили теперь так, как сказал некогда патриарх Иаков: “Справедливо, чтобы я позаботился когда-нибудь и о доме своем”[445] (Быт. 30, 30)». И ему очень понравилась эта цитата, и он пожелал ее иметь. Он вступил бы в орден братьев-миноритов, если бы его не отговорил брат Фаддей ди Бонкомпаньо, который был в нашем ордене. Ведь братья-минориты принуждали его возвратить нечестно отнятое, если он желает быть принятым для послушания. И он сказал господину Мартино: «Они поступят с тобой так же, если ты вступишь в орден». И поэтому господин Мартино, боясь этого, вступил в орден проповедников. И это было гораздо лучше и для него, и для нас.
В то же самое время брат Илия, услышав о том, что я поступил мужественно, оставшись в ордене, прислал мне благословение и милость свою, извещая, что если я пожелаю жить в какой-либо провинции ордена, то должен сообщить ему, и он немедленно пришлет позволение, по которому я смогу идти куда захочу. И я ответил ему, что я хотел бы жить в провинции Тоскана /f. 225a/. А жили тогда со мной в монастыре города Фано два брата из Тосканы, по совету которых я об этом и написал, а именно: брат Виталис из Вольтерры, бывший наставником брата Умиле из Милана, нашего лектора, и брат Мансует из Кастильоне Фьорентино, которые позже были в ордене лекторами и весьма влиятельными мужами. И поскольку обитель братьев-миноритов в Фано была за городом и рядом с морем, отец мой договорился, чтобы меня, когда я выйду для прогулки на берег, похитили за деньги, обещанные им, анконские пираты или люди из окружения подеста города Фано, прибывшие сюда из Кремоны. Дабы избежать этих козней, я ушел и в течение Великого поста жил в монастыре города Ези[446] до тех пор, пока после Пасхи не было получено письмо генерального министра.
А Ези был городом, в котором родился император Фридрих II. И в народе прошел слух, что якобы Фридрих был сыном некоего мясника из города Ези, ибо госпожа Констанция, императрица, когда император Генрих женился на ней, была уже весьма немолодой[447], и поговаривали, что у нее никогда не было ни сына, ни дочери, кроме этого; вот почему говорили, что она, сначала притворившись беременной, взяла его у отца и подложила себе, дабы думали, что он родился от нее. На вероятность такого утверждения нас наводят три положения: во‑первых, женщины весьма привыкли делать подобные вещи, ибо вспоминаю, что встречал много таких; во‑вторых, Мерлин[448] написал о нем так: «Фридрих II – неожиданного и удивительного происхождения»; в‑третьих, король Иоанн, который был королем Иерусалимским и тестем императора[449], однажды, придя в гнев и нахмурившись, на галльском своем наречии назвал императора сыном мясника за то, что он хотел убить его родственника Гваутеротта[450]. И поскольку он не мог погубить его ядом, он собирался пронзить его мечом во время игры с ним в шахматы. Ведь император боялся, как бы однажды, по какому-либо случаю, Гваутеротгу не отошло Иерусалимское королевство[451]. Это не укрылось от короля Иоанна. Иоанн подошел, взял за руку племянника, игравшего с императором /f. 225b/, отвел его в сторону и резко изобличил императора, сказав на своем галльском наречии: «Сын мясника, диавол!» И испугался император, и не посмел ничего сказать.
Ведь король Иоанн был большим, плотным, высоким, сильным, храбрым и опытным в бою[452], так что его считали вторым Карлом[453], сыном Пипина. И когда в сражении он бил железной палицей направо и налево, сарацины бежали от лица его так, словно они увидели диавола или льва, готового пожрать их. И впрямь, в его время, как говорили, не было в мире воина лучше него. Вот почему и о нем, и о магистре Александре, который был лучшим клириком в мире, и был из ордена миноритов и лектором в Париже, была сочинена песенка, восхвалявшая их, частью на галльском, частью на латинском языке, которую я пел много раз. Она начиналась так:
- Они нашему времени
- все сплошь желают нового.
Этот король Иоанн, собираясь идти в сражение, дрожал, как тростник в воде, когда на него надевали доспехи. И когда его спрашивали, почему он так дрожит, в то время как в сражении с неприятелями он выказывает себя могучим и сильным воином, он отвечал, что он не заботится о теле своем, но беспокоится о душе своей, чтобы она была в ладу с Богом. Это как раз то, о чем говорит мудрец в Притчах, 28, 14: «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». О том же, Сир. 18, 27: «Человек мудрый во всем будет осторожен». Также и Иероним[454]: «Благоразумно бояться того, что может случиться». А грешники боятся тогда, когда нечего опасаться; когда же следует бояться, дабы не вызвать гнева Божия, они не боятся, как боялся Иов, который сам о себе говорит, 31, 23: «Ибо страшно для меня наказание /f. 225c/ от Бога: пред величием Его не устоял бы я». Таков был король Иоанн. Вот почему с ним случилось то, о чем говорит сын Сирахов, 33, 1: «Боящемуся Господа не приключится зла, но и в искушении Он избавит его». Воистину, так и было. Ведь он стал братом-миноритом и провел бы все дни своей жизни в ордене, если бы Бог продлил ему жизнь[455]. А принял его и облачил министр Греции, брат Бенедикт из Ареццо, святой человек.
Сей король Иоанн был дедом по матери короля Конрада, сына императора Фридриха. А вторая дочь короля Иоанна [Мария] была женой Балдуина[456], императора Константинопольского; после его смерти король Иоанн был регентом его империи вместо своего маленького внука[457]. Когда сей король Иоанн вступал в сражение и распалялся в битве, никто не осмеливался находиться пред лицом его, но, завидя его, поворачивал назад, ибо он был сильным и храбрым воином. К нему подходят слова, которые мы читаем об Иуде Маккавее, 1 Мак. 3, 4: «Он уподоблялся льву в делах своих и был как скимен, рыкающий на добычу».
И вот, получив письмо брата Илии, генерального министра, я ушел и жил в Тоскане 8 лет[458]: два года в городе Лукке, и два – в Сиене, и четыре года – в Пизе. В первый год моей жизни в городе Лукке от должности генерального министра был отрешен брат Илия, и стал им брат Альберт Пизанский; и в 1239 г., 3 июня, в пятницу, в девятом часу, как я видел своими глазами, было солнечное затмение.
А когда я жил в городе Пизе и был совсем молодым, повел меня однажды за подаянием некий брат из мирян, незаконнорожденный, с сердцем пагубным[459], родом пизанец; его, по прошествии времени, когда он жил в местечке Фучеккьо, братия вытащила из колодца, в который он сам бросился, не знаю, по глупости или от отчаяния. И потом, спустя немного времени, он исчез /f. 225d/, так что его никто нигде не мог найти. Вот почему братия подозревала, что его похитил диавол. Да увидит сам! Так вот, когда я был с ним в городе Пизе и когда мы ходили с корзинами, прося хлеба, на нашем пути оказался некий двор, в который мы оба вошли. Он весь был затянут сверху виноградными лозами, зеленая листва которых радовала взор, и тень от которых была не менее приятной для отдыха. Там были леопарды и множество других заморских зверей, которых мы долго с удовольствием рассматривали, поскольку они казались весьма необычными и красивыми. Еще там были девицы и отроки, в надлежащем возрасте, коих очень украшали и делали милыми красивая одежда и прелесть лиц. В руках у женщин и мужчин были виолы и цитры и разные другие музыкальные инструменты, из которых они извлекали сладчайшие мелодии и двигались в такт этим мелодиям. Никакого шума там не было, и никто не разговаривал, но все слушали в молчании. И песня, которую они пели, была необычайно красивой, и слова, и разнообразие голосов, и манера пения были такими, что сердце наполнялось радостью сверх меры. Ничего они нам не сказали, да и мы им ничего не говорили. Они, не переставая, пели и играли на музыкальных инструментах, пока мы там находились. А мы долго там стояли как завороженные и с трудом заставили себя оттуда уйти. Я не ведаю, один Бог знает, откуда явилось такое великолепие столь великого веселья, ибо мы и раньше никогда не видели ничего подобного, и позже не могли видеть.
Когда мы вышли оттуда, ко мне подбежал какой-то незнакомый человек и сказал, что он житель Пармы; он схватил /f. 226a/ меня и начал громко бранить и грубо поносить, говоря: «Уходи, несчастный, уходи! “Сколько наемников у отца” твоего “избыточествуют хлебом” и мясом (Лк. 15, 17), а ты ходишь, выпрашивая для пожертвования хлеб у тех, у кого его нет, в то время, как ты можешь наделить им в изобилии множество бедных. Ты должен был бы только гарцевать на коне по улицам Пармы и, участвуя в турнире, доставлять радость пребывающим в печали, дабы дамы тобою любовались, а гистрионы утешались. Ведь отец твой чахнет от горя, а мать твоя от любви к тебе почти потеряла надежду на Бога, ибо не может видеть тебя». Ему я ответил: «Уходи ты, несчастный, уходи! “Потому что думаешь не о том, чтό Божие, но чтό человеческое” (Мф. 16, 23). Ведь то, о чем ты говоришь, “плоть и кровь открыли тебе” (Мф. 16, 17), а не Отец Небесный. В самом деле, ты полагаешь, что, говоря подобное, ты даешь хороший совет, “а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг” (Апок. 3, 17). Ведь в Священном Писании говорится о грешниках мира сего, что они “пошли за суетою, и осуетились” (Иер. 2, 5). “Суета сует, – говорит мудрец, – всё суета!” (Еккл. 1, 2). И еще: “И погубил дни их в суете и лета их в смятении” (Пс. 77, 33). И еще: “Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!” (Пс. 72, 19). И еще в другом месте Писания говорится, Иов. 21, 12–13: “Восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели; проводят дни свои в счастьи и мгновенно нисходят в преисподнюю”. Но “душевный человек[460] не принимает того, чтό от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь” (1 Кор. 2, 14)». Выслушав эти мои слова, он, не зная, что на это ответить, удалился в смущении.
И вот, завершив сбор подаяний, стал я в тот вечер перебирать в уме все, что увидел и услышал, и думал о том, что если я проживу в ордене пятьдесят лет, нищенствуя таким образом, то у меня будет не только долгий путь, но к тому же постыдный и невыносимый, сверх меры, труд. И когда я с такими мыслями провел почти целую ночь без сна /f. 226b/, как было угодно Господу, пришел ко мне короткий сон, в котором Господь явил мне прекраснейшее сновидение, от которого моя душа преисполнилась утешением, очарованием и сладостью несказанной. И тогда я узнал, что «необходимо, чтобы Божия помощь присутствовала там, где отсутствует человеческая»[461]. Ведь мне приснилось, что я, отправившись, как обычно делала братия, просить хлеба для пожертвования, ходил по кварталу церкви Святого Михаила Пизанского со стороны Висконти, ибо с другой стороны у купцов Пармы было свое товарное подворье, где они останавливались, которое пизанцы называют фондако, и этой стороны я избегал, как из чувства стыда, ибо не был еще хорошо укреплен во Христе, «потому что кто боится Бога, тот избежит всего того» (Еккл. 7, 18), так и потому, что боялся услышать от людей отца моего слова, которые могли бы сокрушить мое сердце (ибо отец мой постоянно, до последнего дня своей жизни, преследовал меня и постоянно строил козни, чтобы извлечь меня из ордена святого Франциска, и, упорствуя в своей жестокости, так никогда и не примирился со мной). Когда же я спускался от реки Арно через предместье Святого Михаила, я посмотрел вдаль и неожиданно увидел, как из одного дома выходил Сын Божий, нес хлеб и клал в корзину. То же самое делали Святая Дева и воспитатель отрока Иосиф, с которым Святая Дева была обручена. И так они делали до тех пор, пока сбор подаяния не был завершен и корзина не наполнилась. В этих местах был обычай оставлять корзину, накрытую тряпицей, внизу, а брат поднимался к домам просить хлеба, относил и клал его в корзину. После того как сбор милостыни был завершен и корзина наполнена, Сын Божий молвил мне: «Я твой Искупитель, а это – мать Моя, а этот третий – Иосиф, названный Моим отцом; Я есмь Тот, Который ради спасения рода человеческого, покинул дом Мой, отринул наследство /f. 226c/ Мое, отдал возлюбленную душу Мою в руки недругов ее. Я есмь Тот, о Котором Мой апостол Павел писал, 2 Кор. 8, 9: “Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою”. Итак, не стыдись, сын Мой, просить милостыню ради любви ко Мне, дабы ты истинно мог сказать то, что написано: “Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне” (Пс. 39, 18)». И я обратился к Нему со словами: «Господи, о Тебе написано слово сие, или о Твоих учениках?» И Господь в ответ: «И обо Мне написано, ибо Я истинно был беден и нищ, и о любом, кто просит милостыню ради любви ко Мне. И ты только что удостоверился, что Я позаботился о тебе, помогая в сборе подаяния и наполняя тебе корзину. Итак, сын Мой, “помысли о Моем страдании и бедствии Моем, о полыни и желчи” (Плач 3, 19). Помысли также о том, что написал твой отец Франциск, друг и возлюбленный Мой, в Уставе[462] братьев-миноритов: “Братья… словно странники и пришельцы в этом мире, в бедности и смирении Господу служащие, пусть без смущения ходят за подаянием, и не следует им стыдиться, потому что Господь ради нас сделался бедным в этом мире. Вот та вершина высочайшей бедности, которая вас, дражайшие братья мои, сделала наследниками и царями Царства Небесного. Да будет она той вашей долей, которая приведет к земле живых. Каковой предавшись всецело, возлюбленнейшие братья, во имя Господа нашего Иисуса Христа ничего другого вовеки под небом не желайте стяжать”». И ответил я и сказал Господу Иисусу Христу: «Господи, коль скоро мудрец говорит в Притче, 10, 3: “Не допустит Господь терпеть голод душе праведного”, – почему Ты не даешь в изобилии рабам и друзьям Твоим, славящим и благословляющим Тебя, дабы не вынуждать /f. 226d/ их просить милостыню с таким трудом и стыдом?»
О двух причинах, по которым Бог желает, чтобы друзья Его просили милостыню: дабы дающие получали вознаграждение, а берущие воздавали молитвой
И ответил Господь: «Я хочу, чтобы те, которые подают ради любви ко Мне, вознаграждались, как вознаграждаются те, которые получают, нищенствуя ради любви ко Мне. Ибо апостол Иоанн, превративший простые камни в драгоценные и прутья в золото[463], не расточил их и не отдал бедным, но обратил в прежнее состояние, потому что никто там не заслуживал подаяния. Но ныне хочу, чтобы имеющие богатство из любви ко Мне подавали неимущим, дабы в Судный день Я восхвалил их и вознаградил в Царстве [Небесном]. Ведь Я есмь Тот, Кто предписал в законе Моисея народу иудейскому, Втор. 15, 11: “Ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей”. О том же сказал сын Сирахов, 29, 12: “Ради заповеди помоги бедному и в нужде его не отпускай его ни с чем”. Поэтому одобряется и добродетельная женщина, Притч. 31, 20: “Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся”. А что до твоих слов, что Я могу, когда хочу, давать в изобилии, то они истинны, и ты уразумел это из Священного Писания. Ведь и Мудрец говорит, Прем. 12, 18: “Ибо могущество Твое всегда в Твоей воле”. Посему и Исаия написал, 59, 1: “Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать”».
О благодеяниях, совершенных Господом для иудейского народа в земле пустынной, бездорожной и безводной
Это испытал [на себе] народ иудейский, о котором сказано: «Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их» (Пс. 104, 40). Об этом повествуется в Книге Чисел 11, 21–23, когда Моисей сказал с изумлением Господу, обещавшему народу иудейскому в пищу мясо: «Шестьсот тысяч пеших в народе сем… а Ты говоришь: Я дам им мясо, и будут есть целый месяц! заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: /f. 227a/ разве рука Господня коротка? ныне ты увидишь, сбудется ли слово Мое тебе, или нет?» Также испытал это народ иудейский, который в течение сорока лет питался в пустыне манной. Об этом Моисей говорит во Второзаконии 8, 3–4: «Он… питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек; одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет». И ниже, 29, 5–7: «Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей; хлеба вы не ели и вина и сикера не пили, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш. И… пришли вы на место сие». Об этом говорит и Иисус Навин, 5, 12: «Манна перестала падать… после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской». Дабы истинным явилось то, что говорят обычно: «Необходимо, чтобы Божия помощь присутствовала там, где отсутствует человеческая»[464]. О том же говорит и Пророк в Псалме: «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну и пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых: поверг их среди стана их, около жилищ их, – и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им Господь[465], и не обмануты были в своем желании» (Пс. 77, 23–30). Этим хвастались иудеи пред Христом Господом нашим, Ин. 6, 31: «Отцы наши ели манну в пустыне /f. 227b/, как написано: хлеб с неба дал им есть».
Здесь приводятся многочисленные примеры, доказывающие, что Господь не допускает терпеть голод душе праведного и что Господь умножает пищу рабам Своим
Допускает ли «Господь терпеть голод душе праведного» (Притч. 10, 3) или нет, много раз испытал Илия. Во-первых, «вόроны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру», как свидетельствует 3 Цар. 17, 6. Во-вторых, бедная вдова кормила его, даже из того, что Илия дал вдове, как рассказывается в упомянутой выше главе. Посему эта вдова вместе с сыном могла сказать Илии то, что в Первой книге Паралипоменон, в последней главе, сказал Господу царь Давид, 29, 14: «Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». В-третьих, в пустыне ангел Господень поставил кувшин с водой и положил печеную лепешку у изголовья его [Илии], как свидетельствует 3 Цар. 19, 6.
Ту же щедрость Господню, то есть допускает ли «Господь терпеть голод душе праведного», испытал Павел, первый пустынник, которому, как повествует Иероним[466], Он посылал через ворона половину хлеба каждый день в течение 60 лет; и в тот день, когда пришел Антоний повидать его, Господь удвоил пропитание, послав целый хлеб.
Как рассказывает Григорий[467] во второй книге Диалогов, гл. 29, то же самое испытал блаженный Бенедикт: когда ему не хватило масла, он, помолившись Богу, нашел бочку, чудом наполненную маслом. В другой раз[468], во время сильного голода, когда его монахи роптали на недостаток хлеба, согласно реченному: «Если же не насытятся и будут роптать»[469] (Пс. 58, 16), – он, благодаря силе своих молитв и милости Божией, нашел однажды ночью у монастырской двери двести модиев муки в мешках. Это случилось для того, чтобы о блаженном Бенедикте нельзя было сказать словами Исаии, 9, 3: «Ты умножил народ, но не увеличил радость его»[470], – и дабы истиной явилось это слово: «Необходимо, чтобы Божия помощь присутствовала там, где отсутствует человеческая»[471]; а также, дабы истиной явилось это, Притч. 10, 3: «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного». Потому об этом месте из Матфея, 6, 25: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть… ни для тела /f. 227c/ вашего, во что одеться», – блаженный Иероним говорит[472]: «Пусть человек будет тем, чем он должен быть, и скоро будет все». И о рабах Божиих говорит Пророк: «Не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты; а нечестивые погибнут» (Пс. 36, 19–20). Посему справедливо говорят им: «Бойтесь Господа, [все] святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33, 10–11).
Это доказал и Елисей, когда он умножил масло женщине, вдове, которая, как считают, была женой пророка Авдия[473], о чем свидетельствует 4 Цар. 4, 1–7; и когда во время голода он умножил хлебы, о которых сказал слуге своему: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: “насытятся, и останется”. Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по слову Господню», 4 Цар. 4, 43–44. Также, когда он во время осады Самарии умножил муку, о коей сказал, 4 Цар. 7, 1: «Выслушайте слово Господне: так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии».
Подобное рассказывает и блаженный Григорий в первой книге Диалогов [гл. 7]: монах Нонноз в своем монастыре умножил своими заслугами и молитвами масло; и в той же первой книге [гл. 2] он рассказывает о Бонифации, епископе города Ферентино: еще будучи отроком, он приумножил в амбаре своей матери пшеницу и в своей кладовой вино и получил от Господа 12 больших золотых денариев, как если бы они только что были сделаны в мастерской, потому что он столько же раздал бедным. Также умножил масло и хлеб пресвитер Санктул[474], друг Григория.
То же сотворил некий святой отец, о котором мы читаем в Житии отцов[475]: когда в Святую субботу к нему пришли другие отцы, дабы отпраздновать с ним Воскресение Господне, он обратился с молитвой к Богу, прося пищи. И вот вдруг ангелы, посланные Богом, принесли ему превосходнейшие хлебы, подобных которым /f. 227d/ никогда не видели во всей Египетской провинции; еще принесли они финики, свежие смоквы, и виноград, и многое другое, полезное и необходимое для пропитания, и положили перед этими святыми отцами. Запас этой пищи был в избытке до праздника Пятидесятницы. И весьма дивились они, воздавая благодарность Даятелю всех благ, Который открывает «руку» Свою и насыщает «все живущее по благоволению» (Пс. 144, 16).
Еще Господь подает рабам Своим, когда они нуждаются, другими способами; посему мудрец в Книге Екклесиаста, 2, 26 говорит: «Человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим». О том же, Притч. 28, 8: «Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных».
О примере некого короля, охотно творившего милостыню ради любви ко Христу, которому Бог послал хранимые во тьме сокровища. Подобный пример описан в «Истории лангобардов»[476], в третьей книге, в 34 главе, почти в конце книги
Пример некого короля, творившего милостыню[477].
Жил некий король, который, желая следовать заповеди Господней, о коей говорит Матфей 6, 19–20: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут», – начал щедро творить милостыню и каждодневно раздавать щедрой рукой свое богатство бедным. Этому же учит и сын Сирахов, 29, 13–14: «Трать серебро для брата и друга и не давай ему заржаветь под камнем на погибель; располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и оно принесет тебе более пользы, нежели золото». И когда он так поступал, к нему начали приходить бедные из разных краев, и не стало хватать сокровищ, ибо, как говорит мудрец, Еккл. 5, 10: «Умножается имущество, умножаются и потребляющие его»; и то же говорится в Притч. 13, 11: «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его». И вот король начал размышлять и беспокоиться, что же после этого он будет подавать бедным, и заботился он не только о сохранении своей чести, но и об облегчении участи бедных. И поскольку его сердце сокрушалось от таких мыслей, однажды он сказал рыцарю, приближенному своему: «Пойдем с тобой, только вдвоем /f. 228a/, куда-нибудь погулять». И когда они оказались в роще возле источника, король завел со своим рыцарем разговор на эту тему, согласно Притч. 25, 9[478]: «Обсуждай дело твое с другом твоим, и тайну чужому не открывай». После этого на короля напала легкая дремота, и, желая немного поспать, он попросил рыцаря зорко его охранять во время сна. И когда король спал, рыцарь посмотрел и увидел, как из уст короля выполз какой-то очень красивый зверек, который, осыпав поцелуями все тело короля, пытался затем переправиться через ручей, но не мог. Видя это, рыцарь положил через ручей вынутый из ножен меч, зверек переправился, и побежал к некой горе, находившейся возле рощи, и, потыкавшись в нее [носом] в нескольких местах, вернулся к ручью источника, намереваясь вновь переправиться. Но рыцарь убрал меч, и зверек оказался в затруднении. Наблюдавший за этим рыцарь опять положил меч, зверек переправился и, проскользнув в уста, проник в тело короля. И пробудился король и стал рассказывать увиденный им сон. «Мне приснилось – сказал он, – что во время моего сна душа моя вышла из тела, и, когда она хотела переправиться через какую-то речку и не могла, ибо там не было моста, она оказалась в затруднении. И тут неожиданно некий рыцарь устроил из своего меча мост, и перешла душа моя и пошла к какой-то горе, в которой она нашла великое сокровище из серебра, золота и драгоценных камней; и затем она вернулась, чтобы перейти речку, и вновь оказалась в затруднении, ибо мост был оттуда убран. И рыцарь по своей доброте и любезности опять сделал мост из меча, и перешла душа моя и вошла в тело мое, и я тотчас пробудился». Услышав это, рыцарь рассказал королю /f. 228b/, как он видел все это своими глазами. И вот собрали они много повозок и много людей и послали копать гору; и нашли там в изобилии сокровища из серебра, золота и драгоценных камней, которые король раздал бедным и еще себе оставил. Исполнилось на этом короле то, что обещает Господь, Ис. 45, 3: «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь».
Я знаю много других примеров на эту тему, но пока достаточно того, что я поведал.
О том, как в неком сновидении Сын Божий беседовал с неким братом на прекрасную тему, приводя подтверждения из Священного Писания
И вот в сновидении моем[479] я молвил Господу моему: «Господи, как понимать слова апостола Павла в Первом послании к Коринфянам, 4, 11: “Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу”, и во Втором послании, 11, 27, что он был “в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе”? Не Ты ли Сам во время страдания вопрошал апостолов Своих: “Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем”» (Лк. 22, 35–36). И ответил Господь и сказал: «Что сказал апостол Павел, то есть правда. И что сказали ученики Мои во время вечери, тоже есть правда; и не потому, что они когда-либо терпели нужду, тем более, что обо Мне написано, Ин. 4, 6–8: “Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа… Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи”, – но это подтверждают и сказанные ими слова: “ни в чем”, – поскольку они имели предписание получать пищу и силу творить чудеса». О первом говорит апостол в Первом послании к Коринфянам, 9, 14, что «Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». В той же главе, выше, написано: «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» (1 Кор. 9, 11). Посему и Пророк: «Возьмите псалом, дайте тимпан» (Пс. 80, 3). Глосса поясняет: «Возьмите духовное и дайте телесное». О том же говорит апостол в Послании к Римлянам, 15, 27: «Если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Также у Марка говорится, 6, 8, что, когда Господь послал 12 апостолов проповедовать /f. 228c/, Он «заповедал с им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха», что является предписанием принимать подаяние[480]. О втором говорится у Иоанна, 14, 12: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» и так далее. Слова учеников, когда они сказали, что ни в чем у них нет недостатка, подтверждаются третьим положением, когда они сказали, что у них нет недостатка ни в чем, потому что, имея Христа, они имели все. Вот почему апостол во Втором послании к Коринфянам, 6, 10, говорит: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем», – и к Филиппийцам, 4, 18: «Я получил все, и избыточествую». Посему и мудрец говорит, Притч. 13, 7: «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много». Как сказал поэт[481]:
- Где благородный лик – пир и убогий велик.
Итак, воистину ученики имели все, имея Христа, ибо Христос есть Бог, и о Боге апостол говорит, 1 Кор. 15, 28: «Да будет Бог все во всем». Поэтому будут они говорить в День Судный, сетуя, что погубили Господа по вине своей, Тов. 10, 5[482]: «У нас все в тебе одном, мы не должны были отпускать тебя от нас».
В моем сновидении я также сказал Господу Иисусу Христу: «Господи, иудеи, живущие среди христиан, изучают грамматику нашу и латинское Писание не для того, чтобы возлюбить Тебя и уверовать в Тебя, но чтобы умалить Тебя и посмеяться над нами, христианами, поклоняющимися Тебе, распятому за нас, и они говорят, Ис. 45, 20: “Невежды те, которые носят… своего идола и молятся богу, который не спасает”. И так нам возражают: “Ваш Христос был либо праведным, либо неправедным. То, что Он был неправедным, явствует из слов отцов наших, сказанных ими Пилату, Ин. 18, 30: ‘Если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе’. Бог же наш так повелел иудейскому народу в законе, который Он нам дал: ‘Злодеев не оставляй в живых’”, Исх. 22, 18. Посему иудеи говорят: “Если Сын Марии умер по своей вине, пусть и вменяется это Ему. А что Он умер по своей вине, ясно из слов, сказанных отцами нашими Пилату /f. 228d/, Лк. 23, 2: ‘Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, назвав Себя Христом Царем’. А то, что Он не был праведным, мы узнаем из слов, сказанных Пророком, Пс. 36, 25: ‘Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба’. Ваш же Христос, когда умирал на кресте, воскликнул, что Он оставлен, Мф. 27, 46: ‘Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?’ Вы же, семя Христово, называетесь от Него христианами, а каждодневно побираетесь! Итак, либо Пророк [не] сказал правды, либо Христос ваш не был праведником, коль воскликнул, что Его оставили”».
Отвечал Господь мне и сказал: «Возлюбленный сын Мой, иудеи не любят Меня, они вечно строят козни Мне и друзьям Моим, и ненавидят Меня, чтобы исполнилось “слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно” (Ин. 15, 25). На иудеев Я могу весьма посетовать, ибо много хулы возвели они на Меня, как сказано в Писании: “Злословия злословящих Тебя падают на меня” (Пс. 68, 10). Посему Пророк говорит о них: “Да найдет на них смерть; да сойдут они живыми в ад” (Пс. 54, 16). “За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их” (Пс. 27, 5). Почему? Потому что они “забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря” (Пс. 105, 21–22). Они “не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения” (Пс. 77, 42). Вот почему, возлюбленный сын Мой, об иудеях очень хорошо сказал Мой апостол Павел в Первом послании к Фессалоникийцам, 2, 15–16, что иудеи “убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца”. А то, что иудеи спрашивают, праведен ли Я, или нет, так они достаточно прочитали об этом. Так, Иеремия сказал /f. 229a/, 12, 1[483]: “Праведен Ты, Господи”. И Пророк, Пс. 10, 7: “Ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника”. И еще: “Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои” (Пс. 118, 137)». И ответил я и сказал: «Господи, эти свидетельства иудеи относят к Богу, давшему закон Моисею, а не к Сыну Марии, Коего они убили, распяв на кресте». И молвил Господь: «Разве ты не читал реченное обо Мне: “Я и Отец – одно, и все, что имеет Отец, есть Мое”?»[484] И ответил я и сказал: «Читал, Господи, и внимательно читал, но иудеи не хотят веровать в Тебя. Скажи же яснее, чтобы их победить и привести в смущение. Ведь о Тебе, Господи, написано: “Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем” (Пс. 50, 6)».
И сказал Господь: «Исаия обо Мне написал, 57, 1: “Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла”. Также сотник сказал обо Мне: “Истинно человек этот был праведник”, Лк. 23, 47. И Иаков в конце Послания (5, 5–6) сказал: “В день заклания вы привели[485], убили Праведника; Он не противился вам”. Посему мудрец говорит в Притчах, 11,31: “Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику?” Мною также сказано, Лк. 23, 31: “Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?” Что же касается слов иудеев о Моем восклицании, что Я оставлен, они говорят правду, ибо оставил Меня Отец, дабы они убили Меня. Об этом и Иов говорит, 16, 11: “Предал меня Бог беззаконнику” (то есть Пилату) “и в руки нечестивым” (то есть иудеям) “бросил меня”. И Лука в Деяниях говорит, 4, 27–28: “Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой”. А что Отец Меня не оставит, свидетельствует Пророк, говорящий в лице Моем: “Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление” (Пс. 15, 10). Также и Исаия /f. 229b/ 54, 7–8: “На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь”. Итак, Отец оставил Меня на время, ибо предали Меня в руки нечестивым, то есть иудеям, дабы они убили Меня ради спасения мира, и Я не был оставлен, поскольку на третий день Он воскресил Меня из мертвых. И посему слово пророческое, что Давид “не видал праведника оставленным”, остается истинным. Также, по его разумению, не видал он и “потомков его просящими хлеба” (Пс. 36, 25).
О двух видах бедности
В самом деле, есть два вида бедности. Первый – бедность добровольная, и она присуща совершенным людям, которые, распродав свое имущество и раздав его бедным, не желают ничем владеть в этом мире, зная, что истинно сказал апостол, 1 Тим. 6, 7–8: “Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем”. И в конце Послания к Евреям, 13, 14: “Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего”. Это те бедные, которых Я восхвалил, Мф. 5, 3: “Блаженны нищие духом (то есть смиренные и нищенствующие по собственной воле. – Прим. Салимбене), ибо их есть Царство Небесное”. Это те бедные, о которых сказал Исаия, 29, 19: “Бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля”. Воистину, они суть семя Христово, о котором Пророк говорит: “Сильно будет на земле семя его; род правых благословится” (Пс. 111, 2). О них говорит Исаия, 61, 9[486]: “Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом… которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом”. Аминь.
Второй же вид бедности – это бедность тех, для коих она неизбежна и неотвратима, которые – желают они того или нет – вынуждены просить подаяние из-за недостатка в мирских вещах». Сии суть нищие мира, о коих Господь сказал, Мф. 26, 11: «Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете». О бедности сих говорил /f. 229c/ Господь Илию, 1 Цар. 2, 36: «И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться… из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: “причисли меня к какой-либо левитской должности, чтоб иметь пропитание”». Такой мирской бедности и не по своей воле пожелал Давид Иоаву, 2 Цар. 3, 29: «Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». И таким образом вопрос об иудеях полностью был разрешен, и по этому поводу много сказано хорошего.
Мнение магистра Гильома Сен-Амурского[487] о нищенствующих монахах
Итак, сновидение[488], о котором я поведал выше, было правдивым, без какой-либо выдумки; но я к этой же теме добавил несколько слов в связи с магистром Гильомом Сен-Амурским, составившим книжку[489], которую папа Александр IV[490] отверг и осудил, ибо в ней автор утверждал, что все монахи и проповедники слова Божия, живущие подаянием, не могут обрести спасения.
И вот после упомянутого сновидения я так укрепился во Христе, что, когда ко мне приходили посланные отцом моим гистрионы, или, как их называют, «рыцари двора», дабы отвратить сердце мое от Бога, меня их слова волновали так же, как пятое колесо в телеге. Однажды ко мне пришел[491] некий человек и сказал: «Отец ваш шлет вам привет, и вот что говорит мать ваша: она хочет видеть вас хотя бы один день, а потом будь что будет, если даже на другой день она умрет, ее это уже мало волнует». И он полагал, что сказал очень трогательные слова, которые растревожили бы мне сердце. Ему я с гневом сказал: «Уходи от меня, несчастный, ибо я не желаю больше тебя слушать. Отец мой – Аморрей, а мать моя – Хеттеянка»[492]. И он удалился в смущении и больше не появлялся.
О том, что в 1247 году Парма восстала против Империи и отпала от императора
И вот по прошествии восьми лет моего пребывания в Тоскане[493] я вернулся в Болонскую провинцию, в которую я был когда-то принят, и присоединился к ней. И когда я жил /f. 229d/ в кремонском монастыре, а император, уже отрешенный от власти[494], находился в Турине, чтобы оттуда, как думали, отправиться в Лион и захватить папу и кардиналов, и когда сын его, король Энцо[495], с кремонцами осаждал брешианский замок Квинцано, мой город Парма, откуда я родом, в лето Господне 1247, в воскресенье, 16 июня, восстал против Империи и полностью перешел на сторону Церкви. В то время я как раз перебрался на жительство в Парму, где папским легатом был Григорий да Монтелонго, который впоследствии руководил в течение многих лет церковью в Аквилее. В том же году, когда отрешенный Фридрих осаждал мой город, я отправился в Лион и прибыл туда в День памяти Всех Святых [1 ноября]. И папа тотчас послал за мной и дружески беседовал со мной в своих покоях, поскольку со времени моего ухода из Пармы и до этого дня он не видел нунция и не получал никаких писем. И он оказал мне великую милость, выслушав мои просьбы, ибо он был человеком весьма обходительным и щедрым.











