Читать онлайн Наташа. Роман
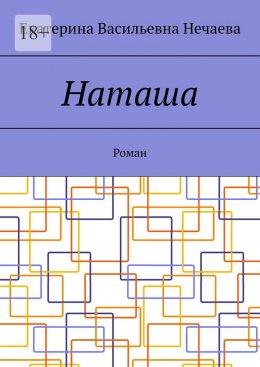
Редактор Владимир Николаевич Нечаев
© Екатерина Васильевна Нечаева, 2024
ISBN 978-5-0065-0560-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Философское послепрочтённое
Альберт Камю в «Мифе о Сизифе» говорил о том, что единственно важный философский вопрос – это «стоит ли жизнь того, чтобы её прожить?». По большому счёту, это вопрос о счастливой жизни – как быть или как стать счастливыми?
Вы держите в руках третий роман Екатерины Нечаевой. Каждый из них так или иначе связан с ответом на этот вопрос. Первый роман «На другой стороне лжи» – по сути, об истоках человеческого счастья и несчастья. Второй, «Юрфак», – о том, что мы обязаны быть счастливыми из любви к себе и другим, которая только одна и способна преобразить и залечить детские травмы.
Данный роман поднимает тему счастья из самых глубин присущего всему живому желания жить, которое на уровне человека порождает проблему смысла жизни. Причём, очень важно, что это желание жить здесь показано и в его минимализированном виде – «лишь бы выжить», и в своей предельной полноте – «жить в полное дыхание, даже стоя на краю пропасти». Ещё Данте в своей «Божественной комедии» писал о том, что все человеческие желания ведут к счастью, но при одном условии, если мы не соглашаемся на малое. Согласие на малое – из страхов или лени – и является источником всех несчастий человека, согласие на малое замораживает жизненные силы, вызывая в человеке чувство усталости, скуки, приводя к тому, что ты живёшь не свою жизнь.
Главная героиня романа оказывается в целом букете негативных экзистенциальных переживаний – одиночество, ужас, отчаяние. Кого-то эти переживания окончательно отправляют на дно, а в ком-то они пробуждают чистое желание жизни – сильное до такой степени, что на меньшее, чем на счастье, он уже не согласен. И этот, последний, ни в коем случае не желает становиться источником боли ни для других, ни для себя. Не желает быть пулей, не способной увернуться от действия физических констант и законов, но – желает быть существом, свободно и играючи конституирующим себя в мире. Он, как змея, которую героиня однажды подержала в руках, жаждет освободиться от старой – пусть и шелковистой – кожи, и вырастить новую – со-причастную себе.
Сбрасывать кожу – наросшую шелуху —
змеиная драма, но как без неё сбываться (?!):
бескожной – больней, но – верней обновлять судьбу,
застрявшую меж узоров сверкающим глянцем,
чья яркость скрывает нательные письмена…
Таинственность знаков не терпит власти и славы.
Вглядеться же в них – обрести средь иных себя,
кожею вновь обрастая в любви и… забавах!
Экзистенциальная интенция романа хорошо видна в описаниях линий жизни разных героев: кто-то существует, а кто-то бытийствует. По Мартину Хайдеггеру, личностное бытие возможно только в горизонте времени, которое переживается человеком не столько как факт изменчивости всего и вся, сколько в качестве временности, преходящести, конечности и мира, и себя. Именно осознание и принятие человеком в себе этой базовой уязвимости и даёт желанию жить накал. Снижение же этого накала неизбежно умаляет ценность самой жизни.
Роман заставляет вспомнить и переосмыслить периоды жизни, в которых желание еле-еле теплилось, он запускает и инициирует важную внутреннюю работу по пониманию того, а как ты живёшь сейчас, не поступился ли своим счастьем ради мнимых целей? какие «обратки» ты получаешь от прошлого, владеющего тобой в момент их получения? по кругу ли ты ходишь или смог его разомкнуть своим жизненным порывом?
Чаще всего, болезнь – это крик уже-ослабленной воли-к-жизни о помощи. Можно сдаться, закрыться от этого крика, а можно сказать жизни «Да!», о чём писал в своё время Пауль Тиллих в «Мужестве быть». Мужество сделать первый шаг, дав в себе место трём вечным сёстрам: вере, помнящей о величии человека, причастного вечному и высокому; надежде, деятельно ожидающей грядущего, усматривающей в каждой встрече с Другим красоту и перспективу себя-иного (ибо любая встреча нас меняет); и, конечно, – любви как силе, оживляющей настоящее (стоящее в качестве стоящего).
Всё познается в сравнении. Прошлые романы легки в чтении своим стилем вплетения сюжетов, героев, исторических сведений в канву повествования, своей – и в нынешнем тексте явленной – высокой художественностью. Однако в данном произведении почувствовалась иная лёгкость. Такое ощущение, что Екатерине удалось сбросить с плеч авторский «груз» ответственности за сказанное слово, чреватой излишней серьёзностью. Здесь автор с прекрасным чувством юмора позволил себе поиграть и с именами отдельных персонажей, и с их личностными описаниями, и с характеристикой животных, а также блистательно передать трагикомичность отдельных эпизодов.
Роман «Наташа», как и предыдущие два, является подлинным свидетельством авторской любви к природе и истории Пермского края, к людям, вобравшим в себя дух восточной окраины Европы, уральских гор, лесов и множества больших да малых рек. И любовь эта выражена красивейшим образом!
Человек-творец опустошается, выпуская в жизнь созданное им, которое, в свою очередь, уже наполняет души читателей, зрителей, слушателей. Весь мир – это сообщающиеся сосуды: в одних убывает, в других прибывает. Единственный неиссякаемый сосуд – это мир в его многообразии. Для одних – он таков и есть сам по себе, для других – за всем этим стоит Бог, мыслящий идеи всех вещей (Аристотель), однако здесь совсем не важны мировоззренческие нюансы, главное, что есть творцы, которые – из ответа (вот он – источник настоящей ответственности!) на вторжение в них мира ли, Бога – из неясных очертаний идей, образов, сюжетов отливают законченные художественные формы.
В душе живёт надежда, что роман Екатерины Нечаевой, который вы держите в руках, не последний. Желаю насладиться! И жду новых произведений!
Наталия Алексеевна Хафизова, кандидат философских наук,
поэт, эссеист, член Российского союза писателей
«…Автор умело работает в разных стилях. Здесь вам и театр абсурда, и чистая беспримесная драма, и ироничный стёб. Очень бережно, иначе не скажешь, без намёка на пошлость, представлена сцена эротического содержания. Основные ключевые герои повествования выписаны подробно, и о каждом из них рассказ ведётся в своей индивидуальной, узнаваемой, манере. Присутствуют лирические и глубоко философские рассуждения, связывающие и сглаживающие переходы и смену действий, позволяющие перевести дух…»
Владимир Николаевич Нечаев, кандидат технических наук
Пролог
«Когда-то давно в стволе револьвера я был пацифистом, но кто-то выстрелом в радугу оборвал мою жизнь. С тех пор я больше не болен и не летаю, лишь иногда сквозь хрупкое стекло вижу глаза, изъеденные солью. В них – белое платье в секторе радуги и вечность до вероятной цели».
Свет бьёт в глаза так ярко, что боль сквозь зрачок проникает в мозг и калёной стрелой проносится вдоль позвоночника. Наташа стоит на самом краю. Она, не различая никаких звуков, чувствует, как пальцы босых ног холодит пропасть, разверзшаяся между ней и остальным миром. Белое длинное платье, пронзённое светом, но не позволяющее сквозь материю рассмотреть фигуру, не колышется ни единой складкой. Всё замерло. Сейчас, в этот момент, когда ушли все слова, когда отсвистели все пули, есть только свет. И ничего больше. Свет громоздится вокруг, давит на плечи, вливается в ушные раковины и шумит океаном, но это не тот океан, что выбрасывает на берег то шелесты, то стоны, то рокочущий шум, а тот, что раскрывает природный звук в самом центре своего сердца, там, где его никто не услышит, там, где он может быть самим собой.
Постепенно глаза привыкают к свету, боль растворяется, становится слышен гул. Он наползает на свет, проникает в него, перемешивается с ним и полностью поглощает струящееся отовсюду сияние.
Странное чувство охватывает Наташу. Ей чудится, как звук и свет меняются местами: звук обретает видимые очертания, а световые волны начинают звучать, как огромный вселенский орган. Всё непривычно и незнакомо, но её это уже не пугает, потому что она обрела устойчивость, отчётливо поняв, что край – это самое цепкое, он держит крепче всего, что ничего страшного с ней не случится – всё страшное перемололось в жерновах огромной мельницы, между двумя мирами: миром звука и миром света.
Затихающий свет обнажал будущее, расширяющийся гул успокаивал прошлое, разнося повсюду рокочущие волны. Всё случилось так, как она и не смела мечтать. Наташа закрыла глаза, чтобы на мгновение удержать выпавшее ей сегодня, которое, возможно, не случится уже никогда.
Вот так – на самом краю, в белом платье, с закрытыми глазами, ослеплённая несущимися на неё звуками. Словно в самом сердце океана. Она счастлива! Да, сегодня она счастлива, потому что освободилась от каких бы то ни было страхов, сомнений, сожалений. Грудь переполнял восторг, который хотелось щедро выплеснуть, чтобы океан стал ещё на одну каплю больше, но Наташа задержала дыхание – она хотела побыть наедине с обрушившимися на неё ощущениями, хотела прочувствовать и запомнить их. Она успеет вынырнуть. Всему своё время. И столкновению с океанской волной тоже. А пока, до момента, когда её накроет гул, когда она сама станет этим гулом, она будет стоять, замерев на отвесном краю, а потом – откроет глаза.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГДЕ ЖИВЁТ РАДОСТЬ?
Глава первая. «Ты родилась Наташей»
***
– Ненавижу! Ненавижу вас всех! – потрясая слабо сжатыми кулачками, обтянутыми белой просвечивающей кожей с тонкими яркими жилками, вскрикнула растрёпанная старуха. Она приподняла голову, в изнеможении замолкла, закрыла лицо дрожащими пальчиками и зло зашептала: – Почему я? Почему? Я жить хочу! Жиииить, чёрт бы вас всех побрал! Жить… Просто жить… Как же больно-то… Господи, если бы ты был, ты не позволял бы мне так мучиться… Не позволял бы мне умирать… Не позволял бы, господи… Дайте что-нибудь! Как же больно-то, как мне больно! Наська!
Старуха выгнулась, смяла одеяло, распластала руки в стороны и отчаянно закрутила головой. Взгляд её стал таким диким, что все отвели глаза. Дочь, понимая бесполезность своих действий, в спешке поднесла матери болеутоляющее, но та оттолкнула лекарство и вцепилась ей в руку, оставляя на нежной коже синяки. Дочь не знала, что говорить, как успокоить, и только слушала, как больная, безумно глядя ей в глаза, изрыгала проклятия:
– Это ты! Ты должна была сдохнуть, ты и твой приплод! Я ради вас от любви отказалась, всю жизнь с этим (она презрительно ткнула пальцем в понуро сидящего возле кровати мужа) прожила. Я, вместо того чтобы каждый день подниматься на театральные подмостки, шла на завод! Изо дня в день – на осточертевший завод, а могла бы сделать карьеру актрисы, у меня всё, слышите – всё! – для этого было! А теперь неугодна стала, муки смертные терплю. За что-о-о?
В комнату вбежала полненькая девчушка – тот самый приплод пяти лет от роду по имени Наташка. Старуха мыргнула на неё страшными глазами, открыла рот, но не смогла произнести ни слова и отвернулась к стене. Наташа боялась эту взлохмаченную больную старуху, но любопытство было сильнее, да и она привыкла её бояться, ведь Люция Эдуардовна не отличалась добрым нравом и покладистым характером даже тогда, когда была вполне здоровой. Всю сознательную жизнь она разыгрывала из себя жертву, вращая мир вокруг себя, то властвуя, то капризничая, то жалуясь на несуществующие боли в сердце, в желудке, в горле. Выйдя однажды замуж за парня из далёкой таёжной деревни, она не обрела с ним счастья, несмотря на его работоспособность, дружелюбие и неимоверную заботу. Она часто злилась на мужа из-за его «великой неотёсанной благодати» и проклинала своё замужество. На каждом углу она кричала о том, что он страшный человек, потому что его главная черта – это исполнительство и угодничество. Она уже давно забыла о том, как когда-то хвастала перед подругами, мол, вот какого медведя себе подстрелила в лесах уральских у самого подножия гор, как гордо демонстрировала его в своих кругах, претендующих на светскость, как похохатывала над его самым что ни на есть медвежьим именем – Михаил Иванович Потапов. А неотёсанный житель лесов, на тот момент подросток чуть более шестнадцати, взирал с удивлением и восторгом на городскую жизнь и на подруг головокружительной двадцатидвухлетней бестии Люции. Он и сам толком не мог объяснить, как так случилось, что он оказался в её объятьях… а потом вместе с ней в этой квартире…
Мишка
Перегоняя коров по мелкобродью, Мишка заприметил оживление чуть ниже по течению Чусовой, там, где река совершает поворот почти на девяносто градусов. На другом берегу, напротив камня Веера, одного из множества камней, тянущихся по берегам уральских рек, и уткнувшихся в него трёх добротных дворов, прозванных за отдалённость от деревни Москвой, туда-сюда сновал народ. Парни подтягивали к берегу байдарки, с шуточками да прибауточками вытаскивали из них вещи. Девчонки влезли в воду, визжа от восторга и что-то выкрикивая парням. До Мишки доносились лишь обрывки слов – день был ветреный: резко набегающие потоки воздуха разрывали звуки на кусочки, река гулко разносила голоса и сливала их в единое целое, вписывая в общее таёжное полотно.
«Девчонки!» – пренебрежительно подумал Мишка. Он смотрел, как их головы поплавками мелькали в бликующей
на солнце воде, как парни, отмахнувшись от них, как коровы
отмахиваются от паутов и надоедливых мух, уже вовсю натягивали брезент, вбивали колышки, разводили костёр. Он попытался сосчитать, сколько человек в группе, но не мог сосредоточиться. То ли блики мешали, то ли хаос, царивший в разворачивающемся палаточном городке. Зато каждую голову в стаде, которое гнал домой, определял моментально и точно знал, что все коровы на месте и идут, смачно чавкая копытами, через реку к своим хозяйкам.
Выйдя на берег, стадо разделилось на два потока: один повернул вправо, в сторону домов, широкой улицей тянущихся к камню Печка, другой влево, туда, где деревня острым концом своим упиралась в таёжные складки древнего лесного массива, – и коровы по единственной деревенской улице, растянувшейся вдоль Чусовой, важно раскачивая боками, несли себя по домам; стадо потихоньку таяло. Мишка следом за бурёнками повернул налево.
К концу улицы, где чуть на отшибе стоял Мишкин дом, осталась только их вечно пытающаяся куда-нибудь да удрать Глашка. Странно, но в тот вечер она вела себя настолько благопристойно, что удивился даже не умевший удивляться Мишкин отец. За ужином мать потрепала сына по золотоволосой голове, старшая сестра Дарьяша, год от года медленно теряющая подвижность из-за какой-то неопределяемой болезни, уловив безупречно-синий взгляд брата, улыбнулась, а отец, выходя из-за стола, хлопнул его дважды по мощной спине. Это был знак одобрения и довольства сыном, который нужно было заслужить и который придавал неоперившемуся ещё Мишке сил и бодрости.
В их семье чурались излишка слов и своё, даже самое тёплое, отношение к друг другу выражали чаще всего жестами. Самым тяжёлым было, когда отец и мать, как по сговору, не смотрели на сына, не перебрасывались словами о хозяйстве да о батиных делах в промартели, или не произ-
носили скупого «на-ка вот», или «завтре будет вёдро». Но самое главное – в такие пасмурные для Мишки вечера не было ни материнских прикосновений к его буйным кудреватым волосам, ни отцовского похлопывания по спине. Сызмальства он без слов понимал, что сделал не так, что надо исправить. И исправлял, чем заслуживал скупой кивок отца, хмурившего при этом брови и щурившего глаза. Единственной в доме, кому было всё равно, набедокурничал ли Мишка, сделал ли что-то не так по хозяйству или без спроса ушёл бродить по лесу, была обожавшая младшего братишку Дарьяша. Её грустные глаза всегда светились пониманием, в её словах всегда жило добро. Дарьяшина любовь давно вышла за рамки сестринской и несла в себе то высокое и безмерное, на которое способна лишь мать, не торгующая чувствами, но всем сердцем своим отдающая свет и тепло. Дарьяша оказалась способной на такую любовь не из-за приковывающей к дому болезни, не из-за того, что некуда себя деть, а из силы своего чуткого, воспринимающего всё остро и глубинно, сердца. Если Дарьяша за что-то бралась, то делала это настолько хорошо, насколько позволяли силы и здоровье. Когда-то она с отличием окончила школу, но мечта о дальнейшей учёбе так и осталась мечтой, залитой слезами и безутешными вздохами. Тягу к знаниям Дарьяша компенсировала книгами. Отец, уезжая за продуктами в Кын или Чусовой, при каждой возможности покупал ей книги, и она глотала их с жадностью, а потом перед сном пересказывала разные истории, почерпнутые на зачитанных, замусоленных страницах.
Мишка не запоминал авторов, но сюжеты впитывал с любопытством и вниманием. К шестнадцати годам в его голове бушевали невиданные океаны, расстилались обширные степи, разверзались земные недра, расступались звёзды, совершались геройские поступки и крутились фантастические идеи. А ещё Дарьяша своим густым тягучим голосом чудесно читала стихи. Особенно ему нравилось есенинское про Шаганэ, слова «потому что я с севера что ли, я готов рассказать тебе поле» он примерял на себя, чувствуя, что он и есть тот самый русский парень, повстречавший жившую неведомо где девушку с чудным именем. Единственной книгой, прочитанной Мишкой самостоятельно от корки до корки, был только букварь, но про парня из далёкой таёжной деревни Чизма с полной уверенностью можно сказать – начитанный, вернее – наслушанный, как шутила Дарьяша. Это уже потом, много позже, в самой зрелой зрелости, окружит он себя книгами, как самыми верными друзьями, и не станет упускать ни единой возможности, чтобы внять слову печатному.
В тот вечер, когда близь деревни раскинули лагерь туристы, Дарьяша хотела рассказать брату очередную историю, но лишь обмолвилась, что история эта об узнике, проведшем много-много времени в застенках, но сумевшем выбраться. А ещё сказала, что её переполняют впечатления и обуревают чувства. «Кажется, я в него влюбилась», – произнесла она, когда Мишка уже навострил лыжи к пылающему напротив Веера костру, где звучали песни, где вели неспешные разговоры парни, где взрывался и уносился вместе с искрами в небо девичий смех. Особенно выделялся смех миниатюрной красотки. Он был чуть грубоват, но настолько глубок, что глубина неба меркла в сравнении с ним. Девчонка, накручивая на палец выбившийся из-под косынки светлый локон, рассказывала историю, от которой все заходились от смеха. Иногда она театрально хмурила брови, обматывала локон вокруг носа и выпучивала глаза. Мишка, перебравшись через реку по коровьему броду, подошёл неслышно, словно лесной зверь, и, укрытый плотными кустами, заворожённо стоял напротив этой девчонки. Он не вслушивался в слова, но впитывал каждый её жест и понимал, что сейчас она – центр Вселенной. Потом история закончилась, и чередой, словно барки по неспешной реке, сменившей своё бурное течение здесь, между Веером и Печкой, на течение размеренное, пошли песни под гитару. Мишка таких песен не слыхивал, деревенские, собираясь возле Печки в праздные дни, пели другое и по-другому. После одной из песен он так шумно выдохнул, что около костра переполошились, что за зверь к ним подкрался. Гитарист, отложив инструмент, взял суковатую дубину и отважно пошёл в направлении звука. Пока он шёл, Мишка разрывался между желанием выйти навстречу и стремлением убежать. Прокрутив в голове свой побег, треск под ногами, шум бьющих по лицу ветвей, Мишка решил выйти из укрывавших его кустов. Если бежать, то – тихо, а так… только позориться.
Робко текла негустая ночь. Благо, что коров с утра ему не пасти, а то Глашка от сонного пастуха точно куда-нибудь бы ускакала. Из домашних же дел надо было только посмотреть, что там цепляет у санных полозьев, да сманстрячить пару новых туесов для матери и доски обстругать для крыльца. Да ещё Дарьяше обещал рамочку для портрета сделать, что-нибудь поажурнее, но это не к спеху. Он сделает, а пока… Мишка раскрыв рот сидел у костра вместе с ребятами, жевал сушки, пил крепкий чай, с наслаждением ощущая на языке горьковатые чаинки. Сладкий дым разъедал глаза. За гранью круга, очерченного костром, клубилось облаками комарьё. Тихо шуршала река, и в одной тональности с ней звучала уходящая во все стороны тайга.
Безмерное счастье обдавало Мишку, как печным жаром. Он, выделявшийся среди городских парней и ростом своим, и статью, был немногословен, больше слушал, когда же говорила она, сердце его заходилось в бешеной пляске, останавливалось, исчезало и неожиданно снова пускалось в пляс. И тогда меркли звёзды, россыпями укрывающие небо, и теряли свою яркость и стремительность искры, устремляющие к этим россыпям. Сердце Мишки то замирало на невообразимо высокой ноте, то падало в такую пропасть, глубину которой трудно себе вообразить. Вспыхнули в мозгу слова Дарьяши, что она влюбилась в героя книжной истории, и тут же резонансом отозвалось в груди, что он, он – Мишка, встретил свою героиню в самой настоящей жизни, а не в зачитанной до дыр книжке. Ему стало невыносимо жаль Дарьяшу, он понял, что такая огромная, как небо, и такая светлая, как нарождающаяся заря, любовь никогда не придёт к ней, что так и будет она, горемычная, жить своими книжками, выискивая в них любовную привязанность, тайно вздыхая и плача по ночам по героям, которых, наверняка, никогда и не было. Он вспомнил, как не единожды слышал её ночные всхлипывания, но он никогда до этого момента не думал об их причине. В первую очередь, пожалуй, он сделает ей рамку для фото, а уж потом всё остальное, даже если отец будет недоволен, что сани остались без ремонта. Сани могут подождать – до зимы ещё далеко, сено в копны только на прошлой неделе сметали, а вот сеструху ждать заставлять не надо, ей и без того тошно.
Таяли, как звёзды в предутреннем небе, песни. Меркли разговоры о первых двух днях пути от Кына до этого невыносимо красивого местечка, согретого скромно высившейся Печкой, о приключениях, случившихся с ними, и о том, что сегодня им нужно дойти до Молокова камня.
С надвигающейся зарёй ребята расползлись по палаткам. У затухающего костра остались двое: Мишка и девчонка со странным именем Люция, подкармливающая огонь тоненькими веточками, травинками, шишками. Не сговариваясь, они вдруг встали и пошли вдоль берега, остановились напротив Печки. Люция мечтательно смотрела на два выпирающих, покрытых молодой порослью уступа древнего камня, более светлые снизу и приобретающие красноватые оттенки вверху. Казалось, что правый скальный выступ, упираясь единственной мощной ногой в землю и вытягивая невидимую обычному глазу шею, изо всех сил старается приблизиться к своей половине, чуть завалившейся на бок и недоумённо смотрящей выщербленными временем глазами, в которых так и читалось: «Ну, давай, давай поднажми ещё чуть-чуть, и ты преодолеешь эту невыносимую расщелину, что проползла между нами».
Люция, совершив одухотворённый жест, озвучила свои мысли, а дальше… Дальше случилось и вовсе какое-то наваждение! Мишка, подхватив лёгкую, как пёрышко, девушку, несёт её на руках через реку, потом поднимается на гору и аккуратно, так, чтобы не откололась ни одна частичка от её искусно вылепленного тела, ставит на ноги. Люция смотрит вниз на замедляющую свой бег реку, на одинокие брезентовые палатки, скромными вершинками своими вписавшиеся в общий природный фон. Девушка оглядывает просыпающуюся деревню, бросает взгляд на перламутровые луга, а после – тянет руки к небу и говорит о том, что это самый прекрасный момент в её жизни. Мишка оторопело смотрит на неё и чувствует, как великое желание обладать ею сковывает его по рукам и ногам, как обносит горячестью голову, как заставляет умирать душу. Люция, едва достающая ему до груди, старается обхватывать его руками и сравнивает с горным утёсом, молчаливым, неприступным, но согретым солнцем, а от того – желанно-тёплым. Мог ли он, ещё не знавший женщин, устоять? Мог ли противиться этому древнему могучему зову? Нет, не мог, равно, как и она не могла не испробовать на себе его могучую силу и грубую жгучую ласку. В тот миг с орбит сошли все звёзды, закружились в свистопляске созревшие облака, по-особому задрожала листва на взбирающихся по склону тонюсеньких берёзках, и на землю рухнуло молодое розовощёкое утро… А потом, пока все предавались сладостному сну, он нёс на руках к палаткам светящуюся от счастья Люцию…
Давно отпели деревенские петухи, высохла роса, на затухающем костре дымился суп из тушёнки. После обеда ребята свернули палатки, уложили вещи в байдарки. Мишка легко, по-свойски, впрягся в общую суету и, чем мог, помогал. Люция, несмотря на подтрунивания остальных, много смеялась, порхала, как бабочка, поддерживая коллективный дружелюбный фон и не совершая при этом никаких нужных действий…
Когда байдарки отплыли на середину реки, и, кроме всплеска вёсел, ничего не стало слышно, Мишке показалось, что у него вынули сердце. Придя домой, он первым делом смастерил сестре рамку для семейного фото, сделанного пару лет назад. Рамка, сварганенная на скорую руку, не отличалась особым изяществом, но до того ли было только-только вкусившему любви? Мишка знал, что следующая стоянка у ребят будет через двадцать километров, возле Молокова камня. Ощущая на губах горячие поцелуи Люции, дрожа до сих пор от прикосновений к ней, слыша её влекущие слова, мол, поехали со мной, в город, он не смог скрыть от Дарьяши своего состояния. Сестра, утирая глаза, сказала всего одно: «Беги!». Она с трудом уковыляла на непослушных ногах за переборку, в свой угол, через минуту появилась с увесистым полотняным мешочком, хранящим горсть монет и несколько прозрачных камешков, которые он находил на берегу ещё мальцом. Сестра обмолвилась, что собирала монетки просто так, без умысла, что ей они никуда не пригодятся, а камешки – так и подавно его. Он нашёл, он пусть и распоряжается этим богатством, она же про это никому не сказывала. Потом Дарьяша немного помялась, подняла на брата слёзные глаза и засунула руку в карман длинной юбки. Когда она выпростала руку и протянула её Мишке, то у него даже немного закружилась голова: в хрупких, почти прозрачных пальчиках Дарьяши желтел небольшой самородок. «Откуда?» – вырвался вопрос, и в ответ прозвучало, что нашла пару лет назад возле бани и припрятала, как будто знала, что пригодится.
Мишка опустился на колени, обнял сестру и прильнул на мгновение золотой головой к её тщедушной груди, потом расцеловал Дарьяшу в побледневшие щёки и, вскочив на ноги, кинулся собирать нехитрые пожитки, чтобы бросить к ногам очаровавшей его девушки «всё злато мира»!
Бежать надо было, пока с лесоповала не вернулся отец. Мишка бросил взгляд в окно и заприметил мать, идущую с реки. Походка её, перекошенная под тяжестью прополосканного белья, была осторожной и медленной. Обычно Мишка кидался ей на помощь и так быстро доносил таз с бельём до крыльца, что мать не поспевала за ним, но сегодня… Сегодня его неудержимо влекло к той, чьи глаза похожи на лежащие в мешочке алмазы, чьё кукольное личико казалось фарфоровым, а точёная фигурка напоминала статуэтку балерины, что единственным украшением много лет стоит у них на жёсткой накрахмаленной белоснежной салфетке в самом центре комода. А чего стоит её необычное имя! Люция – это же, как песня! Как Шаганэ!
Мишка в несколько прыжков пересёк огород, из-за баньки ещё раз глянул на родительский дом и юркнул в кедровую сень, опоясывающую деревню дорогой оправой. Знакомыми тропами, срезая крутой извилистый поворот реки, кинулся он догонять туристов, и то, что у ребят вылилось в двадцать с малым километров по реке, Мишка сократил до восьми по суше. Благо, тайга с малолетства была его родным домом, и её тайнопись он знал и понимал.
***
Так жизнь Мишки, жителя таёжной деревни, превратилась в городскую, мало ему понятную. Как сам чёрт в голову влез, напустив помрачение какое-то! Люция же, к чьим ногам были брошены алмазы и золото, вдосталь нахваставшись трофеем, вдруг поняла, что беременна. Сыграли скромную свадебку (к тому времени от Мишкиного царского подарка и след простыл – растворился в гуляниях, приёмах, вещах, попытках стать светской львицей) и на полном ходу въехали в семейные будни, растеряв охладевших к ним друзей, возникших по случаю внезапного богатства.
Рожая первенца, Люция прокляла всё на свете. Димка оказался богатырём пяти с половиной килограммов. Он, буравя себе дорогу в свет, рвал всё на своём пути и вырвался в мир с таким громогласным ором, что Люции показалось, будто в городе взвыли все сирены разом. Так он потом и взрослел – с телосложением отца и характером матери, а в один из пасмурных дней, тех, что едва-едва заслоняют лето от осени, он вышел из квартиры и назад уже не вернулся. Его сестрёнке Насте, родившейся на три года позднее, тогда было шестнадцать. Была она щупленькой, маленькой, белобрысенькой – вся в мать внешне, но нрав унаследовала от отца. В свет Настёна выскользнула так, что никто и глазом не успел моргнуть; ожидания боли не оправдались, и этим фактом ставшая во второй раз матерью женщина оказалась весьма недовольна – она готова была показать во всей красе трагизм своего нелёгкого существования. В отличие от сбежавшего от вечных материнских упрёков Дмитрия, Настя всегда была рядом с матерью и, подобно отцу, никогда не сомневалась в искренности её чувств, болячек и настроений. Она любила мать так, как положено любить дитяти своего родителя, но отца она – боготворила, и этот «благовредный» факт считавшая себя центром мироздания Люция переживала почти так же, как отсутствие боли при рождении дочери.
Любил ли Михаил Иванович свою жену, сказать трудно. Для этого надо дать точное определение, что такое есть любовь. Страсти, перегоревшие в нём ещё до рождения детей, не кипели – по природе своей он был настолько спокоен и сдержан, что сие человеческое, однажды его коснувшись, обходило теперь стороной, но он был предан, заботлив, терпелив, вынослив, умел молчать, и – он безгранично уважал Люцию как мать своих детей. В моменты истеричных состояний жены он сгребал её в охапку и, качая на руках, ходил с ней по комнате, как с младенцем. Люция какое-то время всхлипывала, потом мелко дрожала (но не дольше, чем нужно) и успокаивалась, кончиками пальцев нежно теребя ворот его рубашки и поглаживая короткую мощную шею. Нет, не понимал Михаил Иванович, но тонко угадывал состояние подаренной ему тайгой женщины. Точно так же, как свою хрупкую жену, он качал на могучих руках и детей. Тихой лупоглазенькой Настеньке, внимательно следящей из кроватки за манипуляциями брата, частенько впадающего в детские истерики, отцовской заботы доставалось больше. После того, как Димка успокаивался, отец непременно брал на руки свою любимицу и ходил с ней по комнате, пока та не засыпала, посасывая большой палец своей худенькой ручонки. Годам к десяти истерики Димки резко прекратились, он замкнулся, и всё общение в семье свелось к упрёкам со стороны матери, грубости со стороны сына и полного непонимания, что делать, со стороны главы семейства. Насте же стало перепадать всё больше и больше «мамкиной любви»: Люция, сетуя, что у дочери нет никаких шансов стать чем-то путним, что она никогда не познает, что такое настоящая большая мечта, то легонько подпинывала её в зад, когда та корячилась, вымывая до блеска полы, то шипела, что её надо, как котёнка, тыкать всюду носом, чтобы не гадила где попало, то просто закрывала её в комнате, пока не одумается или не вспомнит какой-либо сущей мелочи, из-за которой любящая мать не станет не то что крика поднимать, но и внимания этому не придаст.
Михаил Иванович, в думах своих перекатывая родниковое название родной деревни Чизма, спрятавшейся в горной тайге на границе двух миров, и вспоминая своё бегство, мужественно пережил холодное отношение жены к Дмитрию, который, внезапно покидая отчий дом, бросил с порога, что он теперь сам по себе и что искать его не надо. Последнее услышанное от него было «достали». Или «достала»? Здесь мнения обитателей квартиры, окнами своими выходящей на разбросанные внизу деревянные домики, расходились. Люция настаивала на первом варианте, Настя слышала второй, а Михаил Иванович обыденно молчал, сославшись на медвежий слух. Чутьём, свойственным людям добрым и отзывчивым, он понимал, что не холод сквозит в душе жены, а защищается она так от отчаянья утраты. А может, это способ скрыть облегчение, как-никак мучилась она с сыном-то. Сам же он долго и безутешно сокрушался по нему, даже несколько раз прикладывался к спиртному, чего ни раньше, ни позднее за ним не водилось.
После бегства сына Люция совсем слетела с катушек, закрутив головокружительный роман с импозантным седокудрым красавцем. Адюльтер длился несколько лет. Люция то переезжала к любовнику, то, вся в слезах, возвращалась домой. Она не только не скрывала своих чувств к другому, более утончённому, интеллигентному и подтянутому во всех смыслах этого слова, но открыто говорила о них мужу. Что он чувствовал при этом, её не интересовало. Она была полностью уверена в том, что «этот нагулявший жирок недотёпа с дремучими мозгами» ничего чувствовать не может. «Ах, зачем, зачем я спилила этот кедр и испортила себе всю жизнь? Ведь человек рядом со мной должен быть изящен! Ты понимаешь? И-зя-щен!» – причитала она, привычно заламывая руки и колотя мужа в широченную грудь.
На фоне этой драмы разыгралась ещё одна, в которой «движимая любовью» Люция прилагала массу усилий, чтобы дочь была с ней и только с ней, но Настя, несмотря на податливость и безотказность, жить хотела с отцом и оказалась в этом непреклонна. Она наотрез отказалась переезжать с матерью к «возлюбленному всей её жизни». Намучавшись, вдосталь погоревав на плече, обременённом седыми кудрями, блудница вернулась в семью окончательно, сетуя на нелёгкое расставание и трудное возвращение к родному очагу. Пока Люция вздыхала о своём бренном существовании, о непонимании со стороны домочадцев, о мире, чёрством и никчёмном, Наська (другую конфигурацию имени трудно подобрать в данном случае) собралась замуж. Не желая её от себя отпускать, Люция виртуозно устроила жизнь дочери подле себя, мужа же её, худосочного невысокого паренька с кривенькими ножками, невзлюбила всей душой, о чём откровенно говорила на каждом углу, кои водились не только в их квартире. Нелюбовь эта распространилась и на его татарскую фамилию, и Люция приложила все силы, чтобы «незаконно возникший зять» взял фамилию жены. Наверное, наличие хоть какого-то жилья у Раиса (имя тоже стало предметом злословия новоявленной тёщи) спасло бы ситуацию, и новоиспечённая родственница не имела бы возможности всюду совать свой нос, но квадратных метров у Раиса не было. От съёмной квартиры дочь удалось отговорить, внушив ей, что добросовестная работа на заводе, или рождение ребёнка, или то и другое в совокупности сделают своё дело, и молодые вскоре получат собственное жильё от государства, но чего не случилось, того не случилось. Государство жилыми метрами не разбрасывалось, и верившая безоговорочно матери Настя вместо очереди на квартиру получила дулю под нос. Чиновники, отказывающие от лица государства, аргументировали тем, что в их квартире ещё пара человек спокойно может разместиться и что не надо (ну не надо выпрашивать то, что тебе вообще не полагается и не светит никогда) по пустякам беспокоить «их вышестояшество». Люция в тайне, скрываемой неумело, этому факту радовалась, хотя тему «жмотства чиновников» обсосала со всех сторон и подвергла ругательствам, состряпанным не из самых высокохудожественных словечек, кои приобрела в течении жизни, чаще не глубоководной, с наносными отмелями и стоячими, покрытыми тиной заводями. Может, и были на берегах этой жизни и расписные луговины, и мшистые валуны, и суровые камни, и изумрудные леса, да потерялось всё, спряталось за тяжёлым туманным пологом кулис, не желающих раскрывать тайны сцены. Люция чувствовала то ли задним умом, то ли левой пяткой, что что-то есть ещё в жизни, но не могла понять – что, и тогда начинала страдать. Любовь к страданиям, страстным и долгим, увлекала так, что Люция и вовсе переставала замечать что-либо вокруг. В такие времена она перемещала себя по квартире, сурово сжимая кулачки и выпячивая маленький подбородок. Потом страдание отпускало, накатывала съедающая остатки сил пустота и навязчиво стучала в голове, что жизни-то и нет, что жизнь кончена, и тогда Люция, привычно заламывая руки и ломая старую комедию, восклицала, что на всё множество людей во всём свете нет никого (никого!), с кем можно было бы поговорить, и что она так и останется не понятой простыми обывателями, заселившими её квартиру.
А тем временем у Насти и Раиса народилась Наташка и стала «слишком активно размахивать своими ручонками и слишком выразительно глазеть своими глазёнками», и всё внимание и забота «несносной Наськи» доставались только ей. Люции пришлось невзлюбить и внучку. Но, словно в противовес бабкиному негодованию, с самого рождения в жизни Наташки был человек, который компенсировал все злобные взгляды и слова. В тёплых сильных руках этого человека она с наслаждением засыпала, эти руки поднимали её под самый потолок, в этих руках ей было так спокойно и так хорошо, что всё остальное меркло. Руки деда. Большие, крепкие, они умели всё. А ещё от деда всегда пахло деревом. Этот запах, полюбившийся Наташке навсегда, он приносил с собой из столярной мастерской.
Так они и жили в малогабаритной двушке с раздельными комнатами до тех пор, пока у Люции не диагностировали саркому, проникшую уже своими метастазами, словно щупальцами хищного чудовища, всюду. На тот момент едва минул год, как Люция разменяла свой юбилейный полтинник, как снова задышала полной грудью от нахлынувшего на неё любовного жара, как тайно забилось сердце в молодых объятьях, несмотря на то, что хотелось, ох как хотелось снова порисоваться перед мужем, что она – нужная и любимая женщина! А как кружилась голова, когда она приходила домой и, глядя на неуклюжего супруга, вспоминала… Гладкое, без намёка на морщинки лицо, ярко-синие глаза, упругое тело, играющие мускулы… Он был невыносимо хорош! О, этот мальчик, пожелавший зрелую женщину, её герой, её утешение и услада! В этот раз Люция не желала делиться своим счастьем ни с кем. Она хотела напиться им допьяна, словно это был последний глоток кислорода. «Увидеть тебя и умереть», – шептала она в сладострастии, обхватывая молодое горячее тело коченеющими ладошками. Она, понимая, что недолго суждено длиться этому роману, вполне искренне, но словно со сцены произносила, что они обречены, что это трагедия – знать, что времени у них нет, ведь она постареет намного раньше, и что рано или поздно он оставит её, обречённую задыхаться в старости, безысходности и унынии… Ах, как жестока судьба, как нелепа… как несправедливо она бросила между ними пропасть в целое поколение! Страдая от любви к самому страданию, Люция насиловала свои чувства, рвала в клочья свою животворящую страсть, не давая ей возможности развернуться с волнующей правдивостью и естественностью, напротив – поправ самое глубинное, она обездвиживала себя эмоционально, она загоняла свой ум в тиски, а своё тело – в навсегда заученное судорожное движение, в котором руки скорее напоминали шлагбаумы, а ноги – ходули неумелого циркача с искажённым лицом, на котором установились каменные черты вкруг выпученных замутнённых глаз.
На прощание с любовником Люция заготовила душераздирающую, не раз отрепетированную сцену, но она даже не предполагала, что всё, тщательно продуманное и множество раз мысленно произнесённое, ей сыграть не удастся… Не будем вдаваться в подробности, жизнь лишила её этого, воспротивясь такому небрежному к ней отношению, или же смерть, словно играющий судьбами доктор, прописала иное лекарство. Важно ли это для того, кто, с парализованной чёрствостью душой, приговорён к мучениям завершающих земное существование дней? Нужно ли это, если болезнь хватает в свои силки и давит, давит, давит. Давит до такой степени, что в этой давильне меркнут любые дела земные, стираются любые поступки, гаснут любые слова. Может быть, кто-то где-то, страдая от боли, способен думать о других, но не Люция. Болезнь удобрила в ней самую тёмную почву и взрастила самые ядовитые семена.
После обследования Люцию сразу же выписали: не операбельно, не излечимо, метастазы всюду, месяц-полтора, может, и меньше, готовьтесь, мужайтесь. Несколько дней оплакивающая себя бродила по квартире, едва волоча ноги, а потом легла умирать. На белоснежной (иных цветов в постельном белье она не признавала) подушке серело маленькое сморщенное лицо, поверх белоснежного одеяла лежали безвольные руки, и только пальцы с крашеными в ядовито-нервный цвет ноготками выдавали глубинные переживания. Люция приготовилась умирать, пеняя всем на то, что её мечта о театре так и осталась мечтой, а у них – дармоедов, и мечты-то настоящей никогда не было и не будет, им, недотёпам, простым обывателям, ни черта не смыслящим в изяществе, не понять, что такое высокая мечта. Свою роль Люция играла до тех пор, пока свет софитов высокой мечты однажды не погас – пришла боль, жгучая и мучительная. Боль, от которой хотелось бросаться на стены и вгрызаться в железо, ломая зубы. Боль, ставшая неожиданной для пьесы Люции.
Настя на заводе с трудом выбила бессрочный неоплачиваемый отпуск. До последнего дня она ухаживала за матерью, терпя её склочность. Она почти перестала общаться с дочкой. Спала урывками, когда отец пытался подменить её у постели больной. Но каждый раз в такие минуты Люция тут же требовала вернуть дочь к «смертному одру», при этом она то вытягивала руки-шлагбаумы вверх, то вскрикивала «о, жизнь моя, я умираю, не уходи!», то призывала смерть, то проклинала всех. Последнее случалось чаще.
Больше всего Наташке запомнились слова «изыди, исчадие ада». Она не поняла в брошенной в неё фразе ни единого слова, но глубоко прочувствовала весь жуткий смысл, которую та в себе несла. Быть исчадием Наташка не хотела и в последствии прилагала много усилий и стараний, чтобы не вызывать ни у кого сомнений, что она – не такая, что с ней удобно.
Когда дед взял её за руку и вывел из комнаты, то объяснил, что они заходили к бабушке попрощаться, но почему-то (здесь дед горько вздохнул и опустил глаза) не получилось. Какое-то время из-за двери были слышны крики, стоны, путанная речь, потом всё стихло, и дом пронзила острая металлическая тишина. Весь вечер Настя провела с впавшей в беспамятство матерью, ближе к ночи вышла, сказала, что всё кончилось, криво улыбнулась и накинула простыню на зеркало. Дед смахнул слезу, вздохнул, обнял Наташку и попросил её не обижаться на слабого человека. Наташка не обижалась, она боялась, но раз всё кончилось, и истошных криков больше не будет, то она пойдёт спать.
В доме погасли все шумы, и что-то странное ползало по стенам. Наташа хорошо помнит ту ночь. Она лежала на диванчике, натянув одеяло до макушки и слушала, как тихо-тихо поёт мятель. Дед всегда говорил «мятель», и, хотя бабка Люся его и ругала за это привезённое с отрогов гор «не позволительное нормальному человеку словечко», Наташе оно нравилось. Ей чудилось в нём, как ветер нежно мял снежинки, придавая им самые разнообразные формы, как вдыхал в них жизнь, и они, напитанные запахами мяты и разлапистых елей, под самые сладкие звуки на свете падали на землю. «Тебя убаюкивает», – сказала бы мама, но мамы рядом не было, да и папа был на работе в ночь – охранял объект. Наташкино воображение рисовало папин объект в виде сложенных высокой, сужающейся кверху, башней кубиков. Наверное, мог с ней побыть дед, но слишком странная тишина. В такой тишине дед нужен маме. Маму легко обидеть, а она справится, потому что, как говорил дед, она родилась Наташей и все последствия вытекали из её рождения и её имени. Ей было непонятно, что вытекает из её рождения и уж тем более – из имени, но она чувствовала значимость дедовой фразы и почти с пелёнок верила в свою исключительность, которая сейчас никак не мешала ей дрожать от страха.
Ночь, обычно многоголосая, успокоила вьюгу, заглушила голоса соседей, затмила все шорохи и вздохи, заставила замолчать весь мир. Наташа, сжав в кулачок всю свою волю и упразднив нервные волнения, бесшумно выползла из-под одеяла, натянула на себя снятые перед сном колготки, сверху нацепила носки, закуталась в мамин халат и чуток приоткрыла дверь. Свет прочертил тонкую полоску на детском столике, сделанном для неё дедом, и упал на вырезанные им же небольшие кубики с выжженными буквами. На этих кубиках дед объяснил внучке, как складывать слова. Сейчас шесть кубиков высились трёхэтажной башенкой, и на них сверху вниз по слогам было написано НА-ТА-ША. Глянув на своё имя, девчушка снова влезла под одеяло. Теперь, когда свет выхватывал имя, а тело было упаковано в несколько слоёв одежды, словно она была не девочкой, а капустой, пришла уверенность, примиряющая с несносной тишиной. Наташа улыбнулась, представив себя ровненьким кочанчиком на огромной грядке, и тут же перенеслась в другую мысль: как всё-таки хорошо, что у всего есть свои имена и у неё тоже. Интересно, как жили бы люди, если бы у них не было имён? Наверное, всё было бы по-другому… Да, обязательно было бы по-другому. Все бы обращались друг к другу «эй!», и это портило бы картину мира. Бабушка Люция частенько говорила, что ей портят картину мира, а после злилась на испорченный мир, такой грубый и такой бесчувственный. Размышления сгущали сон, и Наташа, маленькая полноватая девочка, прозванная бабкой исчадием ада, в столь нежном возрасте умеющая обуздать свои страхи, чувствующая ответственность за других и понимающая уже значение имени, заснула. И, наверное, многое сложилось бы в её судьбе иначе, если бы не события, привлечённые в жизнь семьи Потаповых смертью бабки.
***
После похорон Люции Эдуардовны родители стали опекать Наташку так, как будто старались изжить из её детской головки все злобные взгляды, все несправедливо брошенные в неё словечки, все тычки и подзатыльники, без стеснения отпускаемые бабкой. Больше всех усердствовала Настя. Ей было стыдно перед дочкой за свою взбалмошную мать, и она всеми возможными способами старалась облегчить ей жизнь. Раис, почувствовав себя полноценным хозяином в доме, Настино отношение к дочке подхватил, и между родителями началось негласное соревнование по сглаживанию углов, натыканных Люцией по всей площади их семейной жизни. Наташка, получая отныне поощрения любым своим действиям, каталась в безмерной опеке родителей как сыр в масле. Ещё не успевало оформиться у неё желание, как его тут же утыкивали частоколом желание-заменяющих предложений. Ей многое позволялось, но за неё всё решалось, и всепозволенность выглядела тонким бархатистым и всё смягчающим флёром, через который подрастающая особа с умилением смотрела на мир, всё реже и реже вспоминая бабкины колкие слова.
Особого достатка в семье не было, но стабильность была. Раис, раз в трое суток надевая отутюженную форму, уходил «сидеть на проходную», через которую Настя по утрам спешила на работу – в отдел технического контроля, в тот самый, где «провела свои лучшие годы, пытаясь заработать на корку хлеба», её мать, стремившаяся вырваться из «цепких лап сжирающего её нежную душу и хрупкое тело безжалостного монстра». По поводу своего графика работы Раис постоянно отпускал одну и ту же шутку, что работает он на птичьем дворе с утками, с курами, с гусями и прочей мелкокалиберной живностью, и единственная крупная мишень во всём этом предприятии – это его Настасьенька.
Михаил Иванович, выделяясь огромным ростом и мощным телосложением, чувствовал себя дома неловко, как медведь, с трудом поместившийся в теремке. Пока жива была Люция, такого чувства у него не возникало – с ней он ощущал свою значимость, а не свой рост. Не разбираясь в психологии, он понимал «выкидоны» жены, сочувствовал ей, как мог – жалел. После её ухода в мир иной, нить, связывавшую его с городской жизнью, перерезали, словно пуповину, и он повис в воздухе в ожидании, что кто-то вдруг шлёпнет его и он обретёт возможность кричать и дышать полной грудью. Но шлепков не было. Настя и Раис всё своё внимание с лихвой отдавали Наташке, а он получал лишь положенное ему почтение. В душе Михаила Ивановича было неспокойно, и он, не отдавая себе отчёта, погружался в работу. Из его медвежьих лап с массивными ладонями и короткими, словно обрубленными, пальцами выскальзывали способные украсить любой интерьер изящные замысловатые вещицы, детские игрушки, деревянные скульптурные изваяния. В столярке его уже давно прозвали деревянных дел мастером. Его любили равно как за добрый нрав, так и за великодушное молчание. Когда же он, спустя полгода после смерти жены, объявил о своём решении уехать в деревню, его назвали недотёпой, не способным понять, какое имя и какую славу он может себе обеспечить, но проводили по-хорошему, с почестями. И даже выдали грамоту за добросовестный труд, приложив к ней скромные премиальные. Михаил Иваныч неуклюже потоптался, поблагодарил всех и, не оглядываясь, вышел вон. Ему здесь нечего было терять: приятелями он не обзавёлся, должностей себе не заработал – уходил налегке.
Долго подбирал слова, как сказать детям о намерении вернуться в родной медвежий угол, поманивший вдруг своей мохнатой лапой, но и это оказалось не так уж трудно. Они поддержали его в таком решении, заверив, что будут к нему наведываться. Сборы были недолгими. Раис сразу стал выше ростом и по квартире ходил, щёгольски осматривая – теперь уже свои – владения. Настя по-дочернему повздыхала и смирилась с решением отца. С Наташей оказалось сложнее. Поняв, что самый родной человек хочет сбежать, она всплакнула, прильнула к плечу, исцеловала его лицо и взяла честное-пречестное слово с родителей, что она будет «все лета у дедушки жить, начиная вот прямо с сегодняшнего». Так всё и сталось. Наташа не мыслила каникулы ни в каком другом месте – только здесь, рядом с дедом, на берегу «реки всех рек», под сводами девственного леса, на скальных отрогах она чувствовала себя окрылённой и по-настоящему свободной.
***
Возвращение в родные места далось Михаилу Ивановичу тяжело. Воспоминания угнетали. Родной деревни уже не было – всё до последнего дома слизал пожар. Как корова языком. Он знал об этом из писем, приходивших какое-то время от матери, написанных тайком от отца.
Письма
Первые лет пять, пока юношеское восприятие мира нагоняло страх за совершённый поступок, Мишка даже думать боялся о том, чтобы показаться в родительском доме. Потом, когда Димка уже вовсю научился истерить, а Настенька уверенно встала на ножки, решился, отпросился у Люции и поехал. Жена оказалась настолько благосклонна, что разрешила взять машину. Он даже удивился, а как же она? Неужто пешком ходить будет? Но Люция потрепала его по щеке и коротко бросила царственное «поезжай!».
Крутя баранку, Михаил представлял, как расскажет родителям, что у него теперь есть дети, а у них, стало быть, внуки. Правда, момент этот от него ускользал, потому что, прежде чем о детях говорить, надобно покаяться, но готов ли он к покаянию? Готов ли склонить голову? Пожалуй, что – да, готов, ведь он и сам уже дважды отец и в глубине души понимает, что если не испросит прощения, то трудно будет беречь своих детей – бельмом ляжет на род будущий и суровое молчание отца, и опущенный робкий взгляд матери.
Август кропил мелким дождиком, не умея выдавить из роящихся серо-палевых туч более увесистые и частые капли и прибить дорожную пыль. Со взгорка открылся вид на растянувшиеся вдоль чудесницы Чусовой чизменские дома, за которыми плотной зелёной стеной высились богатыри-кедры, дарящие покой и непоколебимость в том, что завтрашний день непременно будет. Сердце клокотало, кровь пенилась от до боли знакомого вида. Михаил припрятал машину возле ивовых кустов, скрывающих в своих густых шапках речушку Чизму, огляделся, словно боялся быть застигнутым врасплох, смерил взглядом пасущееся в отдалении стадо и удивился, как оно измельчало: пяток коров взаместо полусотни с лишком. Что стало с его деревней? Неужели деревенский люд отказался от такой необходимой животины, как корова? Разве ж можно в деревне без этой кормилицы? Странное томление сжало грудь тисками, и Мишка ощутил такое скверное и жгучее одиночество, что захотелось плакать. Негодуя и на самого себя, и на поредевшее значительно стадо, и на тех, кто это допустил, он закатал штанины, скинул обувку и перешёл реку там, где когда-то гонял вброд коров. Дно реки по-прежнему было испещрено многочисленными коровьими следами, словно время, не сдавая своих позиций, не желало стирать натоптанное за два века.
Нежаркий день клонился к вечеру, и солнце играючи путалось в широких кедровых лапах. Он и сам бы сейчас в них запутался, пробежался бы по лесу, наведался на знакомые речушки, на звенящие ручьи, на источающие пряные летние ароматы поляны и растянулся бы во весь рост на пологой стороне Мельничного лога. Или лучше затаился бы в тени едва слышного ручья с громкоговорящим названием Бедька, привалился бы спиной к суковатому дереву с давно облезшей корой и смотрел бы ввысь, сквозь листву, сквозь иголки… и видел бы, как по-телячьи, немного обиженно и томно, выпячивает небо полные белые губы, цепляется к ползущему с низин туману и бесконечно долго пьёт сбитое прохладой молоко. Но – как будто кто-то невидимый и всемогущий провёл нерушимую границу между жизнью до и после, и нарушить эту границу было невозможно.
Плачевно выглядела деревня: окна многих домов были заколочены, а те, что ещё смотрели из-под тоненьких ситцевых занавесок, выглядели неживыми. Стояла гробовая тишина. Не сновали по делам бабы, не мельтешили дети, не велись после рабочего дня мужицкие разговоры подле чьей-нибудь калитки. Вымерла деревня, сократилась с двухсот человек до девятнадцати…
Подходя к дому, Мишка думал, что вены не выдержат и лопнут от напряжения. Потом увидел, как вышла на крыльцо мать, склонилась над… (его сестрой? как изменилась, не узнать!), рванулся к ним, но от неприступного вида внезапно появившегося отца замер, держа в руках зашарканные ботинки со свисающими змейками-шнурками. Из-под брюк выбилась новенькая рубаха в мелкую красно-белую клетку. Мишка сначала опустил глаза, глядя на клетчатую рябь, потом несмело посмотрел на родных, готовый вот-вот кинуться, чтобы обнять их, но под стопудовым взором отца не мог сдвинуться с места. Ему казалось, что он врастает в землю, что ещё немного, и его поглотит полностью, сдавит, ломая рёбра и грудь, сожмёт горло, выдавит из черепной коробки мозг. Мишка задыхался. В голове сделалось так горячо, будто в неё по капле вливали расплавленный металл. Тело онемело. Не чувствуя ни рук, ни ног, лишь – кипяток в голове, нерадивый сын с мольбой смотрел на родных.
Отец в дом не пустил. Мать стояла за его спиной, сдерживая слёзы, но кинуться навстречу сыну не решалась. Рядом громоздилась старшая сестра, рябая Дарьяша. Она, исхудавшая, еле стоявшая на ногах, опираясь на костыль и близоруко щурясь, что-то сказала отцу, но тот зло отмахнулся и велел обеим уйти в избу.
Михаил уехал, так и не обняв мать и не сказав сеструхе доброго слова. Больше он не приезжал, но в конце лета, подгоняемый надеждой, написал матери нескладное письмо. Так завязалась скупая переписка. Ответы были редки, потому что писались тайком от отца, проклявшего сына. Мать писать не умела, поскольку была малограмотной и могла лишь читать «по складам», письма же не разумела вовсе.
Первое послание, ожидаемое долгие месяцы и прилетевшее перед Новым годом, было длинным и обстоятельным. Дарьяша под диктовку матушки писала на листочке из школьной тетради в широкую линейку неровным скачущим почерком о том, что они готовятся переезжать в соседнюю, чуть выше по течению, деревню, «потому как нашу-то Чизму порешили стереть с лица Земли», написала, что дом уже выбран, и сообщила адрес, по которому они с матерью будут ждать его весточек. От себя добавила душераздирающее об угрюмости отца, запечатавшего свою боль под проклятием, о болезнях матушки, надорвавшей и поясницу, и ноги и тщательно скрывавшей истинное положение дел, о зарезанной на мясо Глашке, которую она, Дарьяша, есть не может, потому что помнит её глаза, запах и исходящее от неё тепло, в конце черкнула об оставшихся жителях деревни, по-разному относящихся к «отлучению от родины».
Люцию письма, приходящие из деревни, не интересовали, поэтому она попросила избавить её от вникания в чужой семейный вопрос, и Михаилу было не с кем обсудить, что делать и как жить с этой ношей дальше.
Следующее письмо, короткое, с сальным пятнышком в левом нижнем углу, по весне принесло горькую весть: «померла Дарьяша, отмаялась вековуха, отболела сердешная». Было ещё несколько писем, таких же коротких и печальных, выведенных ровным округлым почерком, а через какое-то время переписка стихла, пока несколько лет назад приходской батюшка, изредка объезжавший жителей деревень, не написал, что Иван Потапов упокоился с миром, что окна на доме заколочены, а ключ от избы хранится у него, отца Алексия, который и писал все письма «по просьбе рабы божьей Федотьи, а потому стал невольным свидетелем горькой материнской любви и сыновьей привязанности». И ещё: «…то ли по великому промыслу божьему, то ли по столь же великой случайности, хозяйство моё скромное находится в той же деревне и почти на той же улице, не отвечающей духу эпохи, но отражающей характер деятельности и дух жителей древних гор».
***
Очевидно, последние слова батюшка вставил для красоты словесной, потому что деревня давно уже не отражала ни промысел человеческий, ни любой другой промысел. Дух времени, требовавший когда-то для страны алмазов, золота и платины, выветрился так же, как ещё до него обнищал дух, поддерживающий то ценное в человеке, что не измеряется ускользающей сквозь пальцы золотой пыльцой. А что до духа жителей древних гор… Пусть это остаётся непреложной истиной, незыблемостью. Не станем его трогать, ибо это основа основ, вписанная в наш генетический код и помогающая тогда, когда самим нам уже не справиться.
Михаил Иванович, приехав в деревню, которая никогда не была ему родной, застал батюшку, несмотря на сомнения «дома-не дома, жив-не жив», копошащимся в ограде. Он был уже «привесьма состаренный», службу не служил и более теперь воздавал хвалу земле, что кормила и поила его и немногочисленную скотину, но слава «международно-известного по деревням» преследовала его весь остаток жизни. Народ любил поговорить с ним, послушать его мудрое доброе слово, не навязывающее религию, но заставляющее обратиться вглубь себя и отыскать там нужный ключик.
Отдав ключ от дома и красочно расписав местоположение оного, старичок возвёл кристально-синие глаза к небу и выдохнул, что выполнил он последнюю свою миссию и что, видать, заканчиваются его дела земные. Легко вдохнул и долго смотрел вслед удаляющемуся, хоть и нерадивому, но всё же божьему сыну, с которым ещё не раз будет вести разговоры на житейские темы, сидя где-нибудь на берегу реки с удочкой, или возвращаясь из леса с ягодами-грибами, или без суеты шагая с деревенского кладбища. Дед Лёша или, как его прозвали деревенские за буйно растущие кустистые брови и весёлую торчащую во все стороны бородку, дед Лешик, неприхотливый, всегда в благостном настроении, готовый помочь в любом «не сильно сложном вопросе», про окончание земных дел ошибся и прожил ещё лет пятнадцать после приезда Михаила.
– Это как ведь получается? – скрипел он теряющим басистость голосом. – Думал, все дела сделал, а вишь, как вышло, держит меня история ваша семейная. Не могу я взять и бросить тебя с твоими думами горькими, жду, когда всю вину изживёшь из себя и духом окрепнешь.
Михаил сначала думал, что дед Лешик к вере его приучить хочет, и твердил, что крестов в жизни не клал и сейчас тоже рука не поднимается, но получил ответ, что дух добром крепится, словом ласковым, помощью в делах разных: скорбных и радостных.
– А как же! – восклицал он, видя непонимание. – Радость тоже участия требует. Скорбеть с другим проще, а ты поди порадуйся радости другого, да так, чтобы без зависти! На этом многие ломаются: в горе пожалеют, а в радости обзавидуются. А дух ни на жалости не крепится, ни на зависти. Это для него, как водка или табак, только силы отнимает. Радость же – как вода родниковая, через толщи земли прошедшая, а потому – кристальная чистая, холодная, освежающая мозг и душу исцеляющая. Как нахлынет такая радость, так сразу понимаешь, как велик мир и как удивителен промысел божий!
Михаил каждое слово впитывал от деда Лешика, всем сердцем к нему прикипел, за отца почитал и однажды уловил-таки в его глазах добрый взгляд своего бати. И горько ему тогда стало, и сладостно. После одного из таких очищающих разговоров пришёл он как-то домой и достал из огромного сундука Дарьяшины книги. Весь вечер тогда просидел над ними, перебирая, перелистывая, рассматривая… чувствовал, как будто душа сестры витала над ним и улыбалась. Когда к нему в руки попал томик стихов Есенина – тот самый! С Шаганэ! – он не смог от него оторваться. В ту ночь он запоем прочёл свою первую книгу.
Глава вторая. Первый снег – как первый поцелуй
***
Был один из тех пасмурных дней, мелко и ехидно стучащих по стёклам холодной дробью, когда не хотелось вылезать из-под одеяла. В такие дни, затяжные и беспросветные, на Наташу нападала меланхолия, вгрызалась в самое нутро и не оставляла надежды на будущие дни, где могло бы случиться солнце. Тогда ей хотелось снова стать маленькой. И чтобы дед носил её на руках и качал, качал, качал. И чтобы пахло сосной, липой, берёзой. Чтобы мама и папа пересмеивались на кухне, а она, в ожидании первых снеговых промельков, – с нетерпением бы всматривалась в переливчатую от дождя заоконную картинку. Наташа любила зиму, ждала с тайным трепетом первого снега, как будто первого свидания. Или первого робкого поцелуя, который случился в её жизни под первый снег. Она училась, кажется, в седьмом классе. Невысокий паренёк из соседнего дома конфузился и никак не решался поцеловать её. Так длилось несколько недель. Он вздыхал. Она ждала. Но в тот раз, обжигая лицо, пошёл первый снег, и Наташа не выдержала полыхающего внутри пожара! Она стянула с мальчишки шапку, резко наклонилась и поспешно поцеловала в потрескавшиеся от холода губы. Потом они бесконечно долго стояли в вихрящихся хлопьях и целовались, целовались. Как давно это было! Она даже имя его вспоминала с трудом… Как сон, в котором правдивыми оставались только снежные хлопья. Наташа от захлестнувших её эмоций, ранее не ведомых, заболела и три недели просидела дома… Она не знала, что сталось с тем пареньком, но больше она его не видела. А может, и не было ничего, кроме завораживающей мистерии первородной белизны, в преддверии которой теперь неизменно приходила печаль. Даже несмотря на то, что жизнь сложилась счастливо и что все вокруг её любили, она не могла превозмочь себя и полностью отдавалась внутреннему позыву.
Это было важное время, поэтому много лет подряд Наташа брала отпуск ближе к концу октября. Над этим фактом подтрунивали все: и горячо любимый муж, которого она называла не иначе как Павел Иванович, и здравствующие родители, и коллеги по работе. И даже дочь научилась с малолетства поддерживать большинство. Наташа не обижалась – она и сама подтрунивала над собой, говоря, что продуктивный год ей необходимо балансировать качественной деградацией, а обиды рассматривала как пустую трату времени. Но был в её жизни человек, который никогда не подшучивал над ней. Она вспомнила деда, следом вспыхнула картинка коробки с кубиками, из которых складывались самые значимые слова в её жизни. Интересно, куда они делись? Она их так любила! Наташа бросила невольный взгляд на свой стол, деловой, официальный, серый. Как в офисе. На полках солдатскими рядами выстроились папки. Она и не заметила, как работа переехала в дом и оккупировала часть комнаты. В отпуске эти папки, этот стол, этот официозный порядок выглядели так же нелепо, как выглядит на раскалённом пляже вырядившийся в костюм-тройку представитель какой-нибудь фирмы. Отпуск на рабочем месте. Странное ощущение полонило Наташу и крепко удерживало в своих застенках. До неё вдруг дошло, что она несколько месяцев не заглядывала в комнату дочери и понятия не имеет, как там у неё? По-прежнему? Или что-то изменилось? Дорожный знак на двери Кати красноречиво говорил, что проезд воспрещён. Когда это случилось? В суете она и не заметила, как отдалилась от неё. Теперь они… как соседи? Иногда милые, иногда скупые на приветствия соседи, у которых и время ужина не всегда совпадает, и завтраки проходят в такой спешке, что пары слов сказать не успеваешь сквозь светящиеся экраны телефонов. Как бы Наташа ни обожала Катюшку, как бы ни баловала, та предпочитала свободное время проводить с отцом. Нет, между ними не существовало непонимания, не пробегало никаких кошек, но появилась некая, задаваемая ироничным тоном мужа и общей недосказанностью, прохладца с редкими проблесками тепла. Отношения с малолетним ребёнком изживали себя, отношений с формирующимся подростком не получалось. Говорят, женщине труднее, чем мужчине, принять чужого ребёнка, но Наташа приняла, полюбила и искренне считала Катю своей дочерью.
Павел Иванович
Как только Павел Иванович, человек неопределённого вида деятельности и такого же неопределённого возраста, услышал от жены «я беременна, ты станешь отцом», он воспылал к ней ещё большей любовью, если, конечно, существуют какие-либо степени проявления любви, кроме той единственной, которую пророчат мерилом всех вещей. С самых тех слов он, окрылённый, с сияющими глазами, готов был носить «свою женщину» на руках, но случилось непоправимое: сложная беременность обернулась родами ещё большей сложности, и Павел Иванович остался один с младенцем на руках. Такое не привидится даже в самых страшных снах, но реальность – штука упрямая и, в отличие от сна, чересчур категоричная: из неё не вынырнешь, от неё не очнёшься. Обстоятельства, приложив обухом по голове, затребовали ответственности, и новоиспечённый отец, терзаемый великими сомнениями, взял декретный отпуск.
Он честно пытался справляться со всем, что на него свалилось, но получалось плохо. Катя всё время плакала, часто мучилась животом, одну за другой ловила простуды. Соседи по общежитскому коридору стали пенять ему то на одно, то на другое, но особенно на крики ребёнка по ночам, которые он, измученный и надорванный, перестал слышать, младенчески посапывая под дочкины вопли. Устав бороться с соседями, совсем отчаявшись, Павел Иванович малодушно подумывал о детдоме, но однажды недалеко от общаги, в скромной аллейке удалённого от центра района, подвернулась одинокая, симпатичная, с квартирой.
Он доставал из пакета бутылочку с питьём вечно орущей Катьке, но оказался так не ловок, что всё содержимое вывалилось из рук и шлёпнулось на асфальт. Бутылочка откатилась на край тротуара. На помощь подоспела девушка. Он нечаянно коснулся её руки, и дальше они пошли вместе. Получилось ли само собой или это был мгновенно созревший план, но он излил всю душу первой встречной. Завести разговор, очаровать и даже влюбить в себя – этот навык у Павла Ивановича был развит прекрасно, хотя пользовался он им исключительно под настроение. Язык подвешен – говорят про таких. А язык Павла Ивановича был ещё и себе на уме, и потому пускал он его в ход только при таких обстоятельствах, которые складывались в заранее планируемую выгоду. Когда-то он обаял славную девушку и переехал к ней в общежитие, в большую светлую комнату, выходящую двумя окнами на юг. Для человека, заложившего своё жильё под сомнительное предприятие и не сумевшего его вернуть обратно, это был выход. Или вход. Всё зависит от того, как покрутить вопрос, в чём Павел Иванович, без сомнения, был дока.
Околдовать одинокую и симпатичную, как по мановению волшебной палочки очутившуюся на его пути, оказалось делом настолько плёвым, что Павел Иванович едва ли успел и дважды рот открыть! Его жена (царствие ей небесное!) мурыжила его значительно дольше – бастионы пали только тогда, когда она забеременела. Эта же, Наташа, оказалась совсем простушкой. Она была отзывчива, мила в общении, вникала в каждую деталь его многострадальной жизни, при этом – весьма и весьма хорошенькой на лицо и приятной на фигуру, о чём Павел Иванович не замедлил ей сообщить. Ему даже показалось, что он полюбил её, и не мудрствуя лукаво он поспешил объясниться ей в своих чувствах. Она обрадовалась, потому что тоже полюбила отчаявшегося мужчину, на чьих плечах лежало и непомерное горе, и великая ответственность.
Их знакомство длилось около трёх недель. Павел Иванович не любил тянуть кота за хвост, о чём честно сказал своей новой возлюбленной, добавив, что пылкость чувств – явление моментальное: она либо есть, либо её нет, – и в ожидании нет смысла. Наташа, к тому времени ещё не знававшая глубоких искренних чувств (если, конечно, не причислять к этому первую влюблённость), прониклась речевыми оборотами, соломкой подстеленными под её полыхающий от всего нахлынувшего мозг, объявила родителям, что выходит замуж за мужчину с ребёнком, и – не встретила никакого противоборства. Впрочем, она никогда его не встречала. А если не встречаешь никаких препятствий, то можешь ли противостоять чему-либо? Можешь ли почувствовать и поддержать борьбу, что разворачивается внутри души твоей, распознать обличия сомнений, увидеть метания слабостей среди сильных сторон твоих? Наташа цвела цветком тепличным, оранжерейным, в ней было так много всего светлого и чуткого, что она не различала теней и в каждом видела только хорошее, искреннее, светлое.
Павел Иванович с восьмимесячной дочкой переехал в квартиру Потаповых ещё до свадьбы, расписаться же официально с посланной самим богом избранницей договорился, когда минует год со дня смерти первой (на этом слове он делал особый упор) жены – он чтил традиции, заведённые предками, и это ещё больше впечатлило Наташу и добавило уважения к личности будущего мужа. Её смущало не то, что о своих предках он говорить не любил, даже морщился при вопросах о них, а её собственная несдержанность и бестактность при задавании подобных вопросов, поэтому очень скоро она перестала интересоваться родословной Павла Ивановича, и его туманное прошлое оставалось покоиться под плитой с грифом «секретно». Мы тоже не станем задаваться этим вопросом и будем считать сам образ Павла Ивановича, его характер, его склад ума и жизненную позицию неким грубым фактом, принимаемым учёными-физиками за истину, не требующую доказательной базы. Пусть плита эта остаётся неподъёмной, и пусть там, под ней, почивает и радость, что жизнь преподнесла сюрприз в виде Наташи и теперь ему можно вздохнуть с облегчением, скинув заботы о дочке на женские плечи. Негоже выказывать радость там, где тебя могут уличить. И, вместо искренней благодарности, выплывали из уст Павла Ивановича старательно оформленные шуточки, вытекали прибауточки, бутафорски выкатывались анекдотцы. Наташа смеялась. Павел Иванович сквозь речи свои внимательно наблюдал за ней и думал, действительно ли он любит новую жену, или это её лёгкий облик творит этакое подобие любви, или ему уже хочется остепениться и зажить долгой счастливой семейной жизнью? Как бы там ни было, ему и впрямь казалось, что он стал другим. Где-то глубоко-глубоко, в самых тайных кладезях души, замаячил слабый огонёк щедрости, готовый расцвести и озарить лучшие человеческие качества Павла Ивановича, уже почти принявшего решение объединить доставшуюся ему комнату и квартиру Потаповых в приличную трёшку поближе к центру. Но… не созрел огонёк, не пролился пламенем души – скрыл Павел Иванович от Наташи эту малую скромность своего наследства, сказав, что комнату-де они снимали, а он – гол как сокол, и коли любишь – принимай так, как есть. Наташа приняла.
Изменился ли характер попавшего в трудности человека или остался такой, как был, можно сказать лишь в сравнении, что не представляется возможным сделать: пасмурное прошлое Павла Ивановича неведомо, сам он о нём никогда и никому не рассказывал, вопросов на эту тему удачно избегал и городил о себе только разные околесицы да оконечности, не прибавляющие знаний о жизни прошлой.
Может быть, Наташа оказалась не первой, с кем он так себя проявил. А может, действительно, не властен человек над обстоятельствами и при неудобствах готов на лицемерность разного рода и подличания невиданных склонений? Не нам судить Павла Ивановича Гужевара, поставленного самой жизнью в неудобное положение, выкрутиться без посторонней помощи из которого – пойди попробуй! Что же до его характера нынешнего, проявившегося в супружестве с Наташей, то пару слов добавить можно. Павел Иванович натурой был не очень понятной с характером уклончивым, имел много скрытного, прямолинейных решений не принимал, но на принятие их влиял самым непосредственным образом. Ему удалось очень деликатно и тонко подвести Наташу к замужеству. Он очаровал её родителей, людей простых, без особых изысков, а потому удобных и славных для проявления его житейской хитрости, такой необходимой и ему, и его дочери, нуждающейся не только в материнской любви и заботе, но и в участии бабушки и дедушки.
С уверенностью о Павле Ивановиче можно сказать, что вредными привычками он не страдал, переживая за долголетие своё и свойства здоровья, не сквернословил, ежечасно памятуя о том, что «откуда слова выходят, туда пища заходит», умел поразить высокопарным слогом (когда надо), мог поправить и даже одёрнуть, не терпел словесной белиберды и поэтической шелухи, зато чертыхался охотно и в чёрте осквернителя уст не усматривал. Считал для себя благим делом откушать не только вкусно и полезно, но с чувством, растревожив каждую струночку души. Наташа, так и не освоившая «трапезу» и всегда доедавшая всё, что было на её тарелке, не раз отмечала, что бабушка Люция колдовала над пищей точно так же, как Павел Иванович: никуда не спеша, не отгораживаясь даже от чая газетой, журналом или книгой – она позволяла себе недоедать, предаваясь ощущениям сытости, а не наслаждения, хотя ни тот, ни другой ни за что не стали бы есть что-то не по вкусу. В отличие от Наташи и её родителей, поглощавших всё без разбора.
Особенно прельщал Павла Ивановича аромат и хруст гренок в каком-нибудь супчике-пюре, куда он их насыпал маленькими порциями, чтобы не расквашивались, и, когда они рассыпались на зубах, он вспоминал хруст полуистлевших, почти невидимых взору морских ракушек, маленьких, дыроватых, с тонюсенькими от времени стенками. И тогда, от приятности этакой, начинали зудеть у него пятки, прося хруста ещё и ещё, и Павел Иванович так налегал на блюдо, которому должно было оставаться горячим на всём протяжении трапезы, что смотрящий со стороны мог бы подумать, что это последняя в жизни тарелка такого изумительного супа. Отделавши суп, знаток гастрономических изысков минут десять-пятнадцать сидел, опрокинувшись на спинку стула, вытянув ноги и глядя в окно в неохватную небесную даль. В это время он старался ни о чём не думать, а лишь слушать свой организм и чувствовать те приятности, что разливались по нему вместе с супчиком. После того, как первое блюдо укладывалось в желудке, Павел Иванович брался за второе, в коем непременно хотел видеть отменный кусок мяса, вымоченный в пикантном соусе с остротцой и обжаренный до румяной корочки, чтоб тоже хрустела. Чаем или другими напитками после трапезы не баловался – берёг фигуру, склонную расползаться и вдоль, и поперёк, а потому позволял себе сладость только в полдник, и то – небольшой кусочек, дабы побаловать вкусовые рецепторы, но не утомлять желудок. После вкушания блюд обычно мягко выкатывал из себя: «Спасибо всем, кто кушал, приготовить каждый может».
Одевался Павел Иванович всегда по моде: во времена малиновых пиджаков, в те самые – девяностые – прошлого столетия, когда надо было обозначить свою принадлежность к определённому слою, носил малиновые пиджаки разных оттенков, когда вскричало о себе горчичное – перетёк в горчичное, если требовалось заузиться – заужался, если надо было расшириться – расширялся. Нынешняя мода была ему не совсем понятна, поэтому в ход шло всё, что бережно хранилось в его гардеробе со времён малиновых пиджаков.
По вечерам Павел Иванович непременно выходил на прогулку и внимательно следил за тем, чтобы нагулять никак не меньше нужного количества шагов, но при том – и никак не больше, чтоб изрядно не утомляться. Для прогулок выбирал места людные и вглядывался без стеснения в лица, пытаясь нарисовать себе картину быта каждого, с кем сталкивался, и высокомерно думая о людских слабостях, избавление от которых вряд ли будет сулить счастье, рецепт которого знают многие, но пользуются единицы. Вот он, к примеру, верно применил этот рецепт и счастлив сполна, потому что у него есть не только цель в жизни, но есть – сверхзадача, позволяющая ему чувствовать свою глобальную миссию на обёрнутой пороками и слабостями Земле. Обеспечение будущего дочери – вот в чём был смысл существования Павла Ивановича, а для этого надо копить, копить и копить. И накопительство стало способом для решения сверхзадачи «состояться хорошим отцом, о котором никто никогда не скажет дурного слова». Моменты же воспитательного характера оставались за кадром, с ними прекрасно справлялась Наташа, реализуя свои материнские потребности. И в этом, по нерушимому мнению Павла Ивановича, он оказал ей огромную услугу – подарил радость быть матерью.
***
Но большой любви, о которой может мечтать мать, не получилось. Катя любила Наташу, искренне считала её своей матерью, но более тяготела к отцу, принимая заботу матери как должное и стараясь не докучать ей. Наташа чувствовала себя неприкаянной и почему-то отвергнутой, хотя Павел Иванович заверял её, что всё не так, что она всё себе надумала, что Катюшка – самая лучшая дочь и любит её не меньше, чем его. Наташа успокаивалась в его объятиях, растворялась в поцелуях и снова принимала жизнь такой, какая она была, не желая и не умея находить её противоречивости. В голове женщины не вспыхивало мечтаний о собственном ребёнке, до такой степени она боялась разрушить иллюзорную гармонию, вытканную собственноручно. Её время было взвешено на самых точных весах, расфасовано и распределено по полкам. Дни пролетали пулями, за неделями тянулись недели, и неспешно текли годы.
***
На горизонте маячили каникулы. Со дня на день ждали с вахты Павла Ивановича. Наташа ждала, чтобы без зазрения совести отправиться к деду, а Катя предвкушала очередное маленькое путешествие с отцом на Байкал.
Свой отпуск в деревне, как ранее и каникулы, Наташа не могла разменять ни на что, а потому она никогда нигде не бывала, даже за пределами родного края. Выучив однажды одну-единственную дорогу, она исправно ездила только по ней. Павла Ивановича такой поворот более чем устраивал, и он не раз отмечал Михаила Ивановича званием «мировой дед, правильный», хотя и видел-то его всего два раза: на свадьбе, когда тот выбрался из своей берлоги, чтобы поздравить внучку, и в свой единственный приезд в деревню, когда «правильный дед» задал правильный вопрос, чем, мол, мил человек, тебе Наташка-то так не угодила, за что ты её так не любишь? Другой на месте Павла Ивановича взъелся бы, но он устоял и с премилой улыбкой ответил, что в современном мире любовь – явление совсем иное, нежели в мире прошлом, и проявление её крайне затруднено из-за множества факторов: потока и объёма информации, скоротечности времени, множества дел и при этом – нехватки ресурсов. «Ну, ежели, ресурсы… да нехватка…» – Михаил Иваныч, присовокупив к ресурсам «побрякун и есть побрякун», хмыкнул в подрастающие усы, чем смял разговор, что немало обидело Павла Ивановича, уже было разошедшегося в своей громогласной исповеди. Виду он не показал, но больше недавно явленный муж в деревне не появлялся, а дед, в свою очередь, никогда о нём не расспрашивал, лишь сожалел о нескладной Наташкиной судьбе. Но что он мог? Лечь поперёк решения внучки? Волком выть? Собакой лаять? Так человек же он, а не зверь какой, чтоб судьбу другого выламывать, под себя выкраивать. А Наташа разберётся, сбросит пелену с глаз и увидит истинное неприглядное лицо своего избранника. Всё однажды вскрывается…
Дождь усилился, но бил не дробно, а как-то по-стариковски дрябло, словно вода проливалась из шамкающего рта неба и неряшливо падала вниз. Наташа после долгого настраивания наконец-то выскользнула из-под одеяла, накинула халат, привычно воткнула ноги в тапочки и прошуршала на кухню. Пора и чайку горячего себе организовать, а то день пройдёт зря. Как там говорит деда Миша? День без чая, что год без мая. Она поставила чайник и в задумчивости уставилась в окно. На лице её как будто недавно блуждала мысль, но остановилась в своём движении, не понимая, на какой предмет или явление ей перекинуться. Прядки ещё не прибранных волос не смели падать на лоб, чистый и высокий, выдающий немалый запал ума и воли, применения которым в привычной накатанной жизни не находилось. Однообразные действия, однообразные мысли, однообразный пейзаж, знакомый с детства, – всё неизменно.
Внизу раскинулись улочки, по ним разбежались деревянные домики, на огородах сквозь голые ветки деревьев чернеет земля, из труб тоненько, ещё не в полную силу, поднимается к небу дымок. Нет, ни осень, ни дождь не могли испортить эту картину, как не могли стереть из памяти и слова деда, фантазирующего о том, что осенью домишки, некоторые уже ветхие, а иные – крепкие новые, стараются разбежаться по тёплым местам, а весной – наоборот, они все, как горошины, сбегаются в кучу, перемигиваясь и пересмеиваясь. Да, дед – фантазёр, поэтому самым серьёзным образом воспринимал всегда и её фантазии. Как он там, в своём медвежьем краю? Неспокойно почему-то за него. Надо, надо ехать! Отставить горизонтальное валяние и ехать.
Наташа выключила чайник, плеснула себе душистого кипятка и стала пить поспешными глотками, будто куда-то опаздывала и по пути не успевала насладиться ни ароматом знойных трав, ни вкусом их, ни жизненной силой. Она уже давно знала, что это есть и это неизменно, и жила прежними эмоциями и прежним восприятием.
С детства она купалась в материнской опеке и кожей чувствовала поддержку отца и деда, особенно – деда. До шестнадцати лет ни полы, ни посуду не мыла – мама говаривала, что, мол, всё к тебе придёт, и посуда тоже. И всё пришло, но опека, которая теперь вроде бы была не нужна, осталась, причём опекали Наташу все, кто с ней сталкивался. Может быть, поэтому она стала такой чувствительной и любое действие ощущает как физическое? Иначе как объяснить, что, выходя замуж, она чувствовала, как с неё сдирают фамилию, будто это кожа, и тело при этом ныло, зудело и покрывалось пятнами не в её воображении, а на самом деле, и она боялась, что покроется ими вся и что многоопытный жених от неё сбежит. Но Павел Иванович не сбежал. Он был рядом. Держал за руку, сыпал жизнеутверждающими фразочками и томно смотрел на неё. Он и сейчас так смотрит. Наташа в этом не сомневалась. Она же в день бракосочетания рисовала себе мысленно, как на её надгробии будет не фамилия «Потапова», а совершенно иная, пока ещё чужая и непривычная, разительно отличающаяся не только от фамилии с глухой медвежьей поступью, но и от любой привычной слуху русской фамилии. Да, нелегко она вросла в Гужевар, в яркость и сочность каждого звука. Позднее она смеялась над своими ощущениями, делясь ими с мужем и подрастающей дочкой. А они поддёвывали её, сравнивая со змеёй, сменившей кожу. Катя, тогда ещё дошкольница, выпалила, что мама – кобра, потому что любит вещи с капюшоном, но Павел, милый, добрый Павел Иванович, опроверг мысль дочки и заверил, что она – маленькая удобная и совершенно не ядовитая змейка. А на следующий день они отправились в террариум глазеть на змей. Наташа, не любившая этих тварей до дрожи в душе, долго сопротивлялась, чтобы прикоснуться хоть к одной из них. Мозг отпечатывал на ладонях ужасающую холодность и брезгливую склизкость, но, как только она, под напором мужа и дочки, дотронулась до спины маленькой серебристой змейки, всё сразу перевернулось, и страх в глазах сменился удивлением, а потом хотелось ещё и ещё гладить этих невероятно тёплых шелковистых существ. По дороге домой Павел Иванович и Катя смеялись над её плоским представлением мира и не имеющими под собой оснований страхами. Наташа прятала лицо в капюшон. Понимая комичность ситуации, она не могла заставить себя вписаться в общий фон и привычно излиться самоиронией – смех куда-то запропал, и на его месте зияла чёрная дыра, величиной в рост. С каких пор ей, удобной во всех отношениях, стало не до смеха? Почему? Она не отдавала себе отчёта. Всем было хорошо, и это – главное. А она… что она? Улыбнётся, прижмёт к себе Катюшку, если та позволит, прижмётся к мужу, если он не будет в командировке, и в очередной раз прокрутит в голове мысль, что счастье – это когда тем, кто рядом с тобой, хорошо, когда они смеются по-доброму, легко и непринуждённо, потому что такой смех – исцеляет.
Раньше Наташа часто смеялась. Потому что рядом был смешащий её отец. Потому что она видела всё иначе. Самостоятельная же семейная жизнь сделала её принципиальной и правильной, вытравив смех: от подчёркнуто прямой осанки и стучащих молоточком в голове мыслей «нет-нет, так нельзя даже думать!» до выверенных поступков, соответствующих видению Павла Ивановича, – и что-то ушло из неё, что-то неправильное, ошибочное, неразрешимое, и чудесное заменилось ресурсным, замечательное – реальным, ошибочное – правильным. То, что было позволено Потаповой, не дозволялось Гужевар. Новая кожа внесла коррективы, и роль жены и матери сгладила все поверхности и оставила только прямые линии, как грани дедовых кубиков. Всё было ясно и понятно, как дважды два. Всё стояло на своих местах и занимало свои полки. Окончательные метаморфозы произошли после того, как в тёплые края отчалили родители, чтобы жить там своим хозяйством, снимая по два, а то по три урожая в год. Наташа наполнила семейный быт и мир вокруг себя новыми смыслами и прорисовала всюду идеально прямые линии. Или это не она, а Павел Иванович стёр из неё всё неправильное, дозволенное родителями? Коварный вопрос пронзил грудь. Наташа чуть не задохнулась, почувствовав резкую боль в подреберье.
Да, странная у неё нынче меланхолия. К чему бы это? Может быть, жизнь заготовила для неё новую кожу, и грядёт перерождение? Наташа ухмыльнулась, вспомнив, как Павел Иванович назвал её маленькой удобной змейкой, и в голове случился дерзкий кульбит: если она что-то где-то хоть немного изменит, то произойдёт ли что-то глобальное? После этого вопроса мозг выкрутил следующий элемент. Как там у Архимеда? Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю: небольшой рычаг способен изменить углы, сместить плоскости, повлиять на картину мира и управление им. Римляне, к примеру, по словам Плутарха, легко овладели бы Сиракузами, если бы нашёлся умник, решившийся выкрасть из города старца Архимеда, уже тогда понявшего путь оптимизации, на котором минимум усилий приносит максимум пользы. Далее мысль совершила сальто с тройным переворотом и перепрыгнула на закон Парето, применяемый в современном мире не только в экономике, но и в быту. Двадцать процентов усилий от всего задуманного могут дать восемьдесят процентов от поставленной цели – чем не красота? Вот и Павел Иванович говорит, что красота, что в его жизни так и происходит, с той лишь разницей, что усилия его иногда имеют не более десяти или даже пяти процентов, а результат – скачет за девяносто. И ещё он говорит, что в жизни важно поставить главную цель и идти к ней, несмотря ни на что, и что у него такая цель есть – это сделать для дочки максимально возможное, чтобы потом, в будущем, она не смогла упрекнуть его, что он – никудышный отец. А однажды он спросил у Наташи, есть ли у неё самая главная цель в жизни, и она не нашлась, что ответить. Мимолётная грусть пролетела тогда над ней, чуть задела своим крылом, навеяла ещё более мимолётные мысли, но так и не стряхнула пыль с души её, не привыкшей к борьбе ни с собой, ни с внешним миром. Получилось – хорошо, не получилось – значит, так надо, так и было задумано где-то свыше. Зачем перечить судьбе, если она и так всё даёт?
Свернувшись аппетитным колечком на тёплом семейном камушке, пригретая солнцем, из-под полуприщуренных век смотрела Наташа на мир и не ждала, да и не хотела никаких
перемен. У них растёт прелестная дочь, не доставляющая хлопот своим переходным возрастом. У неё – заботливый муж, обеспечивающий должным образом семью. «Всё в дом, всё в дом, ни капли мимо», – всплыли проникновенные слова Павла Ивановича и тут же заполонили всё вокруг, как разошедшиеся по воде круги.
Не задумываясь о душистости дедова чая, Наташа вдруг воспроизвела ставшую обыденной картину, как муж входит в квартиру, как разувается возле самого порога и ставит аккуратно ботинки возле стены, как поправляет, хмурясь, небрежно стоящие кроссовки Кати, как придирчиво оглядывает обувь жены. В отличие от женщин, кричащих, как они устали от раскиданных носков мужей, ей не на что было жаловаться. Она была довольна мужниной аккуратностью, считала это актом уважения к своему труду. Вот мама с отцом вечно боролась – он мог затоптать весь пол, даже если тот был только-только вымыт, он никогда не ставил обувь на место, а оставлял посреди коридора, а что уж говорить про носки! Эти создания рук человеческих можно было обнаружить в любом углу, под любым предметом мебели! Ругались ли родители на эту тему? Нет, конечно! Всё всегда решалось полюбовно и с улыбкой, потому что в запасе у отца был целый набор искромётных шуточек и ласковостей для «ненаглядной супруги». У Павла Ивановича такой набор тоже имелся, но применял он его с искусным подвывертом, как бы исподтишка, но, впрочем, Наташа довольствовалась звучащими в её адрес словечками.
Она попыталась воспроизвести хоть одну шутку отца, но память как отшибло! Вспомнилось только про те же пресловутые носки, про которые отец говорил, что это такой предмет, созерцание коего говорит о наличии мужчины в доме, и, чем устойчивее этот предмет в пространстве, тем длительнее пребывает указанный мужчина в указанном доме и не помышляет о домах других, потому что мужчине достаточно метить только одну территорию, а потом добавлял: «Так ли, Настасьенька, так ли, чересчурьинька моя?», и на щеках мамы появлялся румянец, губы расплывались в улыбке, а взгляд, и без того тёплый, становился ещё теплее. Наташу особенно умиляло «чересчурьинька». Это слово было наполнено такой нежностью, что напоминало шелест молодой листвы после негромкого дождичка. К матери приклеилось это словцо, потому что она слишком часто спрашивала у домочадцев, а не чересчур горячо или холодно, а не чересчур ли громко, много, цветасто? Однажды (в память врезался этот момент так ярко, что ничем и никак его невозможно теперь извлечь), когда она наливала по цветастым тарелкам наваристый борщ, у неё вырвалось «ой, чересчурскнула, кажись», и у отца зазвучало, раскинувшись радугой, «чересрурьинька». Слово ласкало слух и крепило день ото дня и без того крепкие семейные узы, а в голове Наташи отложилось, что, чем больше ласковых тёплых слов, тем крепче отношения.
Она не хотела, чтобы родители уезжали. Ей было хорошо и спокойно, когда они жили рядом, но отцовское «земля, доча, тянет, душа по крестьянскому труду стонет» заставило её смириться с этим решением, главным козырем в котором стала трёхлетняя Катя, нуждающаяся, по словам отца, в собственном пространстве. Оба объяснения сплелись в такой тугой ком, что для Наташи так и осталось неведомым, что потянуло сугубо городских жителей к земле. Она лишь видела, каким радостным огнём горели глаза матери, как весело бегал по квартире, укладывая вещи, отец, чтобы переехать в край тёплый да благодатный, в край, куда ехали все, кто не просто годами мечтал о солнце, о тепле или о том, чтобы снимать по несколько урожаев за сезон, но кто осмелился и рискнул сделать столь важный шаг в своей жизни. «Ну что? Лыжи навострили, но с собой не возьмём, в данном предприятии крайне сомнительная поклажа, вряд ли нужная в своём прямом значении в южных краях», – пошутил отец, бросая беспризорный взгляд на квартиру, прежде чем ступить за порог.
Родители уехали в октябре. В безмятежном октябре, вобравшем в себя тепло и безветрие бабьего лета, щедро дарящего всем нежные прикосновения ветра и солнца.
В очередной раз в квартире сменился хозяин, и, как когда-то с высоко поднятой головой Раис щёголем ходил по «двухкомнатному дворцу», так прошёлся по ним и Павел Иванович, примеряя под себя хозяйство. С тех пор мир раскололся на до и после жизни под родительским началом. С тех пор осенняя тягомотная тоска усилилась в разы, и Наташа стала впадать в какую-то болезненную меланхолию, но сегодня всё воспринималось ещё тяжелее, превращалось во что-то иное, пока совсем не ясное, но уже томящееся в груди и ищущее выход. Тоска. Тоска. Надо уезжать в деревню – там есть лекарство от тоски.
Последний глоток чая, и уже набран номер мужа, и в неведомом пространстве понеслись гудки, и родной голос на её «что-то тревожное на душе, волнуюсь, всё ли хорошо у деда» успокаивающими нотками проник в голову:
– Хорошо, дорогая, поезжай, – муж не перечил, но удивился, что жена собирается в деревню, не дождавшись их с дочкой отлёта, что готова расстаться с первой неделей отпуска, когда можно деградировать качественно и со вкусом дома, не меняя горизонтального положения. Напомнив Наташе, что домой он будет только завтра к вечеру, Павел Иванович выразил сомнение, а к деду ли она едет?
– Я – однолюбка, – заверила его жена и добавила: – За Катю не волнуйся, одну я её не оставлю, уеду завтра с утра.
Павел Иванович выдохнул:
– Поезжай. Будь аккуратна. На дорогах, наверное, чёрт-те что творится. Позвони, как доберёшься.











