Читать онлайн Истоки Второй мировой войны
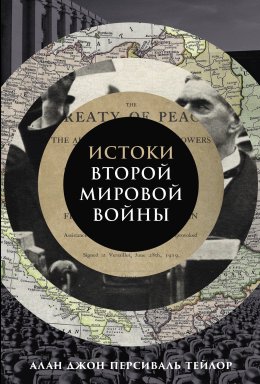
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Галина Бородина
Научный редактор: Николай Власов, канд. ист. наук
Редактор: Пётр Фаворов
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Анна Тарасова
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Елена Барановская, Ольга Бубликова, Ольга Петрова
Верстка: Андрей Фоминов
Фоторедактор: Павел Марьин
Иллюстрации на обложке Auckland War Memorial Museum; Narodowe Archiwum Cyfrowe; Shutterstock; Gregor Maier / Wikipedia / CC0
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© A. J. P. Taylor, 1961
© Предисловие. A. J. P. Taylor, 1963
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
Предисловие научного редактора
Алан Джон Персиваль Тейлор был одним из крупнейших британских историков ХХ в. Его по праву считают классиком дипломатической истории, труды которого не утратили актуальности и регулярно переиздаются по сегодняшний день. Они неизменно вызывали дискуссии в научном сообществе, а благодаря блестящему литературному слогу пользовались популярностью у массового читателя.
Книга Тейлора, посвященная истокам Второй мировой войны, впервые увидела свет в 1961 г. С тех пор на эту тему написаны тысячи работ, а благодаря открытию архивов исследователям стали доступны миллионы новых документов. Логично задаться вопросом: не устарела ли книга, уже разменявшая свой седьмой десяток? Во многом – да, но она и сегодня продается в любом британском книжном магазине, причем пользуясь там устойчивым спросом. Подобным образом в нашей стране до сих пор читают «Историю государства Российского» Карамзина, написанную двести лет назад, – не как свод актуального научного знания, а как нестареющую литературную классику.
Книга Тейлора отличается не только литературными достоинствами. Автор работал над ней в обстановке, когда причины Второй мировой войны были предметом ожесточенных споров. Само собой, на вопрос о виновнике глобальной катастрофы ответ был один: Гитлер, германский нацизм. Это бесспорно; какие бы ошибки и просчеты ни совершили жертвы агрессии, вина лежит на агрессоре. Но за простой истиной скрывался другой, более сложный вопрос: почему Гитлера не удалось остановить, почему мировая война не была своевременно предотвращена – хотя, казалось бы, все возможности для этого имелись?
В Британии 1950-х гг. привычно критиковали недальновидность и наивность Чемберлена, не сумевшего разгадать зловещие планы нацистов, и кивали на Советско-германский пакт о ненападении 1939 г., якобы развязавший Гитлеру руки. Поэтому книга Тейлора произвела эффект разорвавшейся бомбы: автор доказывал, что именно ошибки и промахи британской и французской политической элиты – причем вызванные не наивностью, а вполне рациональными соображениями – стали одной из главных причин крушения европейского порядка в 1930-е гг. Ни в коей мере не обеляя Гитлера, автор доказывал, что без невольных «помощников» в Лондоне и Париже у немцев не получилось бы развязать большую войну. Разумеется, далеко не все согласились с такими выводами; Тейлора даже обвинили в ревизионизме. Действительно, отдельные его тезисы были сформулированы резко, даже провокационно. Однако провокация оказалась невероятно успешной: книга Тейлора послужила началом совершенно нового этапа дискуссии о причинах Второй мировой войны.
Безусловно, отдельные выводы автора – особенно касающиеся советской и германской политики – сегодня выглядят устаревшими. К примеру, мысль о том, что у Гитлера не было собственной внешнеполитической программы и он не хотел войны, в свете доступных нам документов предстает более чем спорной. Однако основное внимание в своей книге Тейлор уделяет не Берлину и Москве, а Парижу и в особенности Лондону. Он подробно и качественно анализирует мотивы политики умиротворения, ее объективный контекст, показывает логику действий английских и французских лидеров, а также те печальные последствия, к которым эта логика привела. В основной своей части работа Тейлора по-прежнему не утратила актуальности – именно такова разгадка ее долговечности. Я могу смело рекомендовать российскому читателю первое знакомство с этим классическим текстом, который, помимо всего прочего, отличается прекрасным стилем, превращающим чтение в удовольствие.
Николай Власов,
кандидат исторических наукСанкт-Петербург, 2024
Если еще подумать
Предисловие автора ко второму изданию
Я взялся за эту книгу ради удовлетворения собственного исторического любопытства; если говорить словами историка более успешного, «чтобы понять, что произошло и почему это произошло». Историкам часто не нравится то, что произошло; им хотелось бы, чтобы все было иначе. Только сделать они с этим ничего не могут. Долг историка – говорить правду, какой она перед ним предстает; его не должно тревожить, опровергает ли она или подтверждает сложившиеся предубеждения. Может быть, мои представления были слишком наивными. Вероятно, мне стоило предупредить читателя, что я подхожу к истории не как судья и что, когда я рассуждаю о морали, я имею в виду моральные представления того времени, о котором пишу. Своих собственных моральных суждений я не формулирую. Поэтому, когда я пишу, что «Версальский мир изначально был морально несостоятельным», я имею в виду лишь то, что немцы не считали его «справедливым» и многие в странах-победительницах – а вскоре, я думаю, и большинство – были с ними согласны. Кто я такой, чтобы решать, «морален» он был или «аморален» в каком бы то ни было абстрактном смысле? И с чьей точки зрения – немцев, союзных держав, нейтральных стран или большевиков? Какие-то из творцов Версальского мира считали его моральным, другие – необходимым, а третьи – и аморальным, и излишним. В числе последних были Ян Смэтс, Ллойд Джордж, Лейбористская партия Великобритании и многие американцы. В дальнейшем эти моральные сомнения способствовали развалу мирного урегулирования. Опять же, здесь я пишу о Мюнхенском соглашении следующее: «Это была победа всего, что было лучшего и просвещенного в британской жизни; победа тех, кто проповедовал справедливость и равенство народов; победа тех, кто мужественно обличал жестокость и недальновидность Версаля». Вероятно, по примеру Артемуса Уорда мне стоило добавить в скобках «смеяться здесь». Но это не совсем шутка. Годами самые компетентные и добросовестные исследователи международных отношений доказывали, что Европе не видать мира, пока немцы не обретут самоопределения, дарованного другим. Мюнхенское соглашение в какой-то мере стало результатом – пусть и нежелательным по форме – их усилий; заключить его было бы гораздо сложнее, если бы не ощущение, что требования Гитлера отчасти справедливы. Уже в годы Второй мировой войны один оксфордский профессор{1} спрашивал президента Бенеша, не думает ли тот, что Чехословакия лишь окрепла бы, если бы там проживало, скажем, миллиона на полтора немцев меньше, – настолько стойким был дух «умиротворения». На самом деле половинчатого решения тут не было, и вопрос стоял следующим образом: либо 3,5 млн немцев в Чехословакии, либо вообще никаких немцев. Чехи сами признали этот факт, насильственно депортировав все немецкое меньшинство после Второй мировой войны. Не моим делом было осуждать или одобрять требования Гитлера; я стремился лишь объяснить, почему столь многие их поддерживали.
Мне жаль, если это разочарует тех простодушных немцев, которые вообразили себе, будто моя работа каким-то образом «оправдывает» Гитлера. Однако я ничуть не сочувствую и тем в Британии, кто жаловался, что эту книгу – заслуженно или нет – радостно приняли его бывшие сторонники. Мне кажется недостойным выдвигать подобный аргумент против исторического труда. Историка не должно смущать то, что его книги льют воду на мельницу врагов Королевы (хотя моя этого не делает) или врагов всего человечества. Что касается меня лично, то я недрогнувшей рукой фиксировал бы даже те факты, которые свидетельствуют в пользу британского правительства, если бы таковые вдруг обнаружились (здесь снова можно посмеяться). Не моя вина, что, судя по имеющимся у нас документам, Австрийский кризис спровоцировал Шушниг, а не Гитлер; не моя вина, что, судя по документам, не Гитлер, а Британия выступила инициатором раздела Чехословакии; не моя вина, что в 1939 г. британское правительство создало у Гитлера впечатление, что оно скорее склонно требовать уступчивости от Польши, а не противодействовать Германии. Если все это свидетельствует в пользу Гитлера, виноваты тут прежние легенды, которые историки воспроизводят, не дав себе труда их проверить. Эти легенды живучи. Боюсь, я и сам повторил несколько. Например, я до последнего верил, что Эмиля Гаху в Берлин вызвал Гитлер; только когда книга уже ушла в корректуру, я еще раз обратился к документам и обнаружил, что Гаха сам вызвался приехать в Берлин, а вовсе не наоборот. Наверняка какие-то еще легенды ускользнули от моего внимания.
Развенчивать эти легенды – вовсе не значит оправдывать Гитлера. Это значит служить исторической истине, и мою книгу нужно оспаривать только таким образом, а не на основании той политической морали, которую люди решают из нее извлечь. Мой труд – не вклад в «ревизионизм»; разве что в том узком смысле, что Гитлер, оказывается, прибегал не к тем методам, которые ему обыкновенно приписывают. Я никогда не видел смысла в рассуждениях о вине или невиновности в контексте войны. В мире суверенных государств каждое из них делает все, что в его силах, для достижения собственных целей; им можно ставить на вид разве что ошибки, но не преступления. Бисмарк был, как всегда, точен, когда говорил об Австро-прусской войне 1866 г.: «Борьба австрийцев против нас не более предосудительна, чем наша борьба против них». Как частное лицо, я считаю всю эту гонку за величием и мировым господством совершеннейшим идиотизмом; я бы предпочел, чтобы моя страна не принимала в ней участия. Как историк, я вынужден признать, что великие державы всегда будут вести себя как великие державы. В действительности моя книга почти не касается Гитлера. По моему мнению, вопрос первостепенной важности имеет отношение к Великобритании и Франции. Эти страны победили в Первой мировой войне. Все последующие решения зависели от них. Было совершенно очевидно, что Германия снова попытается стать великой державой; а после 1933 г. стало ясно и то, что ее господство будет особенно варварского сорта. Почему победители отказались от сопротивления? Ответы даются разные: нерешительность, слепота, моральные метания; возможно, желание обратить мощь Германии против Советской России. Но, какими бы ни были ответы, вопрос этот кажется мне важным, и моя книга организована вокруг него, как, разумеется, и вокруг второго вопроса: почему же в конце концов они решились на сопротивление?
И тем не менее кое-кто из критиков моей книги поднял большой шум по поводу Гитлера, на которого они возлагают единоличную ответственность за войну или что-то в этом роде. Поэтому я хотел бы уделить еще немного внимания роли Гитлера – но не в полемическом плане. У меня нет желания победить в споре, я лишь хочу прояснить свою позицию. На настоящий момент существует, как мне кажется, два образа Гитлера. Согласно первому, он хотел большой войны ради нее самой. Несомненно, в самом общем смысле он думал и о ее итогах: Германия становится величайшей державой мира, а сам он – завоевателем вроде Александра Македонского или Наполеона. Но прежде всего он жаждал войны ради уничтожения народов и обществ, которое она за собой повлечет. Он был маньяком, нигилистом, вторым Аттилой. Альтернативная точка зрения представляет его более рациональной и в каком-то смысле более конструктивной фигурой. В этом варианте у Гитлера с самого начала был стройный долгосрочный план, которого он и придерживался с непоколебимым упорством. Ради воплощения этого плана он стремился к власти; он же лег в основу всей его международной политики. Гитлер хотел обеспечить Германию огромной колониальной империей в Восточной Европе, разгромив Советскую Россию, истребив всех ее жителей и заселив затем освободившиеся земли немцами. Этот рейх, новый дом для 100 или даже 200 млн немцев, должен был простоять тысячу лет. Я, кстати, удивлен, что сторонники этой точки зрения не рукоплещут моей книге. Ведь если Гитлер планировал большую войну против Советской России, война против западных держав была его ошибкой. Чего-то я тут явно не понимаю.
Да, конечно, Гитлер немало рассуждал о том, что делает, как и современные аналитики, пытающиеся обосновать поступки нынешних государственных деятелей. Может, мир был бы избавлен от множества горестей, если бы Гитлеру дали должность в каком-нибудь немецком эквиваленте Королевского института международных отношений, где он безо всякого вреда для человечества разглагольствовал бы до конца своих дней. Но случилось так, что он оказался вовлечен в мир реальных действий; и там, я думаю, он гораздо чаще обращал события в свою пользу, чем следовал четкому и последовательному плану. История его прихода к власти в Германии кажется мне важной для понимания его дальнейшего поведения на международной арене. Гитлер без конца повторял, что намеревается захватить власть, а потом приняться за великие дела. Многие ему верили. Идея, будто у Гитлера имелся подробный план захвата власти, стала первой связанной с ним легендой, и она же оказалась первой опровергнута. Никакого долгосрочного плана не существовало; не было и захвата власти. Гитлер понятия не имел, каким образом власть окажется у него в руках; он лишь верил, что это случится. Папен и несколько других консерваторов-интриганов привели Гитлера к власти в полной уверенности, что связали его по рукам и ногам. Он воспользовался их происками, опять-таки не имея ни малейшего представления, как освободится от этого контроля, – только в убеждении, что как-нибудь да освободится. Такой «ревизионизм» не «оправдывает» Гитлера, хоть и дискредитирует Папена с приспешниками. Это ревизия ради ревизии – или скорее ради исторической истины.
Дорвавшись до власти, Гитлер совершенно не представлял, как будет вытягивать Германию из экономической депрессии, у него было лишь твердое намерение сделать это. Восстановлением экономики Германии он по большей части обязан естественному процессу роста мировой экономики, который начался еще до того, как Гитлер встал у руля страны. Личным вкладом Гитлера стали лишь две вещи. Первая из них – антисемитизм. Я считаю, что он был последовательным и убежденным антисемитом с ранних лет в Мюнхене и до последних своих дней в бункере. В цивилизованной стране приверженность антисемитизму лишила бы его любой поддержки, не говоря уже о шансах на власть. С экономической точки зрения эта идея была совершенно бессмысленной и, более того, вредоносной. Другим его вкладом стала поддержка государственных расходов на сооружение дорог и иные крупные строительные проекты. Согласно единственной книге, которая концентрируется на том, что в действительности произошло, вместо того чтобы повторять то, что говорили о происходившем Гитлер и все остальные{2}, экономическое оживление в Германии стало следствием возвращения частного потребления и инвестиций в невоенные отрасли экономики на уровень благополучных 1928 и 1929 годов. Перевооружение не внесло заметного вклада в рост немецкой экономики. Вплоть до весны 1936 г. «перевооружение оставалось по большей части мифом»{3}. В действительности Гитлер не реализовывал какой бы то ни было заранее намеченный экономический план. Он лишь хватался за первое, что подворачивалось ему под руку.
Ту же мысль подтверждает и история с поджогом Рейхстага. Легенда известна каждому. Нацистам нужен был предлог для принятия чрезвычайных законов, которые легли в основу политической диктатуры, и, чтобы получить такой предлог, они подожгли Рейхстаг. Поджог устроил то ли Геббельс, то ли Геринг, а Гитлер, возможно, даже не был в курсе их планов. В любом случае нацисты как-то это провернули. Фриц Тобиас не оставил от этой легенды камня на камне – как мне кажется, убедительно{4}. Нацисты не имели отношения к поджогу Рейхстага. Молодой голландец по фамилии ван дер Люббе сделал это в одиночку, как он и заявлял с самого начала[1]. Нацисты во главе с Гитлером были захвачены врасплох. Они действительно верили, что поджог организовали коммунисты; и чрезвычайные законы они приняли потому, что искренне полагали, будто коммунисты вот-вот поднимут восстание. Да, конечно, список людей, подлежавших аресту, был действительно составлен заранее. Вот только составили его не нацисты. Список подготовил предшественник Геринга, социал-демократ Зеверинг[2]. Повторюсь, это не «оправдание» Гитлера, а лишь переосмысление его методов. Гитлер рассчитывал, что какая-нибудь возможность ему подвернется, и она подвернулась. Конечно, коммунисты тоже не поджигали Рейхстаг. Но Гитлер был уверен в обратном. Он смог так эффективно разыграть карту коммунистической угрозы прежде всего потому, что сам в нее верил. Здесь можно провести параллель с подходом, которого Гитлер потом придерживался в международных отношениях. Пока другие страны думали, что Гитлер готовится развязать против них агрессивную войну, Гитлер в равной степени верил, что эти другие намереваются помешать возрождению Германии как независимой великой державы. И его убежденность нельзя назвать совершенно необоснованной. В конце концов, британское и французское правительства часто подвергали суровой критике за то, что они вовремя не начали превентивной войны.
Здесь, как мне кажется, и лежит ключ к вопросу о том, действительно ли Гитлер целенаправленно шел к войне. Он не столько шел к ней, сколько ожидал, что она начнется, если только он не сумеет ее хитроумно избежать, как избежал гражданской войны в Германии. Люди, руководствующиеся порочными мотивами, с легкостью приписывают их другим; так и Гитлер ожидал, что другие станут поступать так, как он сам поступил бы на их месте. Англия и Франция были для него «двумя заклятыми врагами»; Советская Россия стремилась разрушить европейскую цивилизацию – пустая похвальба, к которой действительно часто прибегали большевики[3]; Рузвельт планировал разорить Европу. Гитлер, несомненно, приказывал своим генералам готовиться к войне. Но то же самое делали и британцы, и, коли уж на то пошло, все до единого остальные правительства. В конце концов, готовиться к войне – основная задача любого генерального штаба. Правительства дают генеральным штабам указания, к какой вероятной войне готовиться, но это еще не доказывает, что они собираются ее начать. Все военные директивы британского правительства начиная с 1935 г. были направлены исключительно против Германии; Гитлер лишь стремился сделать Германию как можно сильнее. Если мы будем так (ошибочно) судить о намерениях политиков по их военным планам, получится, что это британское правительство стремилось к войне с Германией, а не наоборот. Но мы, естественно, интерпретируем поведение наших собственных правительств с благожелательностью, которую не распространяем на правительства других стран. Люди считают Гитлера воплощением зла и подтверждают его порочность свидетельствами, которые не стали бы использовать против кого-либо другого. Почему возникают эти двойные стандарты? Причина тут в том, что в основу своих рассуждений люди кладут утверждение, будто Гитлер – воплощение зла.
Судить о политических намерениях по военным планам – опасное занятие. Некоторые историки, например, на основании содержания военных контактов между Англией и Францией, имевших место до 1914 г., делают вывод, что британское правительство стремилось к войне с Германией. Другие историки (эти, я считаю, умнее) отрицают саму возможность делать подобные выводы. Такие планы, утверждают они, нужно расценивать как разумную предосторожность, а не как «подготовку к агрессии». Но распоряжения Гитлера зачастую интерпретируют именно вторым способом. Приведу лишь один примечательный пример. 30 ноября 1938 г. Кейтель передал Риббентропу проект меморандума к итало-германским военным переговорам, подготовленный им по приказу Гитлера. Третий пункт гласил: «Военно-политическая база переговоров. Война Германии и Италии против Франции и Британии, где первой целью будет быстрый разгром Франции»{5}. Один мой ответственный оппонент утверждал, что это со всей очевидностью доказывает намерения Гитлера и таким образом полностью опровергает мой тезис. Но что еще, кроме войны с Францией и Британией, могли обсуждать на этой встрече немецкие и итальянские генералы? Это была единственная война, в которой могла бы принять участие Италия. Британские и французские генералы в тот же самый момент обсуждали войну с Германией и Италией. Но ни им, ни их правительствам этот факт в вину не ставят. Дальнейшая история проекта Кейтеля показательна. На военных переговорах настаивали итальянцы, а не немцы. Проект был подготовлен, но ничего не происходило. 15 марта 1939 г. Гитлер уже оккупировал Прагу, а переговоры так и не состоялись. Итальянцы теряли терпение. 22 марта Гитлер приказал: «Обсуждение военно-политической базы… на настоящий момент необходимо отложить»{6}. Переговоры состоялись только 4 апреля. Кейтель записал: «Контакты начались довольно внезапно из-за давления со стороны Италии»{7}. Оказалось, что итальянцы отнюдь не стремились к войне. Напротив, они всячески подчеркивали, что будут готовы к ней в лучшем случае не раньше 1942 г.; немецкая сторона с ними согласилась. В общем, этот чудесный документ всего лишь доказывает (если он вообще что-то доказывает), что Гитлер не был на тот момент заинтересован в войне с Францией и Великобританией и что Италия в войне вообще заинтересована не была. А может, он доказывает, что историкам стоит быть осторожнее и не хвататься за отдельный пункт в тексте, не обратившись к другим источникам.
Конечно, по мнению британцев, их правительство всего лишь стремилось сохранить все как есть, тогда как Гитлер хотел раскачать ситуацию. Но для немцев существующим положением вещей был не мир, а кабальный договор. Все зависит от точки зрения. Державы-победительницы хотели сохранить – с небольшими поправками – плоды победы, но действовали при этом неэффективно. Побежденная держава хотела преодолеть свое поражение. Подобные амбиции той или иной степени «агрессивности» были свойственны не только Гитлеру. Их лелеяли все немецкие политики – и социал-демократы, в 1918 г. положившие конец войне, хотели этого не меньше Густава Штреземана. Никто не брался точно сформулировать, что значило преодолеть поражение в Первой мировой войне; и Гитлер тут не исключение. Сюда включали возвращение утраченных тогда территорий; восстановление немецкого господства в Центральной Европе, которое ранее обеспечивалось союзом с Австро-Венгрией; отмену, естественно, всех ограничений на перевооружение Германии. Детальные условия значения не имели. Все немцы, и Гитлер в том числе, верили, что, как только Германия преодолеет свое поражение – военным или каким-то иным способом, – она станет господствующей в Европе силой; и в целом это предположение разделяли и в других странах. Две идеи – «освобождения» и «господства» – слились в одну. Разорвать их было невозможно. Это были всего лишь два разных слова для одного и того же понятия; и только выбор одного из них определяет, кем был Гитлер – борцом за справедливость по отношению к Германии или потенциальным завоевателем Европы.
Не так давно один немецкий автор{8} осудил Гитлера за само желание снова сделать Германию великой державой. Первая мировая война, утверждает этот историк, показала, что Германия не может быть независимой державой мирового масштаба и со стороны Гитлера глупо было даже пытаться. Это не более чем трюизм. Первая мировая война до основания потрясла все вовлеченные в нее великие державы, за исключением США, которые почти не приняли в ней участия; что ж, может, все они поступали глупо, стремясь и после не утратить статуса великих держав. Тотальная война перенапрягает силы, вероятно, любой великой державы. Даже подготовка к такой войне грозит великим державам гибелью – и это не новость. В XVIII в. Фридрих Великий вплотную подвел Пруссию к краху в попытке обеспечить ей статус великой державы. Наполеоновские войны сбросили Францию с европейского пьедестала, и она так и не вернула себе былого величия. Странная, фатальная дилемма! Государства стремятся быть великими державами прежде всего ради возможности вести большие войны – но при этом остаться великой державой можно, только если не ввязываться в такие войны или ввязываться в них в ограниченном масштабе. Секрет столь долгого величия Великобритании заключался в том, что она вела войны на море и не пыталась превратить себя в военную силу по континентальному образцу. Гитлеру не было нужды советоваться с историками, чтобы это понять. Его постоянно тревожила неспособность Германии вести длительную войну, как и опасность, которая грозила его стране, если другие великие державы объединятся против нее. Рассуждая так, Гитлер оказывался дальновиднее немецких генералов, воображавших, что все будет прекрасно, если им только удастся вернуть Германию туда, где она была до наступления Людендорфа в марте 1918 г. При этом Гитлер не делал отсюда вывод, что притязания Германии на статус великой державы глупы. Следуя давнему примеру Британии, он вместо этого решил прибегнуть к обходному маневру. Там, где Британия полагалась на морское господство, Гитлер положился на плутовство. Он не стремился к войне, всеобщая война – последнее, чего он хотел[4]. Он желал наслаждаться плодами тотальной победы без тотальной войны; и благодаря глупости остальных он почти достиг своей цели. Другие державы считали, что стоят перед выбором: ввязаться в тотальную войну или покориться. Поначалу они решили покориться; потом они выбрали тотальную войну, и это привело Гитлера к финальному краху.
Это не предположения. Это факты, которые со всей убедительностью подтверждаются данными об уровне германских вооружений в годы перед Второй мировой войной и потом, в годы войны. Все это было бы очевидно уже очень давно, если бы людей не ослепляли две ошибки. До войны они слушали, что Гитлер говорит, – вместо того, чтобы смотреть, что он делает. После войны они, невзирая на факты, хотели возложить на него всю вину за случившееся. Это иллюстрируется, например, почти всеобщей убежденностью в том, что неизбирательные бомбардировки гражданского населения начал Гитлер, в то время как первыми к ним прибегли люди, определявшие британскую военную стратегию, причем наиболее честные из них даже этим гордились. Как бы там ни было, данные – бесстрастно проанализированные Бертоном Клейном – доступны всем желающим. Я уже приводил выводы Клейна о первом трехлетии правления Гитлера: вплоть до весны 1936 г. перевооружение Германии было по большей части мифом. И дело не только в том, что на предварительном этапе перевооружение, как это всегда бывает, не привело к наращиванию военной мощи. Дело в том, что никаких серьезных предварительных шагов вообще не предпринималось. Гитлер обманывал иностранные державы и германский народ не так, как было принято думать, а ровно наоборот. Он – или, точнее, Геринг – провозгласил: «Пушки вместо масла». Но на самом деле масло он ставил прежде пушек. Я позаимствовал кое-какие цифры из книги Клейна. Черчилль пишет, что, согласно двум независимым оценкам, сделанным в 1936 г., затраты Германии на перевооружение составили 12 млрд марок{9}. Реальная цифра не дотягивает и до 5 млрд. Сам Гитлер заявлял, что до начала войны нацистское правительство потратило на вооружение 90 млрд марок. В действительности совокупные государственные расходы Германии (как военные, так и невоенные) за период с 1933 по 1938 г. составили немногим более этой суммы. Перевооружение обошлось стране примерно в 40 млрд марок за шесть бюджетных лет до 31 марта 1939 г., а к началу войны суммарные затраты на производство оружия приблизились к 50 млрд{10}.
Клейн анализирует вопрос: почему перевооружение Германии осуществлялось в таких ограниченных масштабах? Для начала, Гитлер боялся лишиться популярности, если уровень жизни немцев снизится. Перевооружение ограниченного масштаба всего лишь замедляло его рост. И все равно немцы жили лучше, чем когда-либо раньше[5]. Кроме того, нацистский государственный аппарат был неэффективным, коррумпированным и дезорганизованным. Что еще важнее, Гитлер не хотел поднимать налоги и страшно боялся инфляции. Даже отставка Шахта на самом деле не сняла, как планировалось, финансовые ограничения. И что самое важное, Гитлер не начинал широкомасштабной подготовки к войне просто потому, что его «концепция ведения военных действий не требовала никакой подготовки». «Скорее всего, он планировал решать проблему жизненного пространства Германии по частям – с помощью череды мелких войн»{11}. К такому же выводу независимо пришел и я, изучая внешнеполитические документы; более того, я подозреваю, что Гитлер надеялся обойтись вообще без войны. Я согласен, что он не проводил четкой грани между политическими методами и мелкими войнами – такими как нападение на Польшу. Единственное, чего он не планировал (несмотря на то что такие планы ему часто приписывают), – так это большой войны.
Политическая стратегия Гитлера в значительной мере заключалась в том, чтобы создавать впечатление, что он готовит страну к большой войне, но в реальности ничего подобного не делать; и те, кто, подобно Черчиллю, бил по этому поводу тревогу, неосознанно играли ему на руку. Прием был совершенно новым и одурачил сразу всех. Раньше правительства тратили на вооружения больше, чем готовы были признать, – большинство из них поступает так до сих пор. Иногда это делалось с целью обмануть собственных граждан, иногда с целью обвести вокруг пальца предполагаемого противника. В 1909 г., например, многие британцы подозревали германское правительство в форсировании строительства военно-морского флота без одобрения рейхстага. Обвинения эти, скорее всего, были безосновательными. Но они оставили после себя стойкие подозрения, что немцы при первой возможности так и поступят; попытки уклониться от наложенных Версальским миром обязательств по разоружению, к которым после 1919 г. без особого успеха прибегали сменяющие друг друга правительства Германии, лишь укрепляли такие подозрения. Гитлер подливал масла в огонь этой подозрительности и пользовался ею. Тому есть превосходный пример. 28 ноября 1934 г. Стэнли Болдуин опроверг заявление Черчилля, утверждавшего, что мощь военно-воздушных сил Германии и Британии сравнялась. Данные Болдуина были верны; Черчилль, опиравшийся на цифры, которыми снабдил его профессор Линдеманн, ошибался. 24 марта 1935 г. сэр Джон Саймон и Энтони Иден посетили Гитлера. Тот сказал им, что немецкие военно-воздушные силы уже не уступают британским, а может, и превосходят их. Ему поверили моментально и продолжают верить до сих пор. Болдуин был посрамлен. Поднялась паника. Разве может быть так, чтобы государственный деятель преувеличивал уровень своих вооружений вместо того, чтобы скрывать его? Но Гитлер именно так и поступал.
Перевооружение Германии оставалось скорее мифом вплоть до весны 1936 г. Вот тогда Гитлер перевел его в плоскость реальности. Руководствовался он в первую очередь страхом перед Красной армией; естественно, Франция и Великобритания тоже принялись наращивать вооружения. На самом деле Гитлер участвовал в этой гонке наравне с другими, и не сказать, чтобы он сильно опережал остальных. В октябре 1936 г. он велел Герингу готовить немецкую армию и немецкую экономику к войне в перспективе четырех лет, однако каких бы то ни было конкретных требований не изложил[6]. В 1938/39 бюджетном году, в последний мирный год, Германия потратила на вооружение около 15 % валового национального продукта. Доля военных расходов Британии была практически такой же. Затраты Германии на перевооружение на самом деле сократились после заключения Мюнхенского соглашения и оставались на низком уровне, в силу чего к 1940 г. Британия далеко обогнала Германию по объему производства самолетов. Когда в 1939 г. разразилась война, в распоряжении Германии было 1450 современных истребителей и 800 бомбардировщиков; у Великобритании и Франции имелось 950 истребителей и 1300 бомбардировщиков. На вооружении Германии стояло 3500 танков; Великобритания и Франция располагали 3850 танками{12}. По каждому из этих пунктов разведка союзников переоценивала мощь Германии более чем вдвое. Как обычно, все были уверены, что Гитлер планирует большую войну и готовится к ней. В реальности он этого не делал.
Кто-то может возразить, что эти цифры по большому счету не важны. Какую бы нехватку оружия Германия ни испытывала на бумаге, при проверке реальностью Гитлер выиграл войну против двух великих держав Европы. Но говорить так – значит, вопреки совету Фредерика Мейтленда, судить из точки, где все уже случилось, а не из точки, где событиям еще только предстояло произойти. Да, Гитлер победил, но победил он по ошибке – по ошибке, которую совершил наряду с другими. Разумеется, немцы не сомневались, что, если никто не атакует их западные границы, Польшу они разгромят. Политический расчет Гитлера, уверенного, что Франция не станет вмешиваться, оказался точнее страхов немецких генералов. Однако, вторгшись 10 мая 1940 г. в Бельгию и Голландию, Гитлер не догадывался, что заставит Францию капитулировать. Это был оборонительный ход: он хотел обезопасить Рур от вторжения союзников[7]. Падение Франции стало для него неожиданным подарком. И даже после этого Гитлер не начал подготовку к большой войне. Он считал, что победа над Советской Россией, подобно победе над Францией, не потребует серьезных усилий. Производство оружия в Германии сокращалось не только зимой 1940/41 г.; еще сильнее оно сократилось осенью 1941 г., когда война с Россией уже началась. Его стратегия не претерпела никаких серьезных изменений не только после первых неудач в России, но и после катастрофы под Сталинградом. Германия не отказалась от своей «военной экономики мирного типа». Только налеты британских бомбардировщиков на немецкие города заставили Гитлера и немцев отнестись к войне серьезно. Немецкое военное производство достигло пика тогда же, когда и бомбардировки союзников: в июле 1944 г. Даже в марте 1945 г. Германия производила существенно больше военной техники, чем в 1941 г., когда атаковала Россию. С самого начала и до самого конца секретом успеха Гитлера была не военная мощь, а изворотливость. Он всегда знал, что будет обречен, если военная мощь станет решающим фактором; так оно и случилось.
Таким образом, я уверен, что не грешу против истины, когда говорю, что важнейшая роль на международной арене в предвоенные годы отводилась не грубой силе, а политическому расчету. Акценты несколько сместились летом 1936 г. Тогда не только Гитлер, но и другие державы начали всерьез принимать в расчет войну и подготовку к войне. Я допустил ошибку, недостаточно подчеркнув перемены, которые принес с собой 1936 год, и, возможно, переоценив важность изменений, случившихся осенью 1937-го. Это лишь подчеркивает, как трудно не поддаваться мифам, даже если ставишь это своей целью. Меня ввел в заблуждение протокол Хоссбаха. Хотя я сомневался, что он так важен, как считает большинство авторов, я думал, что раз уж все придают ему такое большое значение, то какую-то важность этот документ все-таки имеет. Я ошибался; а критики, указывавшие на 1936 г., оказались правы, несмотря на то что они, судя по всему, не осознавали, что таким образом дискредитируют протокол Хоссбаха. Мне стоило бы еще немного сильнее развенчать этот «официальный протокол», как назвал его один историк. Мои аргументы тут чисто технические, и неискушенному читателю они могут показаться ничтожными. Тем не менее ученые, как правило, придают значение таким деталям, и правильно делают. По сложившейся практике документ, который претендует на то, чтобы считаться официальным протоколом, должен удовлетворять трем условиям. Во-первых, секретарь должен присутствовать на совещании и вести записи, которые он позже оформит по всем правилам. Получившийся черновик необходимо затем передать участникам встречи для внесения правок и одобрения. И наконец, такой протокол должен быть помещен на хранение вместе с другими официальными бумагами. Отчет о совещании 5 ноября 1937 г. не удовлетворяет ни одному из этих условий – за исключением того, что Хоссбах на нем действительно присутствовал. Записей он не вел. Пять дней спустя он от руки и по памяти составил записку об этой встрече. Он дважды предлагал показать ее Гитлеру, но тот отвечал, что слишком занят, чтобы ее читать. До странности легкомысленное отношение к тому, что принято считать его «последней волей и политическим завещанием». Возможно, черновой вариант прочел Бломберг. Остальные даже не знали о его существовании. Единственное свидетельство подлинности отчета – подпись Хоссбаха. Рукопись видел еще один человек – глава немецкого генштаба Бек, который из всех немецких генералов с максимальным скепсисом относился к идеям Гитлера. 12 ноября 1937 г. он составил письменный ответ на аргументацию Гитлера; позже этот его ответ подавали как начало немецкого «сопротивления». Высказывались даже предположения, будто Хоссбах составил свой протокол специально, чтобы спровоцировать Бека на такую реакцию.
Это лишь домыслы. В то время никто не придавал этой встрече важности. Хоссбах вскоре лишился должности. Его рукопись положили в папку с другими разрозненными документами и забыли о ней. В 1943 г. немецкий офицер граф Киршбах, просматривая папку, скопировал его текст для военно-исторического отдела. После войны американцы наткнулись на копию, сделанную Киршбахом, и в свою очередь скопировали ее для материалов стороны обвинения на Нюрнбергском процессе. И Хоссбах, и Киршбах считали, что американская копия была короче оригинала. В частности, как утверждал Киршбах, в исходном документе содержались критические замечания Нейрата, Бломберга и Фрича по поводу использованной Гитлером аргументации – из американской копии они исчезли. Может быть, американцы «отредактировали» документ, а может, Киршбах, как и многие другие немцы, пытался возложить всю вину на Гитлера. Узнать это уже невозможно. И оригинал Хоссбаха, и копия Киршбаха утеряны[8]. Все, что сохранилось, – лишь копия копии незаверенного черновика: возможно, сокращенная, возможно, «отредактированная». В ее тексте затронуты темы, которых Гитлер касался и в своих публичных выступлениях: нужда в Lebensraum («жизненном пространстве») и его убежденность, что другие страны станут сопротивляться восстановлению Германии в качестве независимой великой державы. Никаких указаний к действию, кроме пожелания наращивать вооружения, там нет[9]. Даже в Нюрнберге протокол Хоссбаха не был представлен в качестве доказательства виновности Гитлера в войне. Она предполагалась изначально. Что он «доказывал» в своем окончательном, подправленном виде, так это то, что обвиняемые – Геринг, Редер и Нейрат – присутствовали на совещании и тем самым одобрили агрессивные планы Гитлера. Чтобы доказать вину подсудимых, агрессивный характер этих планов следовало принимать за данность. Те, кто верит доказательствам, предъявляемым на политически обусловленных процессах, могут продолжать цитировать протокол Хоссбаха[10]. Но им стоит предупреждать своих читателей (чего редакторы «Документов внешней политики Германии», например, не сделали), что этот документ – отнюдь не «официальный протокол», а весьма сомнительная бумага{13}.
Протокол Хоссбаха – не единственный документ, в котором, как предполагается, прочерчены намерения Гитлера. Более того, если судить по высказываниям некоторых историков, Гитлер без конца чертил такие планы – без сомнения, под влиянием своей мечты стать архитектором (смеяться здесь). Боюсь, эти историки даже недооценивают продуктивность Гитлера. Они перескакивают от Mein Kampf[11] прямиком к протоколу Хоссбаха, а затем к «Застольным беседам», записанным в годы войны с Россией{14}. В действительности же Гитлер составлял по такому плану каждый раз, когда готовился произнести речь; так работал его мозг. Очевидно, ничего секретного в этих планах не было – ни в Mein Kampf[12], книге, которая после прихода Гитлера к власти продавалась миллионами экземпляров, ни в выступлениях перед широкой аудиторией. Так что я никому бы не советовал гордиться тем, как проницательно он истолковывает намерения Гитлера. Столь же очевидно, что идея Lebensraum неизменно становилась компонентом этих планов. Она не была изобретена Гитлером. В то время эта идея носилась в воздухе. К примеру, книга Ханса Гримма Volk ohne Raum («Народ без пространства»), опубликованная в 1928 г., продавалась гораздо лучше Mein Kampf[13]. Если уж на то пошло, идея обретения новых территорий неустанно муссировалась в Германии еще в годы Первой мировой войны. Раньше эту идею воспринимали как прожекты экстремистских группировок и сбрендивших теоретиков. Теперь нам известно больше. В 1961 г. один немецкий профессор обнародовал результаты своего исследования целей Германии в войне 1914–1918 гг.{15} Это действительно были «агрессивные планы», или, как назвал их профессор, «рывок к мировому господству»: Бельгия под контролем Германии; французские железнорудные месторождения аннексированы; Украина оккупирована; более того, Польша и Украина зачищены от местного населения и заселены немцами. Разработкой этих планов занимался не один только немецкий генштаб. Их одобряло и министерство иностранных дел Германии, и «хороший немец» Бетман-Гольвег. Никак нельзя утверждать, что Гитлер пошел дальше своих респектабельных предшественников – в действительности он занял позицию более умеренную, решив отказаться от завоеваний на западе (о чем он пишет в Mein Kampf[14]) и ограничиться лишь обретением «жизненного пространства» на востоке[15]. Гитлер только повторял обычную в правых кругах болтовню. Как все демагоги, он апеллировал к массам. В отличие от других демагогов, которые стремились к власти, чтобы продвигать левую повестку, Гитлер овладевал массами методами левых, с тем чтобы преподнести эти массы правым. Вот почему правые позволили ему прийти к власти.
Но была ли идея Lebensraum единственной или хотя бы главной идеей Гитлера? Судя по Mein Kampf[16], Гитлер был одержим антисемитизмом, которому посвящена почти вся книга. Вопросу «жизненного пространства» автор уделил лишь семь из семи сотен страниц. И в то время, и позже Lebensraum использовался им в качестве «журавля в небе», окончательной причины, призванной оправдать то, что он предположительно собирался натворить. Возможно, разница между мною и теми, кто верит, что Гитлер упорно строил планы завоевания Lebensraum, лишь терминологическая. Под «планом» я понимаю нечто продуманное и проработанное в деталях. Они же, видимо, понимают под «планом» благие (или, как в данном случае, отнюдь не благие) намерения. Если исходить из моего понимания, Гитлер никогда не планировал завоевывать Lebensraum. Не прорабатывался вопрос ресурсов, имеющихся на территориях, которые подлежали завоеванию; более того, границы этих территорий тоже не определялись. Никто не набирал чиновников для претворения «плана» в жизнь, не определял круг немцев, готовых переселяться, не говоря уже о какой бы то ни было их вербовке. Когда Германия захватила советские территории, руководители оккупационных администраций бегали как белки в колесе, не в силах добиться указаний, что им делать с имеющимся населением – уничтожать или эксплуатировать, обращаться с ними как с друзьями или как с врагами[17].
Гитлер определенно думал, что Германия, когда она вернет себе статус великой державы, с наибольшей вероятностью прирастет землями в Восточной Европе. Отчасти это объяснялось тем, что он верил в идею «жизненного пространства». Существовали, однако, и соображения более практического характера. Гитлер долгое время – справедливо или нет – предполагал, что разгромить Советскую Россию будет легче, чем западные державы. Более того, он наполовину верил, что власть большевиков рухнет и без войны, и эту веру с ним разделяли многие государственные деятели Запада. В этом случае он получил бы желаемое вообще без каких-либо усилий. Более того, завоевание Lebensraum легко можно было изображать крестовым походом против большевиков, что помогло бы завоевывать симпатии тех жителей Запада, которые были готовы счесть Гитлера борцом за западные ценности. Однако догматиком он в этом отношении не был. Если ему подворачивалась такая возможность, он не отказывался и от иных приобретений. После победы над Францией Гитлер аннексировал Эльзас и Лотарингию, несмотря на свои прежние обещания этого не делать; вдобавок он прибрал к рукам промышленные районы Бельгии и Северо-Восточной Франции, как до него собирался сделать и Бетман-Гольвег. Довольно расплывчатые условия, которые он планировал предложить Великобритании в попытке заключить мир летом 1940 г., предусматривали гарантии безопасности для Британской империи, однако при этом Гитлер собирался заявить права на Ирак, а может, даже и на Египет как на сферу влияния Германии. В общем, каких бы идей он ни придерживался в теории, на практике он не цеплялся за логическую схему «status quo на западе и захват земель на востоке». Отвлеченный мечтатель обернулся беспринципным государственным деятелем, который не считал нужным заранее обдумывать, что и как он будет делать.
Гитлеру удалось зайти так далеко, потому что другие не знали, как с ним быть. И снова я не хочу ни обвинять, ни оправдывать «умиротворителей», я хочу их понять. Историки, которые списывают умиротворителей со счета, как дураков или трусов, плохо делают свою работу. Эти люди столкнулись с реальными проблемами и старались как могли, действуя в условиях того времени. Они понимали, что независимую и сильную Германию необходимо как-то встроить в Европу. Последующие события подтвердили их правоту. Что ни говори, а мы до сих пор ходим вокруг да около немецкого вопроса. Станет ли здравомыслящий человек предполагать, например, что в 1933 г. другие страны могли применить силу и свергнуть Гитлера, который пришел к власти конституционным путем и явно пользовался поддержкой значительного большинства немцев? Можно ли выдумать меру, которая в той же степени способствовала бы росту его популярности в Германии, за исключением разве что вмешательства с целью выдавить его из Рейнской области в 1936 г.? Немцы наделили Гитлера властью; и только они могли его ее лишить. Кроме того, «умиротворители» опасались, что после разгрома Германии Россия распространит сферу своего влияния на бóльшую часть Европы. Последующие события показывают, что и здесь они не ошибались. Право критиковать «умиротворителей» имеют лишь те, кто хотел бы, чтобы место Германии занял СССР; я не понимаю, почему большинство их критиков теперь столь же возмущены неизбежным результатом провала их усилий.
Неверно и то, что «умиротворители» представляли собой узкий кружок, не пользовавшийся в тот период широкой поддержкой. Если судить по тому, что говорят сейчас, можно подумать, что почти все консерваторы выступали за упорное сопротивление Германии в союзе с Советской Россией и что вся Лейбористская партия требовала наращивания вооружений. Напротив, редко какая политическая программа пользовалась большей популярностью. Мюнхенскому соглашению рукоплескали все британские газеты, за исключением Reynolds News. Но мифы столь сильны, что даже сейчас, когда я пишу эти строки, я сам себе с трудом верю. Конечно, «умиротворители» в первую очередь думали о своих собственных странах, как и большинство государственных деятелей, которым это обычно ставят в заслугу. Но и о других они тоже думали. Они сомневались, что война пойдет на пользу народам Восточной Европы. Без сомнения, позицию, которую Британия заняла в сентябре 1939 г., можно назвать героической; но это был героизм в основном за чужой счет. Тяготы, выпавшие на долю британского народа за шесть лет войны, сравнительно невелики. Поляки в годы Второй мировой пережили настоящую катастрофу и даже после нее не вернули себе независимости. В 1938 г. предали Чехословакию. В 1939 г. спасли Польшу. В итоге война унесла жизни менее ста тысяч чехов – и шести с половиной миллионов поляков. Так кем быть лучше – преданным чехом или спасенным поляком? Я рад, что Германия была побеждена, а Гитлер разбит. Я также признателен тем, кто дорого заплатил за победу, и при этом отдаю должное честности тех, кто считал требуемую цену слишком высокой.
В наше время эту полемику следует вести в терминах исторической науки. Нет ничего проще, чем выдвигать обвинения против умиротворителей. Возможно, я потерял интерес к этому занятию оттого, что часто упражнялся в нем еще в те времена, когда – если память мне не изменяет – деятели, которые нынче высказывают мне свое негодование, не проявляли особой публичной активности. Мне важнее понять, почему не сработало то, что я требовал, чем повторять старые обвинения; и если уж приходится осуждать чьи-то ошибки, пусть это будут мои собственные. Однако в обязанности историка не входит рассказывать людям, что им нужно было делать. Его единственный долг – выяснить, что было сделано и почему. Мы мало что выясним, если по-прежнему будем приписывать все случившееся лично Гитлеру. Да, он привнес в ситуацию мощный динамический элемент, но это было всего лишь топливо для уже собранного мотора. Отчасти Гитлер был порождением Версаля, отчасти – порождением идей, типичных для современной ему Европы. Но прежде всего он был порождением немецкого прошлого и немецкого настоящего. Он был бы никем, если бы его не поддержал народ Германии. Сегодня, кажется, принято считать, будто Гитлер все делал сам – вплоть до того, что он сам водил поезда и в одиночку пускал газ в газовые камеры. Но это не так. Гитлер был резонатором для немецкого народа. Тысячи, многие сотни тысяч немцев исполняли его чудовищные приказания без тени сомнений и без лишних вопросов. Как верховный правитель Германии, Гитлер несет наибольшую долю ответственности за неизмеримо чудовищные деяния: за разрушение немецкой демократии; за концентрационные лагеря и – самое страшное – за истребление народов в годы Второй мировой войны. Он отдавал – а немцы исполняли – приказы настолько порочные, что их не с чем сравнить в истории цивилизованных народов. Однако его внешняя политика – это другое дело. Он стремился сделать Германию господствующей силой в Европе, а может быть, в отдаленной перспективе и в мире. Другие великие державы преследовали схожие цели – и продолжают это делать до сих пор. Другие великие державы воспринимают малые страны как своих сателлитов. Другие великие державы пытаются защищать свои национальные интересы силой оружия. В международных делах Гитлер был ничем не хуже других – за исключением того, что был немцем[18].
Глава 1
Позабытая проблема
С начала Второй мировой войны прошло уже больше двадцати лет, а с ее окончания – пятнадцать. Люди, пережившие войну, все еще воспринимают ее как часть своего непосредственного опыта. Но в один прекрасный день они вдруг понимают, что Вторая мировая, как и предшествовавшая ей Первая, ушла в историю. Для университетского профессора этот момент настает, когда ему приходится напоминать себе, что его студенты еще не родились, когда война началась, и не могут помнить даже ее финал. Вторая мировая так же далека от них, как Англо-бурская война от него самого; родители, может, и рассказывали им какие-то истории, но куда вероятнее, что все свои знания о войне его слушатели почерпнули из книг. Ее великие фигуры сошли со сцены. Гитлер, Муссолини, Сталин и Рузвельт мертвы; Черчилль ушел в отставку; один только де Голль снова у руля. Вторая мировая война – больше не «сегодня»; это уже «вчера». К историкам этот факт предъявляет новые требования. Современная в строгом смысле слова история фиксирует события по горячим следам, судит исходя из текущего момента и по праву рассчитывает на живое участие читателя. Никто не рискнет обесценивать такие работы, имея перед собой великий пример сэра Уинстона Черчилля. Но приходит время, когда историк может отстраниться и взглянуть на события, бывшие некогда современными, с беспристрастностью, какую он мог бы выказать, описывая борьбу за право на инвеституру или гражданскую войну в Англии. По крайней мере, он может попытаться.
Подобную попытку историки предприняли и по окончании Первой мировой войны, но упор тогда делался на другое. Сама война особого интереса не вызывала. Полемика «западников» и «восточников» по поводу глобальной стратегии считалась частным конфликтом Ллойд Джорджа с генералами, недостойным внимания академической истории. Официальная военная история Великобритании – сама по себе неоднозначный вклад в этот частный конфликт – писалась так неспешно, что была доведена до конца лишь в 1948 г. Написать официальную гражданскую историю не собрался никто, кроме министерства военного снабжения. Попытки достичь мира путем переговоров практически никого не интересовали. Никто не изучал эволюции военных целей. Исследований, посвященных такой вызывающей жаркие споры теме, как внешняя политика Вудро Вильсона, пришлось ждать почти до сего дня. Один вопрос затмил собой все остальные и полностью завладел вниманием историков: как началась эта война? Правительства всех великих держав, за исключением Италии, щедро делились документами из своих дипломатических архивов. Обозревая свои книжные полки, забитые томами на всех основных языках, усердный историк мог сожалеть лишь о том, что не читает на остальных. На французском, немецком и русском языках выходили периодические издания, целиком посвященные этой теме. Изучая истоки Первой мировой войны, историки делали себе имя – Гуч в Англии, Фей и Шмитт в США, Ренувен и Камиль Блок во Франции, Тимме, Бранденбург и фон Вегерер в Германии, Пржибрам в Австрии, Покровский в России и т. д.
Кто-то уделял особое внимание событиям июля 1914 г.; другие углублялись в прошлое вплоть до Марокканского кризиса 1905 г. или даже во времена Бисмарка. Но все сходились на том, что для историка Новейшего времени эта область исследований представляет особый интерес. Университетские курсы обрывались августом 1914 г.; кое-где это и до сих пор так. Студенты не возражали. Им нравилось слушать о Вильгельме II и Пуанкаре, о Грее и Извольском. Телеграмма Крюгеру интересовала их больше битвы при Пашендейле, Бьёркский договор казался им важнее соглашения Сайкса – Пико. Главным событием, определившим настоящее, считалось начало войны. Все, что произошло потом, было сумбурной отработкой неизбежных последствий, которая в настоящем значения не имеет и ничему научить не может. Если мы поймем, почему началась война, то поймем и то, как мы пришли к тому, к чему пришли, – и, естественно, как нам не угодить туда же снова.
Со Второй мировой войной дело обстояло почти полностью наоборот. Максимальный интерес и у читателей, и у авторов вызывала сама война. Не только ход военных кампаний, хотя и их разбирали снова и снова. Изучали и военную политику – в частности, отношения стран, составлявших антигитлеровскую коалицию. Не сосчитать книг, посвященных Компьенскому перемирию 1940 г. или конференциям «Большой тройки» в Тегеране и Ялте. Под «польским вопросом» в контексте Второй мировой войны понимали конфронтацию Советской России и западных держав, которой война закончилась, а не территориальные претензии Германии к Польше, с которых она началась. Истоки войны возбуждали сравнительно небольшой интерес. Сложилось мнение, будто, несмотря на то что какие-то подробности еще могут всплыть, ничего глобально нового мы уже не узнаем. Все ответы известны, и ставить новые вопросы попросту незачем. Ведущие авторы, к которым мы обращаемся за описанием истоков Второй мировой войны, – Нэмир, Уиллер-Беннет, Вискеманн на английском, Бомон на французском – опубликовали свои труды вскоре после окончания войны; все они как один выражали взгляды, которых придерживались еще в годы войны или даже до ее начала. Спустя двадцать лет с начала Первой мировой войны очень немногие согласились бы принять объяснения, предлагавшиеся в августе 1914 г. Спустя двадцать и более лет с начала Второй мировой войны практически все довольствуются объяснениями, предложенными в сентябре 1939 г.
Конечно, вполне возможно, что здесь и в самом деле нечего искать. Может, у Второй мировой войны, в отличие от практически любого другого крупного исторического события, имеется простое и окончательное объяснение, которое было очевидно каждому с самого ее начала и которое никогда не поменяется под влиянием нового знания или анализа. Но я очень сомневаюсь, что лет через сто историки будут воспринимать события ровно так же, как люди, жившие в 1939 г.; вместо того чтобы повторять суждения прошлого, современный историк должен стремиться предвосхитить суждения будущего. Разумеется, историки обходят эту тему вниманием по вполне практическим причинам. Любой историк хотел бы быть отстраненным и беспристрастным ученым, который выбирает свой предмет исследования и делает выводы без оглядки на окружение. Однако, будучи частью общества, он – пусть неосознанно – откликается на требования времени. Великий Томас Тоут, например, чьи труды кардинально изменили подход к изучению средневековой истории в нашей стране, без сомнения, перенес акцент с политики на систему управления исключительно в интересах чистого знания. И тем не менее какое-то отношение к этой перемене имело и то обстоятельство, что университетский историк XX в. готовит будущих гражданских служащих, в то время как университетский историк XIX в. готовил будущих государственных деятелей. Поэтому и авторы работ, посвященных двум мировым войнам, должны были учитывать, какие темы сохраняли актуальность, или же предлагали ответы на животрепещущие вопросы современности. Никто не станет писать книгу, неинтересную читателям, а тем более книгу, неинтересную самому автору.
В военном отношении Первая мировая война, казалось, особых вопросов не вызывала. Большинство, особенно в странах Антанты, считало войну изнурительным поединком на выносливость вроде боксерских боев XIX в., которые длились до тех пор, пока один из противников не падал от изнеможения. Только когда опыт Второй мировой войны отточил умы, люди принялись всерьез обсуждать, нельзя ли было окончить Первую мировую войну раньше – за счет лучшей военной или политической стратегии. Кроме того, после Первой мировой войны было принято считать, что новой войны никогда не будет[19]; следовательно, из изучения последней войны нельзя было извлечь уроков на будущее. С другой стороны, даже по окончании той войны огромная проблема, послужившая ее причиной, по-прежнему оставалась в фокусе международной политики. Этой проблемой была Германия. Союзники могли говорить, что войну повлекла за собой немецкая агрессия; немцы могли отвечать, что ее повлек за собой отказ обеспечить Германии по праву принадлежавшее ей место в ряду великих держав, – в любом случае речь шла о Германии. В мире, помимо Германии, существовали и другие проблемы, в том числе Советская Россия и Дальний Восток. Однако имелись разумные основания предполагать, что эти проблемы решаемы и что миру во всем мире ничего не угрожает – при условии, что немецкий народ примирится со своими бывшими врагами. Потому-то изучение истоков войны и считалось вопросом первоочередной практической важности. Если бы народы союзных стран удалось убедить в том, что немцы не несут «ответственности за развязывание войны», они смягчили бы карательные условия Версальского договора и признали бы немецкий народ такой же жертвой исторического катаклизма, как и самих себя. Как вариант, если бы самим немцам удалось внушить чувство вины за войну, они могли бы согласиться со справедливостью условий договора. На деле «ревизионизм» избрал исключительно первый путь. Британские, американские и до некоторой степени французские историки силились показать, что вина правительств союзных стран гораздо больше, а вина немецкого правительства – гораздо меньше, чем полагали творцы Версальского мира в 1919 г. Лишь немногие из немецких историков пытались продемонстрировать обратное, и это было вполне естественно. Даже самый беспристрастный ученый ощутит прилив патриотизма, когда его страна разгромлена в войне и унижена после нее. С другой стороны, в предвоенные годы внешняя политика была предметом жарких дискуссий в каждой из стран антигерманской коалиции. Люди, критиковавшие Грея в Англии, Пуанкаре во Франции, Вудро Вильсона в США – не говоря уже о большевиках, свергших царское правительство в России, – теперь выступали учеными – поборниками «ревизионистского» подхода. Кто был прав в этих внешне- и внутриполитических спорах, а кто ошибался, уже не имеет значения. Хватит и того, что они поддерживали накал интереса, служившего стимулом к изучению истоков Первой мировой войны.
Топлива, способного подогреть интерес к истокам Второй мировой войны, не сыскалось. Что касается внешней политики, то Германия как великая держава перестала быть центральной проблемой международных отношений еще до того, как закончилась война. Ее место заняла Советская Россия. Людей интересовали ошибки, допущенные во время войны в отношениях с Советской Россией, а не те, что были сделаны до ее начала в отношениях с Германией. Более того, поскольку и Россия, и Запад намеревались привлечь на свою сторону отдельные части разделенной Германии, чем меньше говорилось о войне, тем лучше. Немцам такое забвение тоже было на руку. После Первой мировой войны они настаивали, что Германию по-прежнему следует считать великой державой. После Второй мировой они первыми заговорили о том, что Европа перестала определять ситуацию в мире, негласно подразумевая, что Германия больше никогда не сможет спровоцировать большую войну и поэтому ей должно быть позволено идти своей дорогой без контроля и вмешательства извне. Что касается политики внутренней, то и тут дела обстояли схожим образом. Перед Второй мировой войной в союзных странах гремели яростные споры – куда яростнее любых дискуссий, предшествовавших августу 1914 г. Но в годы войны противники уладили свои разногласия, а по ее окончании в большинстве своем постарались о них позабыть. Бывшие сторонники «умиротворения» могли вернуться к прежней политике, имея теперь на то больше оснований; бывшие сторонники «сопротивления» забыли старые тревоги в отношении Германии, столкнувшись с необходимостью противостоять Советской России.
Истоки Второй мировой войны мало интересовали людей, которые уже изучали истоки третьей. Возможно, какое-то развитие тема все же получила бы, если бы в ней оставалось достаточное пространство для вопросов и сомнений. Увы, существовало объяснение, которое устраивало всех и, казалось, ставило точку в споре. Вот это объяснение: Гитлер. Он спланировал Вторую мировую войну. Она началась исключительно по его воле. Само собой, это объяснение устраивало сторонников «сопротивления» от Черчилля до Нэмира. Они же прибегали к нему все время, в том числе и еще до войны. Они могли бы сказать: «Мы же вам говорили. Альтернативы сопротивлению не было изначально». Это объяснение устраивало и «умиротворителей» – им оно позволяло утверждать, что политика умиротворения была мудрой и могла бы стать успешной, если бы по непредвиденной случайности Германия не оказалась во власти сумасшедшего. Но более всего это объяснение устраивало немцев, за исключением разве что немногих нераскаявшихся нацистов. После Первой мировой войны немцы пытались переложить вину на страны Антанты или представить все так, будто не виноват никто. После Второй мировой войны свалить всю вину немцев на Гитлера, который так кстати сошел в могилу, оказалось еще проще. Может, при жизни Гитлер и обрушил на Германию чудовищное количество бед, но, с точки зрения немцев, он многое искупил своей последней жертвой в бункере. Никакая посмертная вина хуже ему уже не сделает. На его безответные ныне плечи можно было возлагать ответственность за все подряд – за Вторую мировую, за концентрационные лагеря, за газовые камеры. Если во всем виноват один лишь Гитлер, значит, остальные немцы могли объявить себя невиновными; и немцы, которые до той поры были самыми рьяными противниками концепции ответственности за развязывание войны, превратились в самых преданных ее сторонников. Некоторым из них удалось развернуть образ изверга Гитлера под особенно удачным углом. Поскольку Гитлер, очевидно, был воплощением зла, ему с самого начала нужно было дать решительный отпор. Поэтому ту вину, что не помещалась на плечи Гитлера, можно было переложить на французов, которые не изгнали его из Рейнской области в 1936 г., или на Чемберлена, который пошел на уступки в сентябре 1938-го.
С такой причиной Второй мировой войны радостно согласились все. Какая в этом случае могла быть нужда в «ревизионизме»? Кое-кто в нейтральных странах, прежде всего в Ирландии, попытался было заикнуться о своих сомнениях, но участие в холодной войне против Советской России, как правило, затыкало рты даже тем, кто хранил нейтралитет в войне с Германией; аналогичные соображения – только в обратную сторону – действовали и на советских историков. Школа убежденных ревизионистов сохранилась лишь в США, где в нее входили последние из тех активистов, которым после 1919 г. собственное правительство казалось злокозненней любого другого. С научной точки зрения их труды не впечатляют. Кроме того, американские ревизионисты занимались в основном войной с Японией, и не без оснований. Это Гитлер объявил войну США, а не наоборот; трудно представить, как Рузвельту удалось бы втянуть свою страну в войну в Европе, если бы Гитлер своевольно не сделал этого за него. Но и в отношении Японии места для дискуссий почти не оставалось. Ломать копья больше было незачем. Некогда перед США стоял вопрос практического свойства: кого взять в союзники – Японию или Китай? Ответ на этот вопрос дало время, заодно полностью опрокинув американскую политику в регионе. Япония – это теперь общепризнанный факт – является единственным надежным другом Америки на Дальнем Востоке; в связи с этим война с Японией представляется чьей-то ошибкой – хотя, скорее всего, естественно, ошибкой японцев.
Эти злободневные политические соображения помогают понять, почему истоки Второй мировой войны не являются сегодня предметом острой полемики. И тем не менее только этим почти поголовного единодушия историков не объяснить. Влиянию академических стандартов подвержены даже самые ангажированные из ученых; к тому же далеко не все историки ангажированы. Будь свидетельства достаточно противоречивыми, обязательно нашлись бы исследователи, которые оспорили бы всеобщий вердикт, пусть и самый что ни на есть общепризнанный. Ничего подобного не произошло, причем по двум на первый взгляд противоречащим друг другу причинам – исторических материалов одновременно и слишком много, и слишком мало. Материалы, которых имеется в избытке, – это те, что собирались для суда над военными преступниками в Нюрнберге. Бесчисленные тома документов выглядят впечатляюще, но для историка эти материалы небезопасны. Их собирали наспех и почти наугад, чтобы положить в основу прокурорских досье. Историки так не поступают. Задача юриста – доказать свою правоту в суде; задача историка – понять, что же произошло на самом деле. Доказательства, которые убеждают юристов, часто не удовлетворяют нас; им же наши методы кажутся исключительно неточными. Но к настоящему моменту даже у юристов могли бы появиться вопросы к доказательствам, представленным в Нюрнберге. Нюрнбергские документы отбирались не только для того, чтобы доказать вину подсудимых, но и чтобы завуалировать роль великих держав, выступавших в качестве обвинителей. Если бы любая из четырех стран, организовавших Нюрнбергский трибунал, вела дело в одиночку, результат мог бы быть совершенно иным. Западные державы припомнили бы России Пакт Молотова – Риббентропа; Советский Союз в ответ поставил бы им на вид Мюнхенскую конференцию и другие, более тайные сношения с врагом. Вердикт, по-сути, предшествовал суду, а документы специально подбирались так, чтобы обосновать уже сделанный вывод. Документы эти, вне всяких сомнений, подлинные. Но они «подобраны c оглядкой»; и тому, кто на них полагается, практически невозможно не поддаться предвзятости их подбора[20].
Если же мы попытаемся отыскать данные, собранные с академической беспристрастностью, то поймем, что по сравнению с нашими предшественниками, изучавшими истоки Первой мировой войны, мы находимся в неизмеримо худшем положении. Через поколение или около того после первой войны все великие державы, за исключением Италии, почти полностью обнародовали дипломатические документы, непосредственно касающиеся предвоенного кризиса. Опубликованы были, кроме того, и обширные массивы документов, простиравшиеся на ту или иную глубину в прошлое: австро-венгерские документы вплоть до 1908 г., британские – до 1898 г., немецкие и французские – до 1871 г.; российские публикации, пусть и эпизодические, тоже были объемными. Имелись и очевидные пробелы. Можно было пожаловаться на нехватку итальянских документов, но сейчас этот изъян устраняется; можно было пожаловаться – как тогда, так и сейчас – на отсутствие сербских документов. В опубликованных собраниях, вероятно, имеются намеренные пропуски; к тому же никакой добросовестный историк не успокоится, пока не ознакомится с архивами лично. Тем не менее мы в целом можем в мельчайших деталях и широчайших пределах проследить дипломатические усилия пяти из шести великих держав. Окончательно эти материалы не осмыслены до сих пор. По мере их изучения мы находим новые темы для исследования и возможности для новых интерпретаций.
Контраст с доступностью материалов, освещающих события периода до 1939 г., поистине печален. Великой европейской державы Австро-Венгрии больше не существует. Из оставшихся пяти три до последнего времени не обнародовали ни строчки, ни предложения из своих архивов. Итальянцы начали наверстывать упущенное: они уже опубликовали документы за период с 22 мая 1939 г. до начала войны, а со временем обойдут всех остальных, обнародовав документы с 1861 г. Позиции Франции и России по-прежнему совершенно не объяснены материалами из их архивов. У французов хотя бы есть частичное оправдание. Бóльшую часть французских документов с 1933 по 1939 г. сожгли 16 мая 1940 г. при поступлении известия о прорыве немецких войск под Седаном. Дубликаты сейчас кропотливо собираются по французским представительствам за рубежом. О причинах молчания Советского Союза, как и обо всем, что касается советской политики, остается только гадать. Может, советское правительство скрывает что-нибудь особенно предосудительное? Может, оно предпочитает не выставлять свои действия, какими бы давними они ни были, на всеобщее обозрение? Может, у них вообще нет никаких документов – комиссариат иностранных дел в силу своей некомпетентности их просто не составлял? Или же советское правительство выучило урок множества прошлых споров на исторические темы: единственный надежный способ отстоять свою версию – никогда не предъявлять доказательств в ее поддержку? Но по каким бы причинам ни хранили молчание три великие державы, в поисках непрерывных сведений о дипломатических сношениях между войнами мы в итоге можем обращаться лишь к немецким и британским документам, из-за чего создается ложное впечатление, будто международные отношения в межвоенный период сводились к диалогу между Германией и Британией.
Но и здесь объем материалов уступает периоду до 1914 г. В 1945-м союзники изъяли немецкие архивы; документы с 1918 по 1945 г. первоначально планировалось издать полностью. Позже по соображениям экономии решили ограничиться периодом с прихода Гитлера к власти в 1933 г. Но и этот план не доведен до конца: между 1935 и 1937 гг. все еще зияет провал. Сейчас архивы вернули немецкому правительству в Бонне, что может привести к дальнейшим проволочкам. Более того, редакторы проекта, граждане стран-союзниц, при всей своей добросовестности по ассоциации разделяли точку зрения Нюрнбергского трибунала на вопрос ответственности за развязывание войны. Дополнительно дело осложнялось тем, что немецкое министерство иностранных дел, которое и вело записи, часто заявляло, будто работало против Гитлера, а не от его имени; так что мы не можем быть до конца уверены, что какой-нибудь конкретный документ описывает реальную позицию, а не сфабрикован, чтобы обелять его автора. Британские публикации со временем полностью охватят период с подписания Версальского мира до начала войны в 1939 г. Но это дело не быстрое. Пока что у нас нет практически ничего за 1920-е гг.; еще одно белое пятно охватывает промежуток с середины 1934-го до марта 1938 г. Содержание изданных томов ограничивается британской политикой как она осуществлялась. Ее мотивов они не раскрывают – в отличие от томов, посвященных периоду до начала Первой мировой войны, где такие попытки предпринимались. Опубликовано буквально несколько стенографических отчетов, освещающих ход дискуссий в министерстве иностранных дел, а протоколов совещаний кабинета министров нет вовсе, хотя ни для кого не секрет, что премьер-министр и кабинет в то время играли роль бóльшую, а министерство иностранных дел – меньшую, чем в предшествующий период.
Положение наше гораздо хуже и в том, что касается менее официальных документов. Большинство деятелей, начавших Первую мировую войну, благополучно ее пережили, а после немало понаписали в свое оправдание или восхваление. Что касается Второй мировой, то кто-то из лидеров воюющих стран умер, пока война еще шла; других казнили в ее конце, по суду или без суда; третьи слишком горды или слишком осторожны, чтобы что-то писать. Количество книг, написанных по окончании Первой и Второй мировых войн людьми, занимавшими высшие позиции на их старте, не идет ни в какое сравнение. Вот список мемуаров о Первой мировой:
Список воспоминаний о Второй мировой войне выглядит следующим образом:
Расстрелянный министр иностранных дел Италии оставил после себя дневники. Немецкий министр иностранных дел составлял отрывочные записи в свою защиту, пока ожидал повешения. В нашем распоряжении имеются жалкие фрагменты переписки британского премьер-министра, а также разрозненные страницы автобиографии министра иностранных дел Британии. От Гитлера, Муссолини и Сталина, как и от советского министра иностранных дел Молотова, – ни строчки, ни слова. Нам приходится опираться на досужие толки второстепенных фигур – переводчиков, служащих министерств иностранных дел, журналистов; людей, которым зачастую известно немногим более, чем широкой публике.
Но что ни говори, а историки никогда не бывают довольны объемом информации. Я сомневаюсь, что, если мы подождем еще 10–15 лет, данных станет больше – скорее наоборот, многое будет утрачено[21]. Может, горстка людей, переживших крах цивилизации, к тому времени вообще не будет читать книг, не говоря уже о том, чтобы их писать. Поэтому я попытался изложить эту историю такой, какой она может предстать перед каким-нибудь историком будущего, опирающимся на документы. Возможно, результат продемонстрирует, сколь многое мы, историки, упускаем или понимаем неверно. Но это не избавляет нас от обязанности писать историю. Как и моему воображаемому преемнику, по ходу повествования мне часто придется признавать свое невежество. Кроме того, я обнаружил, что документальные источники, если оценивать их непредвзято, зачастую подталкивают меня к интерпретациям, отличным от тех, которые многие (включая и меня самого) давали в момент описываемых событий. На мои выводы это не влияло. Мне было важно не осудить и не оправдать, а понять, что произошло. Я был противником политики умиротворения с первого дня прихода Гитлера к власти; и не сомневаюсь, что в сходных обстоятельствах стал бы им снова. Но для меня, как для историка, этот факт не имеет значения. Оглядываясь назад, понимаешь, что виноватых не счесть, а невиновных не отыскать. Цель политической деятельности – обеспечить народам мир и процветание, но по разным причинам все до одного государственные деятели того периода не справились со своей задачей. Это история без героев; а может, даже и без злодеев.











