Читать онлайн Будь спок! Шестидесятые и мы
- Автор: Борис Рогинский
- Жанр: Биографии и мемуары, Публицистика
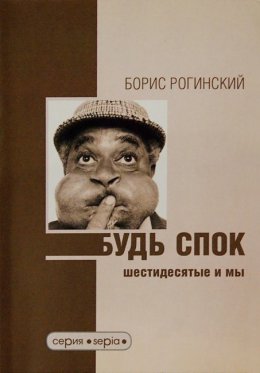
© Рогинский Б., 2019
© «Юолукка», 2019
От автора
Глен Гульд в белой рубашке с расстегнутым воротом наяривает IV контрапункт, мурлыча мелодию себе под ноc. В беззвучном парке ветер, любовники целуются, из кустов на них направлен пистолет. Голявкин с башенного крана над Каспийским морем рисует «Город на эстакаде». Военная переводчица Татьяна Левина гибнет в камышах на китайской границе. Джеральд в коротких штанишках покупает у грека бронзовок на ниточках. Кудрявый шут выпучивает глаза и приставляет флейту к причинному месту. Патефон играет танго: «Ты меня ждешь, ты у детской кроватки не спишь», террорист в темных очках поднимается по скрипучей лестнице. Работница Пушкинского музея спускается к пристани на Мойке и садится в лодку. Тосиро Мифуне бросает кинжал и пригвождает к стенке убегающий осенний листок. Ты что, не слышишь, как дождь кац-кац по пожарной лестнице, жизнь может быть такой сладкой, пьянее, чем вино. Летчик накануне катастрофы пьет компот, косточки от чернослива выкладывает в форме эскадрильи. Вдрызг пьяный ветеринар принимает роды у коровы, ливень, хозяин-сектант держит над ним кепку. Рид Грачев рисует красные кружки на полях ультиматума. Четверо юношейв черном скачут, как оголтелые вороны, по газону. Герману Лопатину заламывают руки на Невском и подсаживают в пролетку. В Тарту солнечно, студенты угощают ленинградок бутербродами с килькой и смеются. Брат Лев отстал, он засмотрелся на зеленую звезду, а мальчики, бросаясь снежками, вбегают в капеллу.
Шестидесятые? Не совсем точно. Во-первых, хронологические границы не совпадают, началось чуть не в сороковые, а когда кончилось? В 64-м? В 68-м? Или, наоборот, тогда все началось? Во-вторых, само это слово обросло чем-то не тем, как днище старого судна.
К нему прилипли постоянные эпитеты, из которых самый невинный: «наивные». Ну да, девяностые – лихие и т. д. Нельзя ли взглянуть по-другому? За полвека до календарного наступления эпохи, о которой речь, поэт (мог ли он думать об этом?) определил ее и ее героев:
- Вот ворона на крыше покатой
- Так с зимы и осталась лохматой…
- А уж в воздухе – вешние звоны,
- Даже дух занялся у вороны…
- Вдруг запрыгала в бок глупым скоком,
- Вниз на землю глядит она боком:
- Что белеет под нежною травкой?
- Вот желтеют под серою лавкой
- Прошлогодние мокрые стружки…
- Это все у вороны – игрушки.
- И уж так-то ворона довольна,
- Что весна, и дышать ей привольно!..
Эта лохматая с зимы ворона (похожие на нее люди, музыка, книги, фильмы) – первый и главный предметпредлагаемых читателю заметок. Отец говорил автору в свое время: «Ты шестидесятник». Автор, конечно, им не был, хотя весьма хотел. Не хватало легкости и энергии, открытости и ясности, безоглядности. Его герои, этой и прошлых книг, за редкими исключениями, связаны с этой эпохой: Юлий Даниэль, Домбровский, Окуджава, Рид Грачев, Татьяна Галушко, Лев Васильев, Юрий Давыдов, Ян Андерсон, Василь Быков, Олег Охапкин. Речь идет не только о наших, ну хорошо, назовем их так, шестидесятых, но и о западных, где, как и у нас, многое в 68-м, вопреки распространенному мнению, только началось. Первый альбом «Джетро Талл» и «Глухая пора листопада» вышли как раз тогда, а первая книга Хэрриота и «Смуглая леди» Домбровского – в 69-м. И так далее.
Кто такие – люди шестидесятых? Это ведь и «колокольчики», в рейдбригадах ловившие хулиганов и верившие в Маркса и Бернштейна, и Рихард Васми с Жорой Фридманом, в те же годы хилявшие по Сифилис-стрит и Триппер-штрассе в канадских куртках и ботинках-говнодавах, верившие в Хлебникова и Диззи Гиллеспи.
Это и Виктор Клемперер, умерший стариком в 60-м, и в том же году отчисленный из Орехово-Зуевского педагогического института Венедикт Ерофеев. Это и воевавшие Окуджава и Роальд Даль, и видевшие войну во младенчестве Олег Охапкин и Джорж Харрисон. Важно ли, печатались ли эти люди, сотрудничали ли с режимами? Вот и Окуджава, и Клемперер, да, печатались, да, сотрудничали. И Шукшин, и Василь Быков. А вот Венедикта Ерофеева не печатали. У Домбровского напечатали один роман, а второй пришлось издавать за границей. Что ж, получается, до ввода войск в Чехословакию он, как и многие, был человеком шестидесятых, а потом перестал им быть? А все, кому жить довелось по западную сторону занавеса, а значит, проблем с цензурой было меньше? Нет, ни мировоззрение, ни возраст, ни хронология, ни география, ни возможность компромисса с властью не годятся для определения.
Человек шестидесятых – это персонаж, для которого жизнь (именно так, со строчной буквы) важнее всего, что можно написать с заглавной: Искусства, Творчества, Религии, Бога, Убеждений, Общества, Призвания, Народа, Государства… Истины. Виктор Франкл (безусловно, человек шестидесятых) даже изобрел иезуитское положение, гласящее, что создать что-либо значительное можно только, не ставя себе значительной цели, не фиксируясь на этой цели, точно так же, как заснуть можно только, не думая о том, что надо заснуть. Ага, скажете вы, а что делать с «Главное – это величие замысла»? Во-первых, это из личного письма. Во-вторых, Бродский в диалогах с Соломоном Волковым говорит противоположное: «Антигероическая поза была idée fixe нашего поколения». И поза эта, хорошо, пусть всего лишь поза, гораздо убедительнее всех котурнов, на которые столько раз вставал Бродский – для того, чтобы как раз из этого своего поколения выделиться. Вспоминая Бродского, надо сказать, что человек шестидесятых, вопреки распространенному мнению, – одиночка, сколь бы ни были важны для него связи с людьми. Он никогда не может принять одну из сторон, неважно – две их или несчетное количество. Для него любая война – гражданская, то есть та, на которой нет правых и виноватых. Именно поэтому «я все равно паду на той, на той единственной гражданской». Эти пыльные шлемы, конечно, из Платонова и Петрова-Водкина, их переживание истории отчасти породило шестидесятые у нас: история трагична. Человек со своей человечностью один перед ее железным лицом. Ему не за что спрятаться, он должен противостоять ужасу жизни один. Отсюда постоянное ощущение тревоги. Шаламов был человеком шестидесятых годов, а Солженицын, на взгляд автора, – нет. Последний знал, за кого и за что надо воевать. Первый верил только в себя и в свою память, он был, как мы знаем, «участником последней великой проигранной битвы». Как тут не вспомнить беднягу Мачека, убитого в первое утро после победы. Чьей?
Человек шестидесятых состоит из времени, разума и любви. Или иначе: из памяти, решимости и отчаяния. И смеха, конечно. Все. Об этом читай у Лема: «Извечная вера влюбленных и поэтов в силу любви, которая переживает смерть, это преследующее нас столетиями finisvitaesednonamoris – ложь. Однако эта ложь всего лишь бесполезна, но не смешна. А вот быть часами, отмеряющими течение времени, теми, что поочередно то разбивают, то собирают снова и в механизме которых, едва конструктор впихнет в них колесики, вместе с их первым движением начинает тикать отчаяние и любовь, знать, что ты репетир муки, тем глубочайшей, чем она от многократного повторения становится комичнее?» (финал «Соляриса», 1960).
Человек шестидесятых поставил жизнь на карту. Так что ж, проиграл? «Старик, ты гений!» Оказалось, что не факт. Поэтому и Хэм, и Сент-Экз, и Сэл, и кто там у них еще был? Тот же Лем? Вайда? Камю? – все они всего лишь экспонаты чужой наивности и сентиментальности? Пусть так. Кто знает. Да и важно ли это?
Второй предмет этой книги составляет судьба поколения, к которому принадлежит автор. На этих людей (родившихся на рубеже шестидесятых – семидесятых) нельзя не смотреть с определенным скепсисом. Судьба их вообще должна была сложиться довольно счастливо. Их юность пришлась на 87–93-й годы, и, что бы кто ни говорил – автор и сам брезглив – а все же это было время свободы, и свобода определила лицо поколения. Все это символически кончилось, когда жизнь вступила в новое тысячелетие. Если точнее, у нас на год раньше (Вторая Чеченская война), на Западе – на год позже (атака на небоскребы). И не эпоха виновата, что поколение автора не нашло себе места в ней. Впрочем, и поколение тоже не виновато. Похожим образом сложилась судьба «детей революции» – родившихся в 1890-е и оказавшихся не у дел в год великого перелома, кто чуть раньше, кто чуть позже. Но тем было что сказать напоследок: «Зависть», «Чевенгур», «Смерть Вазир-Мухтара», «Четвертая проза», «Город Эн», «Виктор Вавич»… Сверстникам автора сказать нечего. Среди них много талантливых, но нет гениальных. Им нечего предъявить миру, кроме совершенно особенного типа личности. Типа, настаивающего на своей независимости? – нет, вряд ли. Самостоятельности? Нет. Небанальности? Неточно. Праве, только праве на небанальность. Этот тип с любовью и тревогой изображен в романе Мариам Петросян, которому в настоящей книге посвящена «Палочка за всех». Да, среди них много просто кайфодеров, но все-таки больше эскапистов.
Кто бежит от хандры, как Онегин, кто от ожившего истукана, как его бедный тезка, кто в Америку, как Свидригайлов, кто в науки – по следам крыловского философа, кто в семью, или нет, точнее, в искусство – по следам Позднышева. Вообще воронья эпоха нравилась поколению автора. Он отлично помнит, как сам он, в бакенбардах, шейном платке и вельветовом пиджаке сидит в фундаментальной библиотеке Герценовского пединститута и читает Шпенглера. Или Рескина. И многие его друзья были такими: жили, как будто рядом нет ни Кинчева, ни Горбачева, ни Цоя, ни Ельцина, ни Бутусова, ни Гребенщикова: слушали почти то же, что и их ровесники – герои Мариам Петросян: «Прокол Харум», «Дженезис», «Кинг Кримзон», «Пинк Флойд» (до 69-го года), уже упомянутых «Джетро Талл», «ЭЛП», «Вельвет Андеграунд» и так далее. Кто-то вообще предпочитал оперу. Не чуждались психоделического опыта. Они не хотели жить в своем времени, в том, что у Мариам Петросян называется «наружностью», не были приспособлены к нему. Это белоручки, не готовые даже к самым простеньким компромиссам, не по нравственным, а по эстетическим соображениям.
Бегство – не поступок. Что же в нашей современной действительности – поступок? И что это за действительность, в которой поступок так мучительно сложен? О поступке первым задумался Рид Грачев (ему посвящена открывающая эту книгу работа). Проблеме действительности и поступка посвящены «Разговоры после времени» о Светлане Алексиевич. В конце книги автор уже на основе собственного опыта пытается ответить на эти же вопросы («Не расскажу, что там я видел…»).
Важен вопрос о стиле. Стиль – не только тип самосознания и способ самовыражения, но и вопрос адресата, собеседника, которого мы выбираем. Вопрос Другого, да, того Другого, что с заглавной буквы. Люди все более или менее одинаковы, и порой кажется, что нужно искать новых слушателей. Единственного подлинного Другого автор нашел средиживотных. С них (если не считать отпечатков руки) началось искусство. Для них играл Орфей. Об этом – звериный цикл диалогов. Тут не отказ от человеческой аудитории или пренебрежительное к ней отношение. Нет, просто для того, чтобы говорить с людьми, нужно побывать в зверином обществе.
Также хотелось бы объяснить, как в этой книге понимается объективность. Это не абстрагирование от материала, это абстрагирование от себя. Критик должен умереть в том, о чем он пишет. Критик не должен навязывать свои вкусы и свою философию тем, кто ему нравится, и обвинять тех, кто ему не нравится из-за несхожести мировоззрений. Критик должен обладать радио-протеевскими качествами, ловить волну своего героя и стараться вещать где-то на соседних частотах. Ни в коем случае критик не должен задаваться вопросами: Толстой или Достоевский, Брюсов или Бальмонт, Мандельштам или Пастернак, Ахматова или Цветаева, Солженицын или Шаламов и т. д. Это как кого ты больше любишь – папу или маму. Конечно, для себя втихомолку можно решить кое-какие из этих вопросов, но не выносить на суд публики. Автор вообще писал только о тех, кто ему близок и кого он любит, о других ему скучно.
В поисках стиля и объективности чего только не перепробуешь. Например, что, впрочем, и не ново, стилизовать свои работы под речь их героев. Так возникли публиковавшиеся в предыдущих сборниках, но включенные для полноты картины в этот работы «Письма заложникам» и «История паруса». Можно также ввести несколько разных голосов, чтобы ничего никому не навязывать. Так были придуманы четыре звериных диалога, «Палочка за всех» и «После времени». Еще в книгу включены более или менее академические статьи о Роальде Мандельштаме и Льве Василеве, впервые опубликованные как послесловия к их сборникам; две краткие рецензии – на прозу Бориса Иванова и Самуила Лурье (обоих уже нет, но в рецензиях сохранено настоящее время, это как бы из диалогов в царстве мертвых); сообщение о невозможности интерпретации самого любимого автором стихотворения Олега Охапкина – и все это тоже были поиски того, как писать и к кому обращаться. Было бы со стороны читателя очень гуманно отнестись к подобным экспериментам снисходительно и со вниманием, так как вопросы стиля и объективности действительно первостепенны.
И последнее. «И ведь тоже думал: обломаю много дел, не умру, куда! Задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет… Все равно: вилять хвостом не стану». Что может помочь именно сейчас не вилять хвостом перед лицом неизбежного – неважно, смерть это или так называемый дух времени? Здесь мы возвращаемся к эпохе, задавшей тон этой книге. В многоумном докладе Бориса Останина и Александра Кобака она названа эпохой молнии в противоположность последовавшей за ней эпохе радуги. Так вот в эпоху молнии (или вороны) сверстники автора еще даже не совсем родились. Они были тогда задуманы. Их воспитывали по книге, написанной в 46-м году, но вышедшей у нас в 61-м и переизданной накануне рождения автора – в 71-м. Это было творение доктора Бенджамина Спока, борца против ядерного оружия, войны во Вьетнаме, за легализацию марихуаны и абортов, и, кажется, помогавшего призывникам откосить армию. Книга называлась «Ребенок и уход за ним».
«Я боюсь причинить ему боль, если я буду обращаться с ним неправильно», – так часто говорят молодые матери. Не волнуйтесь! Ваш ребенок гораздо крепче, чем вам кажется.
Надо помнить, что вы давали ребенку свеклу, чтобы не волноваться зря и не думать, что это кровь.
Я думаю, в первые 2 месяца можно совершенно не волноваться относительно избалованности.
Пусть вас не волнует, если кукла испачкается или истреплется. Помойте, почистите ее, но не выбрасывайте из гигиенических соображений.
Если ваш ребенок проглотил какой-нибудь гладкий предмет типа сливовой косточки или пуговицы, вы можете не волноваться.
И т. д.
Оттуда, с солнечной стороны улицы, ворона косит глазом на стружки, а доктор – друг симулянтов – как подмигивал родителям, так подмигивает теперь и детям: да, пусть жизнь стократ пуста, бездумна и бездонна, вы-то совсем не беспомощны! Не забывайте, откуда вы родом!
Было такое выражение: «Будь спок». Не к той ли самой книге оно восходит: если что, не волнуйтесь. Пусть вы доверяете только своей тревоге, только не давайте ей сковать вас. Самое первое, самое главное: возьмите себя в руки. Попытайтесь осмыслить. А потом можно и действовать.
Эпоха та
Тревога[1]
Вдруг он принялся ходить из угла в угол, и это было его удачей: он двигался по комнате в точности как арестант, ему удалось подобрать верную аналогию к своему положению. <…> Он расхаживал взад-вперед по комнате и ждал, что произойдет с ним в итоге этого самостоятельного поступка.
Из угла комнаты, оклеенной красными обоями, кое-где порванными, на нас идет человек. Фигура подростка. В серых брюках и белоснежной рубашке, с закатанными рукавами. Тень от его спины и отогнутого большого пальца – рука у рта, с сигаретой – растет у него за спиной. В чуть сощуренных глазах – вопрос, ирония, пожалуй, боль, но прежде всего – сосредоточенность. На том, что он видит перед собой? Ни в коем случае. На том, что внутри, – не похоже. Нам этого не разгадать. Возможно, единственная цветная фотография Рида Грачева. Конец шестидесятых. Одна из последних фотографий, где мы видим его таким, каким знали его друзья. Скоро Рид Грачев перестанет писать прозу, эссе и стихи. Останутся только два рассказа, над которыми он работал десятилетиями, диалоги с лечащим врачом, протесты, заявления, открытые письма. И рисунки. Кажется, Рид Грачев отлично знал тогда, что с ним происходит. Он стремился оставить четкое свидетельство, осмыслить то, что же все-таки с ним произошло, в чем причина – в общем ходе вещей или в его собственных поступках.
«Помидоры», один из самых ранних рассказов, 1959 год:
Затем она стала подбрасывать помидор в воздух. Алый шарик взлетал над прилавком, блестя глянцевитым боком. Тень прятала женщину. Казалось, помидор подпрыгивает сам.
…Мужчина вылез из машины и подошел к женщине. Она что-то сказала ему…Он ударил ее по лицу. Женщина отступила, стараясь не наклонить ведро. Тогда он ударил ее еще раз. Женщина поскользнулась и упала. В руке она держала ручку ведра. Она не выпустила ее при падении… Помидоры покатились по колее. Из рыжей воды торчали их алые макушки. Женщина встала на колени в грязь и стала собирать помидоры. Она вытирала их подолом, обнажая розовую некрасивую ногу, и осторожно опускала в ведро. Мужчина стоял сзади и смотрел на нее.
«Облако». Поранив руку, рабочий впервые начинает смотреть в небо:
Иван пошел по тротуару из досок к своему дому. Теперь он увидел солнце слева. Оно было красное, плоское и заметно опускалось за лес на горе. Ивану показалось, что солнце вертится быстро-быстро, и там, где к нему прикоснулся резец, вьется тонкая красная стружка. Потом Иван увидел, что солнце зажато в патроне, в черном патроне, но догадался, что это у него темнеет в глазах.
«Адамчик». Цех мебельного завода:
Пружины качались, немо разевали рты. Низенькие, высокие, кривые, прямые пружины уползали в красных вспышках сигнальной лампы, и Адамчик набрасывался на следующие <…> Белая стрелка на щите двигалась чуточку быстрее, и чуть чаще вспыхивали красные сигнальные лампы <…> В этом расстоянии умещалось тридцать матрасных рамок и много женщин вдоль конвейера, сигнальный щит с белой стрелкой и тревожные вспышки сигнальных ламп.
«Снабсбыт». Кошмар командировочного:
Снабсбыт ехидно засмеялся и начал краснеть. «Только не краснейте, – сказал Мухин, – а то я…» Стало темно, только светилась сигарета Снабсбыта. Мухин заметил, как из-за самого Снабсбыта выходят еще двое с сигаретами в губах, и сказал, тяжело двигая языком: «Часы у меня уже сняли тот раз… у «Великана»… Разве не помните?» Его ударило в лоб, наискось.
Письма Рида Грачева рубежа шестидесятых-семидесятых годов. Письма друзьям, страшные, ультимативные: ты борешься вместе со мной или участвуешь в круговой поруке против меня, против жизни, против человечности:
Я не сплю уже около 600 суток, давая повод лечить меня от бессонницы или же от психических расстройств, вызванных ею. Но, страдая от невыспанности, от усталости, от физического недомогания, я не страдаю морально, не страдаю духовно, не повредился ни в рассудке, ни в чувствах. И не потому, конечно, что я не сплю. Я не сплю оттого, что здравому человеку свойственно в подобной обстановке бодрствовать даже и в ущерб здоровью, а обстановка эта заключается в том, что среда наша с тобой общая – а она не бескультурна, скорее, наоборот, культурна – состоит из бессовестных людей.
Жестокие слова. А по краям – совсем не суровые, печальные рожицы, наверное, маленькие автопортреты, нарисованные алым и черным фломастерами.
Красные обои. Красный фон.
Да, здесь идет речь лишь о красном цвете, не о судьбе, не о так называемом художественном мире, не об эволюции, не о философских взглядах, не о литературном контексте, не об эпохе. Этот красный цвет тревожит, увлекает – куда? О чем предупреждает? Или это просто случайная выборка? К внутреннему миру Рида Грачева, к его сочинениям подходить очень страшно. В одном из эссе он рассказывает об авторе, принесшем в издательство рукопись.
«– А вы от кого?» – осведомились там. «Как от кого? Я от себя». – «А мы от себя не принимаем». Рукопись, однако, прочли, она понравилась, но напечатать ее так и не удалось, несмотря на заступничество многих заметных в культурелюдей. Автор перестал писать и умер. История прямо из Хармса. Но в чем же дело?
Разумеется, если бы все заступники этого литератора отстаивали именно тот угол зрения, с которым он писал, если бы они потрудились его осознать, никакие секретарши и прочие камни преткновения перед этим бы не устояли. Но они отстаивали его творчество не в его основе, а поскольку оно им нравилось. Неубедительность аргументов защитников привела к гибели художника.
Вот с этого страха мы и начинаем. Понять не то, что нам и так понятно, близко в Риде Грачеве, а то, что он хотел сказать миру «от себя» – вот нелегкая задача составителей книги. В те же годы, когда писал Рид Грачев, Юлий Даниэль в письмах из лагеря непрестанно молил своих корреспондентов: «Не выдумывайте меня!».
С чем шел к людям Рид Грачев? Именно из осмотрительности, чтобы не выдумывать писателя, начнем с того, что просто бросается в глаза, с чем можно быть простым зрителем, читателем. С цвета – просто цвета.
«Помидоры» – это немой цветной фильм. Сюжет его примитивен: муж привозит на «Москвиче» жену, та садится в ларек и пытается продать помидоры. Они прекрасны – просто золотые яблоки. Но находится всего один покупатель. Жена аккуратно складывает помидоры в пирамидки, играет с ними. Так продолжается несколько дней, наконец приезжает муж, пьет водку, бьет женщину, и они уезжают. Этот рассказ едва ли не самый таинственный у Рида Грачева. Эстетства тут никакого нет, слишком напряженно и драматично. Но и конфликт вроде бы ни нравственный, ни социальный не занимает автора. Возвращаясь год от года к этому рассказу, все яснее понимаешь: ужас просто в том, что никто из людей здесь никому не нужен. Не нужны и золотые плоды. Муж бьет жену просто так. Все случайно. В этом немом мире нет никаких связей между людьми и природой. И чем прекраснее плоды, тем очевиднее это тоскливейшее, почти платоновское одиночество всего на Земле. Это не концепция, иллюстрируемая рассказом, не «то, что хотел сказать автор», во всяком случае, отделить переживание красного цвета от тревоги за мир людей невозможно.
Но не будем наивны. Рид Грачев и в 59-м и позже был человеком мысли. Больше, чем его сверстники, он испытывал жажду осмысления. Об этом говорят его философские эссе. Есть, правда, представления о так называемых этапах творчества: сначала рассказы и стихи (1958–1965), потом переводы (1964–1966), потом эссе (1965–1969). Но работа с архивом писателя говорит, что все было не совсем так. Большинство рассказов и эссе писались одновременно. Работе же над переводами (Камю – «Миф о Сизифе», Сент-Экзюпери – «Южный почтовый», «Письмо заложнику») предшествовало долгое и внимательное чтение. Так что разделить творчество Рида Грачева на «до-рефлексивный» и «рефлексивный» периоды невозможно. Рассказы и эссе, «творчество и понимание», как обозначил их сам писатель, были не этапами, а нераздельными составляющими его пути. Как же все это соединить, не опошлив рассказы моралью, а эссе – желанием автора разъяснить содержание рассказов?
В «Облаке» красное солнце – зловещий и одновременно радостный образ пробудившегося сознания. Радостный – потому что Иванов очнулся от автоматизма своего существования, стал жить – чувствовать (пока еще не думать), как живой, подлинный человек. Зловещий – потому что его сочтут безумцем. Да может быть, и не без оснований, слишком уж много сразу ворвалось в его примитивное сознание, и еще неизвестно, сумеет ли оно справиться с этим.
В «Снабсбыте» краснеющее лицо директора и фантастического Снабсбыта, огоньки сигарет – воплощениестрахов героя, от которых ему предстоит избавиться на пути к вочеловечению.
В «Адамчике» вместе с красными лампами в мир едва родившегося для жизни среди людей, доверчивого к миру, постоянно всему удивляющегося человека, клубка нежности и агрессии, – приходит время. Это не внутреннее время души, а время конвейера, пустое и механическое. Время человечности, событийности еще не настало, пока – лишь мертвящий белый циферблат и беспокойные, требовательные лампы. Против такого времени бунтует юный автобиографический герой в рассказе «В пятьдесят втором году». Его злой воспитатель Темп (говорящее имя!) дарит ему карманные часы, но герой отказывается их носить, вешает их на окно в комнате дарителя, а потом роняет и разбивает, вызвав бешенство Темпа. А в «Буднях Логинова» опустошенному, при жизни почти умершему герою снится сон с десятками остановившихся наручных часов, будто бы взывающих к его жалости. Душа пробуждается, но шанс подлинного времени уже упущен.
Разрушение всех связей между людьми и изувеченное время («Я вспомнил: «Thetimeisoutofjoint», – распалась связь времен, свихнулось время, время вышло из сустава, оно вывихнуто») – едва ли не главные темы эссе Рида Грачева: «В момент, когда я пишу эти заметки, более, чем когда-либо я чувствую, что наступила полная эмоциональная смерть мира… Безлюбие – вот то состояние, которое мы теперь достигли».
Утрачено сознание. Утрата сознания – и отдельным человеком, и обществом равнозначна остановке времени. Остановилось время, наступило безвременье. То, что в плане индивидуальном проявляется как безлюбие, на уровне общества оказывается безвременьем. Безлюбие и безвременье – вот практические результаты двух третей двадцатого столетия.
(«Реальность человека»)
Кажется, красные всполохи в прозе Рида Грачева – тоже об этом.
Ну и что? Установили параллель между прозой и публицистикой – подумаешь! Но дело в том, что это не параллель. Это нераздельное единство – пусть здесь лишь на одном примере.
Но вот еще один. В эссе «Значащее отсутствие» писатель говорит о тех вещах, которых уже нет (от выбитого зуба до убитого философа), – лишь на памяти о них держится современное общество. Для Рида Грачева сознание «значащего отсутствия»– это совесть. Потеряв ее, точнее, память о ней, человечество погибнет сначала интеллектуально, а потом физически.
Мы убрали последние мишени, и луг стал таким, каким он был сто лет назад.
Луг, на котором пасутся коровы.
Луг, над которым жаворонки поют по утрам.
Луг, под которым буравят землю кроты.
Нам хотелось так думать об этом луге. Но все мы знали, что это не так. Потому что луг пересекали заросшие травой канавы. Раньше здесь было поле. На нем рос ячмень, а по канавам бежала вода. Потом канавы заросли травой, и на поле появились ямы.
…Может быть, от первого взрыва загорелся ячмень. И когда люди бежали по полю, под их ногами горели колосья. Люди падали на горячую землю.
Потом, когда взорвался последний снаряд, стали стрелять из винтовок и пулеметов. По земле стлался дым, и пахло паленой соломой. Люди падали и не вставали больше.
Одному из них пуля попала в грудь. Он бежал и не мог остановиться. Он шагнул еще раз. Вторая пуля ударила его. Она пробила левый карман гимнастерки. Но солдат бежал, он не мог остановиться и сделал еще один шаг. И тогда его ударила третья пуля. Она летела сбоку и пробила его каску. Она ударила его в лоб, и тогда он упал.
И стало тихо, так же тихо, как было вечером последнего дня лагерных сборов.
(«Колокольчики»).
Что выросло здесь из чего: нравственное переживание из поэтического, философское из нравственного? Редко удается проследить эти пути, но почти каждый образ у Рида Грачева, если рассматривать его не отдельно, а в общем миросозерцании писателя, имеет будто бы три слоя: незамутненный, внимательный взгляд на мир – голос осмысляющей совести – рациональное осмысление проблемы. О своем творчестве Рид Грачев говорил по-разному: «Я записываю ряд своих впечатлений – и больше ничего (звукоряд… гармошка… шарманка?) – Я шарманщик!». Или: «Я обращаюсь к человеческой совести каждого причастного к литературному делу человека: речь идет не о пустяках». «– Для меня существует моя совесть, – ответил я, – и я жив, пока живет моя совесть». Ага! – сказали тут молодые писатели шестидесятых, окружавшие его и преклонявшиеся перед его талантом, – ты начинаешь чего-то требовать от нас. Требовать осмысления. Требовать нравственного суда. Требовать современности. Но не получается ли, что требования совести – просто модернизированный вариант «народности и партийности» в литературе? Известна полемика между Ридом Грачевым и Андреем Битовым. Битов писал в «Записках из-за угла» (глава «Открытое письмо писателю Р.Г. из Ленинграда»): «Мы [т. е. Р.Г. и его единомышленники. – Б.Р.], говорит он, вперед ушли, мы литературу мысли создаем, новая система координат у нас, информация-фуяция, а у тебя система координат старая, ты всечувствишки да ощущеньица, ты мертвый уже». Всей душой хочется согласиться с Битовым, который отстаивает право писателя на полную свободу и независимость, даже независимость от нового времени и от своих ближайших единомышленников. «И догонять я вас не хочу. А тем более дышать вам в затылок. Я сам себе в затылок дышу, и сам себе на пятки наступаю, сам за собой гонюсь и сам от себя то отстаю, то нагоняю. Вот ведь загадка какая».
Интересно, что похожий спор, также в середине шестидесятых, происходил между Бродским и Аронзоном:
Бродский: Стихи должны исправлять поступки людей.
Аронзон: Нет, они должны в грации стиха передавать грацию мира, безотносительно к поступкам людей.
Все дело не в том, что Рид Грачев и Бродский требовали служения народу, а в том, что они не мыслили своего творчества без рациональной составляющей, а осмысляющим началом, во всяком случае, для Рида Грачева уж точно, была совесть. Он не видел возможности противопоставить художественное и нравственное, так называемое этическое и так называемое эстетическое, главное и случайное, потому что писал всегда только о главном и побуждаемый только совестью. Поэзия случайного, мимолетного, обращенного не к людям, а к себе или к Богу была абсолютно чужда ему. По-другому он просто не мог. В этом уникальность его писательского дара. И он не понимал, как могут другие писать иначе. Из этого рождалась отчужденность, которая становилась все глуше. К тому времени, когда Рид Грачев почти перестал писать, у него было немного читателей, совсем не было единомышленников, зато было множество сочувствующих. Это не могло не переживаться им как катастрофа. В конце шестидесятых катастрофа пришла и с другой стороны, но об этом позже.
Ни у раннего Рида Грачева, ни у позднего дистанции между внутренним миром и миром творчества почти не было. Каким же был этот человек? С фотографий начала шестидесятых на нас смотрит подросток, а то и ребенок, ему больше двенадцати-то и не дашь. Открытый, полный надежд, веселый и отчасти даже стыдливый взгляд, безоружное, удивленное лицо. Рид Грачев, несмотря на свой горький жизненный опыт, на непрерывную, мучительную работу мысли, на редкую по тем временам образованность (мало кто из его сверстников свободно читал по-французски), умел удивляться. В этом он был похож на своего героя Адамчика, постоянно повторявшего: «Ничего не понимаю». Осознавая, может быть, лучше других, ужас безлюбия и безвременья, среди которых ему приходилось жить, он не озлобился. «Вообще меня любят проблемы, они хотят, чтобы я их решал. И я решал их, одну за другой, более или менее успешно». Вот он рассматривает себя в зеркале:
Лицо как лицо. Не то чтобы красивое, но не уродливое. Скорее молодое, чем старое. Правда, его старят две морщины, пролегшие над бровями еще тогда, когда мне было пятнадцать лет. Эти морщины – следы перенесенных в детстве недоумений: жестокость и зло всегда меня удивляли, и, с тех пор, как я стал самостоятельно думать, начал морщить лоб. Вероятно, я думал очень уж неумело: обычно у мыслящих людей появляются поперечные морщины, сходящиеся у переносицы, а у меня брови ползли вверх – я не думал, а недоумевал.
Рид Грачев пришел из своего нелегкого детдомовского детства с верой в людей, в разум, в совесть, с надеждой на то, что мир этот можно остановить на краю обрыва общим нравственным усилием. Зло вызывало в нем лишь недоумение. Это мир ранних шестидесятых, мир Сент-Экзюпери, во многом открытого русскому читателю благодаря Риду Грачеву, мир «От окраины к центру» и «Рождественского романса», мир прекрасный, нежный, ранимый и мужественный. Такими были и ранние рассказы.
Сюжет большинства из них – пробуждение личности. В одних оно таинственно-прекрасно: человек может проснуться в человеке, если во время ночных учений найти светлячка, а после стрельбы по мишеням сорвать колокольчики и приладить их к пилотке; в других (автобиографические «Дети без отцов») – горько и страшно. Детдомовцы встречаются с мертвящим миром взрослых («Подозрение», «Победа», «Нет голоса») или с созданным по его образцу такому же бездушному детскому социуму («Одно лето», «Ничей брат»). Но они не озлобляются. Так же, как сам автор, при виде зла они лишь удивленно вскидывают брови. За удивлением идет осмысление. За осмыслением – поступок. Такребенок вырастает в подлинного человека. Герой «Победы» сперва поднимает бунт против мира взрослых, да по сути и всего мироздания, услышав, как любимая воспитательница назвала его «ненормальным». Но он идет дальше: ради ее любви он готов отказаться от разума, от своей личности: «Пусть вы такая. Я никого не могу слушаться. Я буду слушаться только вас. Пусть в школе будут одни мальчики. Я буду мыть вам пол. Я буду ходить в магазин. Буду варить обед и учиться на одни пятерки. Возьмите меня домой. Возьмите, а?». Но следует отказ.
– Ладно, Ирина Петровна, – сказал мальчик. – Это я так.
Понарошке. Я же понимаю. Ладно.
Мальчик зажмурил глаза.
Земля была никакая.
Небо было никакое.
Никакая была картофельная шелуха.
Рушится мир. Точнее, вместе с цветом он теряет смысл. Но через бунт и отказ от себя несмышленыш делается мужчиной.
Возможен и другой выход, страшнее, чем в «Победе». Это отказ от поступка, влекущий за собой катастрофу, гибель человека в человеке и гибель надежды у детской стаи превратиться в людское сообщество. Так безнадежно кончается, собственно, всего один рассказ у Рида Грачева – «Одно лето». Принеся стае в жертву свою любовь, герой убегает играть с товарищами:
Теплая подушка, мягкая. Плотная. И там, где капают горькие Наткины слезы, наволочка становится холодной и твердой… А Сенька убежал с мальчишками далеко-далеко по дороге, к пыльным зарослям лопухов, к пустынному выгону, покрытому короткой травой…
Это почти Платонов.
«Зуб болит» был воспринят современниками как почти биологическое указание на то, что в нашем королевстве что-то прогнило. У мальчика, едущего зайцем в поезде, ноет, а порой невыносимо болит зуб. Он болит не просто так, а только когда мальчик вспоминает несправедливости и унижения, которым он подвергся. Возвращающийся со службы солдат внимательно его выслушивает, предлагает помощь, но мальчик отказывается. Поезд приходит на вокзал, и герои расходятся – мальчик в бездомную неизвестность, солдат – к невесте, в домашнее тепло. Да, «зуб болит»– образ предельного, неостановимого страдания, в котором не различить духовное и физическое. Да, конечно, этот зуб – симптом зверских законов нашей жизни, убивающей человека, опять же духовно и физически. Но самое важное все-таки не это, а финал. Вот солдатик весело шагает от вокзала:
В лад шагам и свежему снегу мысли его быстры и свежи. Мысли согревают его, мысли о будущем, о далеком и о близком. Но всю дорогу от Измайловского проспекта до Мойки ощущает он смутное беспокойство: ему кажется, что сбилась портянка в правом сапоге, сбилась и давит на пальцы. Он останавливается, шевелит ногой в сапоге. Нет, все в порядке, и идет дальше, домой.
В этом чувстве тревоги, выраженном в ощущении сбившейся портянки, чувстве, перешедшем от мальчика, от его боли, к солдату – величайшая надежда, сколь бы ничтожной она ни казалась. Надежда на то, что человек человеку не бревно, что не все еще в мире людей потеряно. Не только возможны, а даже естественны сострадание и любовь, а значит, не все потеряно.
Но как же сопрягается все это благодушие с другим образом Рида Грачева – насмешливым и агрессивным, острым нравственным и социальным мыслителем, беспощадным и бесстрашным моралистом, ни себя, ни других не жалевшим? Ведь и таким он тоже был. И такими были его эссе.
Такой Рид Грачев сделал в серии своих философских заметок об Адаме этого персонажа средоточием самых опасных тенденций современного, да и древнего общества. Адам – хозяин земли, а значит, и раб. Адам сугубо буржуазен, скрытен, жесток. Адам никого не любит и живет только в перспективе собственной смерти. «А раз мы все умрем, то все позволено».
И одновременно Адамчик – герой самой нежной его повести, только что родившийся человек, через испытания идущий к человечности. Надежда на эту человечность проницает весь мир вокруг:
На улице Дзержинского лежит туман. В тумане едет автобус. В автобусе качается от стены к стене большое сонное тело.
Тело дремлет. Его душа потягивается, легонько шевелится под мокрым потолком. Невидимая, там переливается неясная грусть. Прозрачная нежность слабыми толчками бьется в оконные стекла.
И доброе заспанное лицо, большое, общее, хранит на себе следы ночной уверенности в том, что тело едино, что у него одна голова, один разум и одно сердце.
Адамчик уверенно расталкивает ватные бока, пробираясь к выходу.
Только что мы говорили о единстве всего написанного Ридом Грачевым. Как же быть с двумя его Адамами? Звучит слишком просто, но похоже, что это так: ужас перед творящимся в мире был для писателя неотделим от надежды. Попадая из сферы трезвой и рациональной оценки в сферу свободного творчества, Адам преображается, и нам открывается иная, прекрасная его сторона. Но память об Адаме-изверге сохраняется в разбросанных по всей повести тревожных эпизодах и образах: от красных ламп над конвейером до разбитых окон. В сущности, Адамчик еще не совсем родился: человеческое борется в нем с животно-агрессивным.
Есть еще не родившиеся, а есть уже мертвые. Люди, завороженные, опустошенные зловещим и бессмысленным спектаклем смерти. Ни одного слова сочувствия не находит Рид Грачев ни для «полуличности» Эйнштейна, ни для Кафки: «в воображении автора разыгрывается неумолимая логика уничтожения беззащитного слабого человечка механической злой силой; при этом он старательно затемняет единственную освобождающую постановку вопроса: не хочешь быть уничтоженным механической силой, не играй с нею, не играй вообще – живи!»
Это в эссе. Что же в рассказах? Вот образ смерти:
Из низких первых этажей раздавался тяжелый, мертвый храп. Из черных открытых окон, из духоты, из вечности. Кто-то показал дорогу к вокзалу. Там спали люди.
Люди спали на полу, на скамьях, на подоконниках. Спали сидя, спали и стоя. Спали на ступеньках – я не знал тогда, отчего у них такие белые лица, было как раз не душно почему-то, кажется, открытые окна, но ведь и снаружи была духота, но люди спали мертвым сном, не чувствуя себя и жестких изголовий, спали обнявшись, прижавшись друг к другу и отдельно, спали честно и глубоко. Я вернулся на улицу, долго плутал где-то, ни одно такси не останавливалось, и уже под утро я сел на обочине какого-то шоссе и заплакал странно, горько, как не плакалось с незапамятных времен, только совсем тихо, неслышно.
Осуждение превращается у Рида Грачева в глубокое сострадание.
Где-то здесь, во всех этих мгновенных переходах характера, внешности, творчества кроется, очевидно, загадка личности этого человека.
Нежность, любовь, светлячки, утренний автобус, «глубоко и честно» спящие на вокзале мертвецы, мужество перед лицом бессмыслицы и смерти, «Присутствие духа», как было названо эссе о Сент-Экзюпери, яростная полемика, нравственныйанализ социальных процессов; проблемы, которые «хотят, чтобы их решали»; морщины удивления на лбу, бунт против неправедного мира – все это было до поры до времени. В эссе о Поле Верлене Рид Грачев пишет: «Поль Верлен оставил нам историю своей души<…> Два коротких года Верлен живет своей собственной жизнью, и эти два года обессмертили его имя». Это как будто о себе, только автору этих строк было дано несколько больше – около десятилетия.
«Если я и летал, то меня благополучно сбили, и если дышал, то ловко задушили. Удивляться нечему – ничто меня не хранило, а я не думал о безопасности… Я прожил – по интенсивности – огромную жизнь и скорблю лишь о том, что жизнь – кругом – полностью стерилизована, бесхарактерна, безрисунчата, не нова. Я же, наверное, просто задохнулся, а потом захлебнулся. Ну и потонул. Пишу со дна.
Ну и привет, привет!» – писал Рид Грачев Л. Пантелееву, единственному человеку, с которым у него сохранились теплые отношения, в конце шестидесятых.
Что же произошло? Можно просто отмахнуться – сошел с ума, вот и все! Да, конечно, трагическая судьба, но и против медицинских заключений, написанных, кстати, дружественными к Риду Грачеву врачами, возразить нечего.
Проблема в том, что он, кажется, отлично понимал, что с ним происходит, а рассказ об этом – «Некоторое время» – переделывал вплоть до девяностых годов.
В своих часто незаконченных, почти всех – неопубликованных вещах того короткого периода он пытался оставить ясные следы происходившего. Но все названия этих вещей загадочны: «Промежуток», «Некоторое время», «Наследство», «Переживание», «Оскорбление», «Черная работа»…
Мы помним, что Рида Грачева «любили проблемы… И я решал их, одну за другой, более или менее успешно, – здесь пора продолжить цитату, – пока не натолкнулся вот на ту самую проблему, о которой здесь пойдет речь.
Если бы эту проблему можно было сформулировать в нескольких словах, не было бы и этого рассказа. Я и сам до сих пор не знаю, в чем дело, только догадываюсь…»Определение происходящему Рид Грачевнашел в другом рассказе, говоря о себе в третьем лице: «Это было горе. Просто горе, и все. Он не мог пережить это горе, не умел, потому что оно застало его врасплох и потому что он не мог его понять». Горе не с людьми вокруг, не с миром, не с цивилизацией, а именно с тобой. Больше ни с кем.
Вот живет человек, добивается в отрочестве независимости, мыслит, читает, болеет, поправляется, любит, осмысляет жизнь, собирает вокруг себя друзей, получает признание среди сверстников и старших, меняет комнаты и квартиры, женится, пишет фельетоны в газету, рассказы, стихи, эссе; долго не печатают, единственная книга выходит с опозданием в несколько лет и безобразно сокращенная, его дважды избивают дружинники, – конечно, все должно быть не так, жизнь эта не самая складная, не самая счастливая, но это жизнь. И вдруг стоп. Не осталось ничего, люди шарахаются от него, помощи прийти неоткуда, потому что если бы эта помощь была возможна, она бы уже пришла, – так он считает.
Впервые, вероятно, в жизни Рид Грачев осознает себя не человеком поступка, а игрушкой в чьих-то руках: им играют невидимки, и это дурной спектакль. Или даже не невидимки, а один, с заглавной, Невидимый. И его противник – Отец.
Стрельцову казалось, что Отец казнил его вслепую, случайно, и что он хотел казнить Невидимого, но Невидимый подставил ему Стрельцова, избрал его орудием своей борьбы против Отца. Он оказался даже не орудием, а полем борьбы и, оказавшись однажды посредником между двумя невидимками, так и застрял в этом странном и удивительном положении.
Скажите, безумие? А как же навязший в зубах Достоевский: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»? Только для Рида Грачева это все равно: главное, что его Я теперь ему не принадлежит. И совсем неважно, что от этого один шаг до экзистенциализма, и Рид Грачев этот шаг делает: Невидимый и Отец – одно и то же. Он детально описал и вопреки всему осмыслил свою катастрофу. Поэтому, как это ни страшно, мы не можем мыслить теперь целиком его жизнь и то, что он писал, без этой катастрофы, она подобна «арзамасскому ужасу» Льва Толстого и казни Достоевского. Только они оправились от этого, а Рид Грачев – нет.
В эссе конца шестидесятых, «Эстетика факта у Антониони», он проговаривает, иногда с трудом и болью (это чувствуется по намеренной сухости рассуждений), свой новый взгляд на искусство, которому и остается верен до конца жизни. Важнейшая мысль здесь – это бунт против всякой художественности. Выдумке, красивости, романтике, правилам искусства не место в новом кино. Единственная существенная и не провравшаяся вещь – это факт. Так построены его поздние рассказы. На самом деле, даже не рассказы, а скорее рассуждения. Эстетика факта стирает у Рида Грачева границу между выдуманным и документальным. С 1968 по 1995 он редактирует свое последнее произведение – «Некоторое время», постепенно «отжимая» из него все трогательное, увлекательное, детективное, любовное. Должен оставаться только голый факт. А факт, проклюнувшийся среди жизненных событий автора-героя, очевиден: он сходит с ума и понимает это. Он больше себе не хозяин, так же, как и герои «Крика» Антониони, он лишь исполнитель неведомой воли, и человеческие отношения, любовь, ненависть – то, в чем он раньше видел единственную надежду на спасение, – больше не актуальны: происходящее – «только одно из подготовительных демаршей какой-то, космической по масштабу, силы, втайне от людей готовящей какие-то чудовищные метаморфозы. Отношений нет и не может быть».
И страшнее, безысходнее горя он не знал всю свою жизнь и больше не узнает. За неизмеримое «некоторое время» человек, не заметив, теряет себя навсегда. Удивительно, но посреди всего этого ужаса автор сохраняет не только ясность взгляда, но и чувство юмора. Вот сосед-шофер уже больше не человек, а демон, участник разыгрываемого зловещего спектакля, и тут автор поправляет себя: «О, какой там демон – так, маленький робот на побегушках, озабоченный и усталый». «Некоторое время» кончается горьким, самоироничным и в конечном счете бесстрашным утверждением последнего остатка свободы: «Но все-таки здесь еще можно было до вечера лежать, глядя в потолок. Можно было отвернуться к стене. Можно было накрыть голову подушкой и попытаться вздремнуть. Я ведь сегодня не выспался…». Итог? Нет, не совсем.
Не разобравшись, почему это случилось именно с ним, Рид Грачев не бросил бы своего горя. Ни жестоких избиений, ни болезней он не упоминает в своих поздних произведениях. Он все время возвращается к мысли, что он как-то «не поберегся». «Другие берегутся, а я не поберегся». Сила, обрушившаяся на него, – темная и слепая, как та самая электричка в Колпино, из под которой он инстинктивно выхватил пьяного. «Надо же было этому идиоту выдернуть его из-под колес, но уж так я устроен был, что не могу равнодушно видеть скользящего по зеленой поверхности вагона человека, когда поезд только набирает скорость и никто не видит, что он падает под колеса, – никто из тех, кто должен был бы увидеть, как он, пьяный, упал – вот до чего доводит пьянство! – а тут подвернулся этот идиот с картоном для рисования под рукой и взял – и выхватил его за руку, когда и не нужно было, кого и не нужно было, кому и не нужно было. Я, видите ли, не люблю плохой театр. А хорошего давно не видел. Надо же было, а?» – издевается автор над собой.
Выходит так, что не то чтобы спасать не надо было, а что за поступок приходится расплачиваться. Цепь удивление – осмысление – поступок получает еще одно, последнее звено: возмездие. Выходя один на один со злом, человек не может не жертвовать собой. И жертва эта – не просто неприятность, она может стать гибельной. То же самое произошло в блокадном Ленинграде с матерью и бабушкой Рида Грачева:
Говорили, что бабка делила среди детей в квартире свой повышенный партийный паек. Я видел этих детей – потом они отъелись. Ничего особенного – дети как дети, и довольно тупые. Может, и не стоило кормить их собой. Наверняка даже не стоило! И вот однако, когда жизнь сводилась к существованию чуть тепленьких тел, стынущих в ледяных простынях, когда весь мир был съедобен или несъедобен (не знаю, как еще можно было делить тогда мир), они отдавали еду маленьким призракам в квартире, призраки выросли и воплотились (только-то и воплотились!), а мама и бабка признались смерти в том, что не могут больше жить и что этим телам пора остынуть.
То же самое, как виделось Риду Грачеву, произошло каким-то образом и с ним, и спасенный человек на платформе – лишь один из знаков этой катастрофы. «Не пора ли остынуть и этому телу!» – заключает он свои рассуждения.
Зло для Рида Грачева не воплощалось ни в советской системе, ни в буржуазности, ни в войне, ни в Боге, хотя он нашел страшные и меткие слова для них и в рассказах, и в эссе. Зло, погубившее маму и бабушку и теперь добравшееся до него, было безлико. В одном из первых рассказов весть о смерти матери соединилась с впечатлением от погибшего под колесами грузовика мальчика, и герой только и повторяет: «Это машина, машина, машина!» В рассказе конца шестидесятых:
В этот момент с улицы послышался страшный вскрик кошки. Мне представилось, что на поверхности улицы двигалось что-то невидимое и жуткое, и оно налетело на кошку, случайно оказавшуюся в поле этого страха. Вскрик мог значить только одно: кошка исчезла, ее не стало.
Вся жизнь представлялась Риду Грачеву в конечном счете как борьба с этой тупой, механической силой, смертью. И мать брала, в его представлении, на себя «черную работу» борьбы с ней: «она убивала своей волей, своим ясным разумом все темное и непонятное, что встречалось на ее пути». Единственным наследником этой судьбы остался сам Рид Грачев: «во мне с тою же силой работает мамин характер и, столкнувшись однажды с превратностями судьбы, я сам не перестаю совершать ту же самую черную работу, которая погубила мою мать».
Мания величия? Донкихотство? Но зачем тогда все, что писал и говорил друзьям Рид Грачев, – что ж это все, бред сумасшедшего? Читателю приходится делать нелегкий выбор.
Рид Грачев остался во многом закрытым для нас, пусть мы и прочитали, и даже полюбили все написанное его рукой. Что же все-таки главное этот писатель протягивал нам «от себя»? Да, конечно, отличная проза, проникновенная публицистика. Страшная, героическая судьба. Но в чем же основа всего этого? Мне кажется, она в чувстве беспокойства оттого, что в мире, у другого человека, у тебя самого есть неутолимая боль, взывающая к людям:
Но всю дорогу от Измайловского проспекта до Мойки ощущает он смутное беспокойство: ему кажется, что сбилась портянка в правом сапоге, сбилась и давит на пальцы.
В одном из поздних своих писем Рид Грачев поучал: «Доверяй только твоей тревоге. Это последний сигнал, получаемый тобой живым».
Кто принес пожарную лестницу и кто спер стоп-кран?
(Взгляд с двух берегов Ла-Манша)[2]
Мне всегда казалось неуместным траурное убранство нашего театрального зала (речь идет о театре Санкт-Петербургской классической гимназии, руководимом Еленой Вензель). Это детский театр, пусть и школы Бориса Понизовского. Ну зачем, например, черные стены, пол, потолок и занавес в средневековых французских «Фарсах»? Все там так легкомысленно, бесшабашно, да просто уморительно, все цвета радуги! Средневековье-то и было, оказывается, самым веселым временем в истории западной цивилизации. Да и «Баллады», несмотря на естественно мрачноватый тон некоторых из них, были такие свежие, такие задорные! Черный нужен был разве что для контраста, но, по-моему, этот контраст был излишним. Может быть, «Декабристы в Сибири»? Вроде как во глубине сибирских руд. Но тогда черный, как цвет этих самых руд, был более чем наивностью, буквальностью, совершенно не характерной для нашего театра, и это бросалось в глаза. Вот разве что «Сказки братьев Гримм» с сопровождением самых острых мест из «Рамштайн» могли играться в трауре. Да только тогда зал был еще белым, окна – не занавешенными, сохраняя атмосферу бывшего здесь учебно-производственного комбината для парикмахерш: очень удачно в ход пошли тогда бюсты-манекены, оставшиеся нам в наследство. Из спектаклей на Маломпроспекте Петроградской стороны, пожалуй, в черном мог играться «Дом Бернарды Альбы», ведь, по словам Лорки: «В других странах смерть – это все. Она приходит, и занавес падает. В Испании иначе. В Испании он поднимается».
«Жанна»: я не поверил своим глазам! То есть я еще сначала не понимал, зачем все эти лестницы, колпаки (в функциях заткнуть человеку рот, дать человеку рупор, вострубить трубой архангела, задуть ветром и т. д.), вилы, колокола, грязноватые ангельские крылья, зачем все эти довольно тяжеловесные танцы, особенно вальс, который представляет дофин и компания под сладкозвучную скороговорку Жака Бреля. И снова лестницы, лестницы, лестницы. Особенно одна – красная, с крюками… Пожарная, что ли? Я помню, как в середине года, зайдя к режиссеру, Елене Васильевне Вензель, застал ее в радости и недоумении: притащили такую отличную лестницу, куда бы ее в спектакле приставить? Что это все – формалистика? Удушение живой детской игры «работой с предметами», без которых, впрочем, актеры не знали бы, куда девать руки? Ну, и пантомима, тоже в плане занять руки и ноги?
Но оказалось, что нет. На театре представляли суд инквизиции. Помните?
Я видел, как движенья этих губ решают мою судьбу, как эти губы кривятся, как на них шевелятся слова о моей смерти. Я видел, как они складывают слоги моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ни единого звука. В эти мгновения томящего ужаса я все-таки видел и легкое, едва заметное колыханье черного штофа, которым была обита зала.
Потом взгляд мой упал на семь длинных свечей на столе. Сначала они показались мне знаком милосердия, белыми стройными ангелами, которые меня спасут; но тотчас меня охватила смертная тоска, и меня всего пронизало дрожью, как будто я дотронулся до проводов гальванической батареи, ангелы стали пустыми призраками об огненных головах, и я понял, что они мне ничем не помогут.
Не правда ли, близко – если не по духу, то хоть по форме? Тут и наш траурный зал, и белые прожектора по сторонам, и несносно яркий желтый фонарь посередине. Я позволил себе привести такую обширную цитату, потому что не мог же Ануй, когда писал «Жаворонка», легшего в основу нашей постановки, не вспомнить эту историю, то ли изобретенную, то ли пригрезившуюся американскому алкоголику сто с лишним лет до того. А если он об этом и не думал, то Елена Николаевна Грачева, включившая в пьесу протоколы процессов осуждения и реабилитации Жанны Д’Арк, уж точно не могла не подумать о колыхании черного штофа.
Ну хорошо, материальный антураж оставим пока в стороне. Главное-то актеры, по крайней мере, в гимназическом театре. Вообще у нас перед режиссером встает в первую очередь задача внехудожественная: нужно занять толпу шестиклассников (в нее спорадически вклиниваются ученики других классов и выпускники), ведь все хотят играть! И никому не откажешь. Чтобы решить эту задачу не в убыток спектаклю как целому, нужна небывалая изобретательность. Жанну играли 13 девочек, от выпускницы Даши Зуевой, до пятиклассниц. Судили ее 7 мальчиков: тут были и английские интервенты, и епископ Бове, и фискал, и брат Ладвеню, и инквизитор-обвинитель. Пожалуй, следовало бы прибавить палача, роль которого была поделена между двумя актерами. Были и родители Жанны, и святые, являвшиеся Жанне в видениях, и деревенские девушки, и крупные и мелкие полководцы, и целый двор дофина. Без роли не остался никто, и говорю я без всякой иронии, потому что и толпа на сцене была нужна для общего замысла.
В чем же был этот замысел? Как говорится у искусствоведов: о чем спектакль? Вопрос непростой. Тут нужно понять, что задумал режиссер, что испытывали актеры, и, может быть, главное, с какими чувствами смотрели зрители и с какими мыслями уходили. Аплодисменты в конце спектакля (я смотрел в третий, последний день показа) были невероятные, овация. В черный зал внесли букет белых лилий, эмблем дома Валуа, и их тяжелый запах наполнил и без того спертую атмосферу. По лилии досталось чуть ли не каждому актеру, во всяком случае, каждой Жанне. Зрителями в основном были однокашники, учителя и родственники актеров. Значит ли это, что их восторг от спектакля был пристрастным? Что они бы радовались всему, что бы ни увидели? Полагаю, что нет. Зрители были, хоть и в разной степени, погружены в атмосферу спектакля еще с осени, когда начались репетиции. Они знали актеров. Они знали режиссера, постановщика танцев, художников, звукооператора и осветителя (тоже из нашей гимназии). Идя на спектакль, они не только хотели поболеть за своих, они были сами отчасти актерами. Их взгляд был изнутри. И этот взгляд более ценен, чем взгляд случайно забредшего в театр постороннего критика, для которого собственные мысли и наблюдения значат больше, чем вдохновение и труд создававших спектакль.
Я был одним из «внутренних» критиков. С режиссером и автором пьесы я знаком многие годы и видел все их спектакли в гимназии. Несколько Жанн, палач, фискал, брат Ладвеню учатся или учились у меня. Одна из Жанн сидит за первой партой прямо перед учительским столом и мечтает, а палач – за предпоследней, подальше от меня, болтает с другом. Святая Маргарита и королева Мария Анжуйская в одном лице – подруга и воспитанница моей сестры. Звукооператор и осветитель прогуляли под предлогом подготовки к спектаклю не один урок. Со многими другими я знаком более поверхностно, но раскланиваемся при встрече. Именно поэтому смею предположить, что в моем суждении о постановке не будет высокомерия.
Напомню, что рамкой всего спектакля служит процесс, на котором Жанну приговаривают к сожжению. Поэтому начну с обвинителей и судей. Два англичанина (Влад Брусокас, Михаил Цукерман) в безукоризненных фраках и с астрами в петлицах постоянно и демонстративно поглядывают на наручные часы. Они тут хозяева. Они не вмешиваются в работу инквизиторов, а просто периодически напоминают о том, что пора бы уже закругляться. Они с подчеркнутым уважением относятся к судьям, позволяют задавать вопросы, хотя, с их английской спесью и, главное, здравым смыслом (постоянно вставляемые афоризмы наподобие God is for the English или Triple Gin), не понимают, зачем вся эта болтовня, когда нужно просто сжечь девку. Они и зла-то на нее не держат, им вообще такие барышни, хорошо держащиеся в седле, нравятся, и при иных обстоятельствах они с удовольствием поохотились с бы с нею на лис. Но что делать, политический момент требует, чтобы ее казнили, причем побыстрее. Образ изящного, почти балетного, тупого, по-детски наивного и самодовольного цинизма получился незабываемый. Персонажи самые что ни на есть современные: «Запомните, мессир епископ, пропаганда требует упрощений. Важно сказать нечто очень грубое и многократно повторять сказанное – так создается истина. Заметьте, я высказываю вам новую идею, но уверен— будущее за ней… Для меня важно одно: превратить вашу деву в нуль, в ничто… Кем бы ни была она на самом деле. А кто она есть в действительности – это в глазах правительства его величества не имеет ровно никакого значения».
Братья Каганеры играют инквизитора-судью и инквизитора-обвинителя. Тот, что помладше, Юра, епископ Бове, коротенький (его видно, только когда вскарабкивается на лестницу), с портфелем в руке, будто только что вышел то ли из Носова, то ли из Драгунского. Он всегда мягкий, доброжелательный, говорит с Жанной ласково, не поддается напору англичан и ведет процесс по всем юридическим правилам. Воплощение старой, благородной, законной, совестливой Европы. И, разумеется, именно он в итоге, грустно, разводя руками, отлучает Жанну от церкви и приговаривает к смертной казни. Брат же его, Дмитрий Каганер – длинноволосый, в очках, играет обвинителя. В школе я редко встречаю улыбку обаятельнее, чем его. Так вот он целиком из Ануя, а у Ануя – из Достоевского. Идеолог зла и жестокости. Только у Достоевского Великий инквизитор все же имеет и свою мечту, и свою амбицию, поэтому нет-нет, да робеет и сбивается перед Христом. А Великий инквизитор 1952 года не дрогнет ни перед кем и ни перед чем. Ни веры, ни мечты, ни даже амбиции – только отточенная, как бритва, казуистика беспросветной низости. Зло и жестокость не ради блага человечества, не ради цели, хоть какой-нибудь, пусть и мелкой, и плохонькой, даже не ради собственного благополучия, – а только лишь ради удовольствия властвовать, то есть истязать. Незадолго до Ануя об этом написал Оруэлл. Так эти милейшие братья сыграли доброго и злого следователя: лицемерие и цинизм. И как же Ануй, последователь Мольера, во всем этом разбирался!
«Знаешь этого человека, Жанна? Это главный палач Руана». А я еще знаю, что это (по крайней мере, половина, потому что палача играли два актера) – Антон Феттер, очкастый, немного нелепый, всеми любимый – настоящий Пьер Безухов. Такое ощущение, что актеров-злодеев и актеров-ничтожеств подбирали именно по контрасту. Чем симпатичнее этот человек «в миру», тем безобразнее он на театре. Антон ведь играет еще и отца Жанны, тупого, агрессивного мужлана. Не лучше и мать ее (Софья Ванина, Александра Меньшикова – тоже девчонки добрые и милые), сколько ни защищай она свою дочь, и в речах на суде, и в своих увещеваниях юной Жанны (все мужчины одинаковые, с ними нужно не напрямую, мы его перехитрим, мы, женщины, гораздо умнее и т. п.), она все-таки остается в границах пошлости, совершенно непонятной для визионерки Жанны и не встречающей сочувствия у зрителя.
А что ж друзья Жанны? Дофин, возведенный Жанной на трон (Кирилл Умеренков), – ничтожество, которым управляют бабы, такие же пошлые, как и мать Жанны, – королева (Александра Меньшикова, Анна Епифанцева) и фаворитка (Диана Кардаш). Он не способен и двух слов-то разумно связать, не говоря уже о том, чтобы принять решение или совершить поступок. И ведь именно он, хоть это в спектакле не педалируется, предал свою Жанну.
Один есть хороший человек – военачальник Робер де Бодрикур, он же капитан Лаир, друг Жанны. Его играет Павел Муравник, пожалуй, звезда этого спектакля. Маленький, его герой пузатый, грубый, трогательный, уморительно смешной, но не так, как родители и мучители Жанны. В этом человеке есть то, чего нет во всех, о которых я говорил: он глуп, прост и добр, самовлюблен совершенно по-детски, он открыт жизни! Я бы сравнил его с Журденом из «Мещанина во дворянстве». Когда он является на сцене, исчезает мрачно-мистический колорит действия, появляется реальность. И зрители глубоко благодарны ему, здесь уже не робкие смешки, которые вызывают дофин и его враги-англичане своим идиотизмом, а настоящий, полнокровный мольеровский смех. Да только в конце инквизиторы, заботящиеся о Жанне, сообщают ей, что Лаир уже не воюет за ее короля, а разбойничает и, похоже, мародерствует со своей шайкой в Германии. Поверила ли им Жанна? Скорее всего, она их не поняла. Поверили ли зрители? Не знаю…
А что же тринадцать девочек, что сама Жанна? Убедительна ли она? Вселяет ли она надежду? Представляется ли она святой, как видят ее французы, или помешанной, как ее, в лучшем случае, видят англичане? Рассеивает ли она мрак спектакля? Это для меня остается загадкой. Во многом, потому что Жанн так много, и все они разные. Можно сказать даже, пусть это и прозвучит наивно, сожжешь одну, двоих, троих, десятерых – все равно явится новая, еще более прекрасная, еще более торжествующая, еще более обреченная. Помните, был в своем время нашумевший спектакль о декабристах – «Сто братьев Бестужевых»? Там как раз про это.
Мне кажется правильным, что Жанну играют в основном девочки совсем еще не взрослые. В библиотеке на Зверинской, этажом выше театрального зала, висит портрет Сент-Экзюпери с подобающей надписью: «Les enfants seuls savent ce qu’ils cherchent» («Только дети знают, чего ищут»). И это тоже про Жанну. Нет, разумеется, и англичане с астрами в петлицах знали, чего хотят. Да только хотели этого не они, а их правительство. Вообще все в этой пьесе, кроме Жанны, говорят не от себя, а от имени каких-то авторитетов – политических, религиозных, традиционно-семейных, от интересов моды на дамские шляпки, интересов пожрать и выпить, подраться. Сколько бы Жанн ни было – они одиноки. Мир подл. Дело Жанны гиблое. Память о ней? Уж не в реабилитационном ли процессе – таком неубедительном? А может, в акте о канонизации 1920 года? Не смешите.
Злу может противостоять только святость или безумие. Все эти дети – агнцы на заклание. Добро в этом мире обречено на провал, и в этом залог его победы, мы много раз слышали это. «Чем более слаб и хрупок наш враг, чем он нежнее, чище, чем он невиннее, тем более он опасен», – возглашает у Ануя один из почтенных лордов. Да только вот в нашей пьесе получилось по-другому. Концы разорванной нити не связаны. Ради чего жила Жанна? Стоит ли сотая доля страданий человека, покинутого всеми, и Богом тоже, сжигаемого заживо, божественной благодати? В конце спектакля звучат знаменательные слова из мистерии Шарля Пеги:
Господи! Нам бы хоть краешком глаза увидеть пришествие Царства Твоего! Но ничего, абсолютно ничего. <…> прошли целые века; увы, четырнадцать веков христианства – и ничего, ничего, абсолютно ничего. По просторам земным катится лишь волна неблагодарности и погибели. Господи, Господи, неужто Сын Твой умер понапрасну. Неужто приход Его ничему не послужил. Это страшнее всего, что было раньше. <…> Что-то здесь не так. Быть может, нам нужно что-то новое, что-то, чего мы еще никогда не видели. <…> нужно было бы, Господи, послать нам святую… которая добилась бы успеха, вот что нам было бы нужно…
Этот неокатолик был наивнее Ануя, точнее, стилизовал свою драму под средневековую наивность. Но веры у него, думаю, было не больше, чем у Ануя. Верить очень хотел, только ведь одного желания мало.
Мы упираемся в навязший оскоминой вопрос: раз все это позволяет, значит, какой Он: не всеблагой или не всемогущий? Хулиган или беспросветный троечник? Наш спектакль, несмотря на возвышенные вставки с другого берега Ла-Манша – из «Генриха VI», несмотря на юридическую реабилитацию, на Kyrieeleison, на шиллеровские красоты: «О, что со мною?.. Мой тяжелый панцырь стал легкою крылатою одеждой… Я в облаках… я мчуся быстротечно… Туда… туда!.. Земля ушла из глаз… Минута – скорбь, блаженство – бесконечно», – несмотря на все это, спектакль в финале всем своим строем отвечает: троечник. В детоубийстве нет и никогда не будет никакого высшего, вселенского смысла. Не будет ни возмездия палачам, ни загробной награды жертвам и героям. И человеческая память в веках не в силах что-то изменить. И даже, кажется, искусство. Примирение невозможно. Катарсиса нет.
Теперь понятно это обилие неживых предметов: колпаки, лестницы, колокола, крылья, портфель. И черная ткань. Лестница, предназначенная стать лестницей в небо, была только лестницей на высокий костер. Для положений и переживаний подобного рода Иннокентий Анненский употреблял слово эшафодаж. По-моему, нашему спектаклю оно подошло бы как нельзя лучше.
Стоп, а не пригрезилось ли все это от преизбытка углекислого газа в переполненном зале? Так ли это задумывали авторы спектакля и так ли чувствовали актеры? Может, я ничего не понял? Может, мне не хватило, скажем, чувства юмора? А может, это был просто не самый удачный спектакль, а мне захотелось подвести под него теоретические основания, чтобы оправдать то, что на самом деле просто не понравилось? Смею осторожно предположить, что нет. Еще раз повторю: я видел все спектакли гимназического театра, в нескольких играл. Я вряд ли обманусь в режиссерском замысле. А вот с актерами другое дело. Они – все до единого – играли весело, азартно и, естественно, молодо. Они наслаждались. Ничто из описанных кошмаров их не коснулось. Ничто из изображенной мерзости их не запятнало. И в этом-то контрасте заключалась все. Люди, целиком, как это бывает только в отрочестве и ранней юности, захваченные своим будущим, играли пьесу о том, что будущего нет.
«Еще на западе земное солнце светит, И кровли городов в его лучах горят», – так бы я прокомментировал образ самой запомнившейся мне Жанны. Непонятно? Тогда представьте себе электромагнитную катушку с витками медной проволоки. Вот такие волосы и ресницы были у этой Жанны. И лицо – из всех детских лиц в спектакле самое детское. Вздернутый нос, джинсы, синяя футболка.
Сквозь спектакль проходила одна песня – в самых разных вариантах, но только один раз исполняемая вживую. И пела ее как раз эта Жанна:
- L’homme, l’homme, l’hommearmé,
- L’hommearmé,
- L’hommearmé doibtondoubter, doibtondoubter.
- Onafaitpartoutcrier,
- Quechascunseviengnearmer
- D’unhaubregondefer
- (Вооруженныйчеловек…
- вооруженногочеловекаследуетбояться. Повсюду возглашают,
- что каждый должен одеться в железные доспехи).
Мелодия совсем простая, настолько простая, что становится не по себе. Джинсы, футболка и рыжая курчавая башка в ярком электрическом свете, конечно, не совсем «белое платье пело в луче», но все ж, действительно, как сладок был голос, да и луч, казалось, был тонок! Только пела-то девушка из хора совсем не о том. Тут мы перескакиваем через красивости к последней строке.
Не младенческий плач, явление хоть и трогательное, но какофоническое, а именно голос из хора возвещает о том, что никто не придет назад, – в каждой ноте звенит этот ужас, нависающий над сценой и зрительным залом. Девушка не знает, о чем поет. Но мы-то знаем, знаем, что это за человек: l’hommearmé. Это главный палач Руана. Мир – эшафот, и люди в нем жертвы и палачи. Как будто весь спектакль скрипела рассохшаяся подпорка чего-то огромного и вот – наконец – обрушилось. Да, подмостки с черной тканью, образно выражаясь, рухнули, то есть зрители-родители соединились со своими чадами под сенью лилий. Но, подобно тому, как в рассказе, процитированном в начале этих заметок, неожиданное освобождение узника инквизиции не отменит, не погасит того, что он пережил под спускающимся механическим лезвием, между раскаленных жестяных стен, так и зритель не уйдет со спокойной и радостной душой из гимназического театрального зала.
Меня отговаривали, советовали: не ходи, только расстроишься. Я и сам твердил себе всю жизнь: никогда не возвращайся той же дорогой, а лучше вообще не возвращайся. Живи, как ступенчатая ракета, только в одну сторону. Повторял, как мантру: «Не до смерти ли, нет, мы ее не найдем, не находим. От рожденья на свет ежедневно куда-то уходим». И добросовестно старался уходить. И продолжал бормотать, чуть не перебирая четки: «Остается одно: по земле проходить бестревожно. Невозможно отстать. Обгонять – только это возможно». Не возвращаться к потерянным друзьям, местам, возлюбленным. Не возвращаться никогда. Но чем больше я себя убеждал, тем сильнее тянуло вспять. «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной». Я всегда был чокнут на этом, ничего так не ценил, ни за что так не цеплялся, как за это. Помня с колыбели «На Волге широкой, на стрелке далекой гудками кого-то зовет пароход», я отдал бы, не задумываясь, всю жизнь в настоящем, чтобы попасть в 43-й год, в этот самый Горький, и даже не для того, чтобы узнать романическую историю рождения своей матери, а только чтобы вдохнуть наполненный промышленной гарью воздух этой истории. Не меньше рвался я и в Тарту 66-го, и вовсе не затем, чтобы увидеть знакомство моих родителей в кафе «Tempo», а затем, что их веселье, их солнце казались мне весельем и солнцем олимпийцев рядом с теми жалкими крохами, что достались моему поколению.
Самые сильные порывы в прошлое приходили, когда я слушал музыку. В четырнадцатом ряду партера филармонии под траурный марш из второй симфонии Малера я грезил о каком-то заброшенном трамвайном кольце, где никогда не ступала и не могла ступить моя нога, потому что это было опять же так далеко до моего рождения: «На остановке дом заляпанный, на плащ слезится водосток, а в нем, от глаз прохожих спрятанный, блестящий молнии клинок». Первый раз услышав «Битлов» лет в одиннадцать (намеренно привожу все время цифры, чтобы показать, как это все мне запомнилось и как заворожило), ничего о них не зная, я, как крыса за крысоловом, как Сальери за Глюком, двинулся по спуску у Первой линии, мимо памятника Крузенштерну, мимо буксиров и лесовозов, мимо аршинной надписи «Тихий ход», мимо непонятных фигур на Горном институте, мимо тополей над ржавыми кровлями Адмиралтейских верфей, в ту страну, откуда неслись «эти звуки невзаправдашнего мира». Но невзаправдашний мир казался мне куда реальнее того, в котором я жил. Он пронизывал закатным светом двор, куда смотрели окна нашей квартиры, и смешивался со скрипом карусели и воплями детсадовцев. Много лет спустя, оказавшись в Лондоне, я хоть и насладился «живой стариной», когда в подземном туалете у Вестминстера мне предложили сверточек травы, а «зебру» напротив студии «Эбби роуд» можно было пройти совсем как на обложке соответствующей пластинки, – так вот, хоть все это было в кайф, а все ж я носил темные очки – в знак того, что опоздал на 20 с лишком лет. Мне был нужен Лондон из «Блоу-апа» и «Бенефиса мистера Кайта», а попал я черт знает куда.
«Битлов» любить было невозможно, это то же самое, что любить мизинец собственной левой руки. Они вошли в мой физический состав. Точно так же я никогда не мог полюбить Пушкина.
Но была и любовь. 9-й класс. Я сижу со своей пассией на Стремянной улице, в скверике у поганого кафе «Эльф». У пассии, сколько я помню, всегда болела голова. Она (то есть девушка, а не голова) говорит, что, может быть, чай поможет ей, и предлагает зайти в «один дом» неподалеку. Дом на Невском. Теперь из него, кажется, все вынули и вставили что-то новое, так что о квартире, о комнате, куда мы шли, и памяти не осталось. Чтобы проникнуть туда, нужно зайти во двор и бросить в большое окно второго этажа монетку. Вот, пожалуй, с этого звона монетки о пыльное темное стекло и карниз и следовало бы начинать эту заметку.
Мы сидим в полумраке на матрасе у кафельной печки, а хозяин показывает только что вышедшую в СССР пластинку: на синем фоне длинноволосый и бородатый, в красном мундире, на одной ноге, с флейтой. Глаза хитрые и глумливые. Узнали?
Чуть-чуть постукивают какие-то палочки, звенит гитара, и из полного молчания выплывает мелодия флейты. Не очень-то похожая на мелодию, скорее на шепот или нежное бормотание. По матрасу бегают клопы, поблескивает в углу черный электрический бас. Возникает голос, тоже будто не поет, а подтрунивает сам над своей любовью:
- Happy and I’m smiling,
- walk a mile to drink your water.
- You know I’d love to love you,
- and above you there’s no other.
- We’ll go walking out
- while others shout of war’s disaster.
- Oh, we won’t give in,
- let’s go living in the past.
Привожу для смеха перевод в рифму, он очень отвечает моему тогдашнему настроению:
- Я счастлив тем, что, улыбаясь,
- версту шагаю к твоей кринице.
- Но ты же знаешь, люблю влюбляться.
- И как в тебя мне не влюбиться?
- Позвали нас шальные дали.
- Нам вслед кричали – «Войне здесь быть!»
- Но мы не будем с тобой сдаваться.
- Есть шанс остаться и прошлым жить.
Так и называлась песня, как мне потом сказали, Living in the past. Жить прошлым. Я тогда не знал, какую роль в моей судьбе сыграет этот шут на одной ноге. Как во всех этих подростковых историях, я понятия не имел, как это называется. Кажется, тогда даже и пластинку не рассмотрел, так был ошарашен. И теперь уже не помню, как, из чьих уст услышал это: «Джетро Талл», Ян Андерсон. Так бывает с именем любимой женщины: не сообразишь, откуда узнал его, кто подсказал. И многие-многие годы все эти средневековые, ренессансные, барочные, джазовые, блюзовые, хардовые звуки имели над моей душой власть неизъяснимую. Сумеречные посиделки на крышах Петроградской стороны, кришнаитская еда и пропаганда в кафе на пр. Маклина, беготня из дома в дом с виолончелью, ну, конечно, «Вазисубани» с пивом из литровой банки, философические беседы на пустом шоссе, где никого не застопишь, нелепые наши спектакли, заплеванный зал ожидания Варшавского вокзала, прыгающий с гитарой по дюнам длинноволосый Решетов, упражнения с блокфлейтами во дворах у Обводного канала – все под звуки «Джетро Талл»… Сейчас для меня все это «жизнь в прошлом». Но ведь и тогда было ощущение, что это когда-то уже было и только поэтому так значительно, так интересно, так весело. Livinginthepast.
Так вот, меня отговаривали идти на концерт их сейчас, в апреле 2018. 50 лет группе. Господи, да посмотрите на большинство рок-музыкантов конца 60-х в наши дни! Если не спились и не растворились в ЛСД, если не ушли на семейный покой, если не стали общественными активистами, то сделались ходячими памятниками своей молодости. Стоит ли такое смотреть? Еще говорили, что у Яна Андерсона совсем пропал голос. Я робко возражал, что половина его голоса, дыхания – это флейта. Еще в 88-м году я не потрудился доехать до Таллинна, когда «Джетро Талл» играли на Певческом поле.
Тогда мне казалось, что они уже совсем не те, что разочаруюсь. Но главное, пожалуй, – именно та установка, что дал я себе давно и не отступаю от нее по возможности: живи в одну сторону. Не возвращайся.
Но я вернулся. На следующий день после «Жанны» двинулся я в ДК Ленсовета на концерт «Джетро Талл», вооруженный фотообъективом с трубкой, чтобы хоть зрелищем этого человека насладиться, если ни энергии, ни голоса, ни старых музыкантов не осталось.
Надеялся встретить сайгоновских, гастритовских, гномовских и эльфовских знакомых. Их не было. Нет, ветеранов с седыми волосами, завязанными в хвостик, в шляпах, было достаточно. Но «в мире новом друг друга они не узнали». И черт с ними, подумал я. Не их же я пришел смотреть ислушать.
Долго тусовались в фойе, многие доставали маленькую коньяка и винтом отправляли себе в глотку, наверное, тоже боялись разочароваться.
Но вот расселись, воцарился мрак, а когда в зале рассвело, все и началось. Началось как-то неожиданно просто, без понтов. Вышли музыканты, а потом выскочил, да, не выбежал, а именно выскочил, как черт из коробки, человек – лысеющий, в очках (упаси Боже, не ленноновских, каких-то очень обычных очках), в жилетке, ну и, разумеется, с флейтой. То есть флейту он где-то спрятал, и она тоже вроде как выскочила и неожиданно оказаласьу него в руках. Он ничего не сказал, а просто стал тихонько насвистывать. Какие-то палочки стучали друг о друга. Позванивала гитара. Он играл и пел Livinginthepast.
Потом пошел какой-то очень человеческий разговор. Ян Андерсон говорил о музыкантах, которые раньше играли в «Джетро Талл». Он говорил, что неплохо бы их вспомнить и поблагодарить. Они появлялись на экране – заднике сцены и рассказывали, как классно было играть всем вместе, посылали приветы незнакомому русскому залу. Потом в честь каждого играли какую-нибудь песню. И не было, клянусь, не было столь ненавидимой мной ностальгии. Может, дело в голосе? Да, голос Яна Андерсона изменился. Не такой богатый, не такой бешеный. Но не знаю, поймете ли вы меня: если бы он оставался точно таким, как был в 68-м году, у меня возникло бы ощущение подделки. Это как старые дома. Если они заново почищены и оштукатурены, да еще и оконные рамы поменяли на стеклопакеты, если на них нет следов времени: трещин, пятен, пыли – то они ничего не говорят моему сердцу. На Яне Андерсоне были и трещины, и пыль, и пятна. Это был пожилой человек. Но только как пожилой, посмеивающийся и над своей немощью, и над своим юношеским задором (часто на экране появлялся он же, только молодой), Ян Андерсон и мог быть настоящим, живым.
Первый удар первыми песнями был нанесен. Никто, и я тоже, уже ни в чем не сомневался. Мы видели его, его настоящего, человека, под чью музыку прошла наша жизнь. Но вот и второй удар. «А теперь я бы хотел вспомнить нашего барабанщика. О, настоящих барабанщиков нынче днем с огнем не сыщешь. Халтурщики они все. Половину работы делает за них электроника. А он-то был барабанщик от Бога. Он наслаждался (entertained himself) своим ремеслом. Сейчас мы исполним песню в память о нем. Вообще-то, честно говоря, он пока еще живой. И сидит тут за барабанами!». Свет падает на барабанщика, и что тут происходит с залом! Никакая песня не вызывала такого рева и оваций. Шутка немудрящая, как шутки могильщиков в «Гамлете», но сколько в ней этого вот старого, очень английского, того английского, которое отчасти идет на экспорт, потому что мы здесь, кажется, более ценим его, чем англичане. Именно услышав ее, народ убедился, что перед ними действительно Ян Андерсон, тот самый, жив Курилка-журналист. И радость от того, что тот человек, который вдохновлял тебя, ну или, скажем, не вдохновлял, но был мифологическим фоном всей твоей жизни, тем фонарем из прошлого, что подсвечивает все мгновения настоящего, – что человек этот не миф, не гигант на скале, а твой собеседник, может быть, собутыльник, – радость эта не имеет никакого отношения к эстетическому наслаждению музыкой и пением. Это радость, что ты сам еще жив и не пора на свалку. Мне кажется, что Ян Андерсон все это понимал. Ведь и в самые свои младые годы пел такой гимн про старого рокера: «And he was too old to Rock’n’Roll but he was too young to die… No, you’re never too old to Rock’n’Roll if you’re too young to die». И когда дошло до этой песни, все понимали, о чем идет речь. Не понимали даже – пели вместе с ним: «Нет, никогда не поздно пускаться в пляс, если еще не готов умирать». Тут уж не то что всем казалось, что радость будет. Радость есть. Прямо сейчас. Радость, скажем прямо, нечаянная. Со всем шекспировским многообразием героев и историй «Джетро Талл», от пьянки до путешествия в загробный мир.
О Шекспире и его гробокопателях я заговорил неслучайно. В фотообъектив была видна вся мимика Яна Андерсона. Сколько тут было юродств: выпучивания глаз, надувания щек, хитрых прищуров, подмигиваний… И известные по записям, но совершенно неповторимые, всегда другие приемы игры на флейте. И свист, и рычание, и пение, и бог знает что еще. Он и правда был живой, самое главное, что живой, такой живой, что хватало на всех нас. Были и похабные жесты: приставить в самый лирический момент флейту к причинному месту, отчего сразу во мне всплывала реплика сэра Тоби «Чтоб тебе никогда не орудовать своей шпагой, рыцарь, если ты не подцепишь эту красотку!» Или (тоже немудряще), исполняя «Thick asa brick», обратиться к залу: «To be is thick asa…»– и протянуть руку вперед. Ну и зал, конечно, радостно отзывается: «prick!!!». И сюда же стояние на одной ноге. Долго не мог выстоять, но когда, становясь в профиль, он поднимал согнутую в колене ногу и помахивал ею, дудя в свою флейту, зал неистовствовал. Нет, не то слово. Это было тише. Зал радовался, веселился, можно сказать, что и гоготал от души. Значит, мол, и мы можем чуть-чуть постоять на одной ноге.
Одна знакомая написала: «Странно было видеть сидящий чинно зал». Да, обычного антуража рок-концертов не было, никто не впадал в экстаз, не орал, девушек на закорках не таскал, не откалывал коленца, не поднимал над головой зажигалок. И вовсе не потому, что в зале были одни «олды». Нет, было много и молодежи. Я встретил ученицу 7-го класса, где я преподаю. И дело не в том, что это какой-то особый рок, к которому по статусу или по возрасту нужно относиться с особым почтением. Просто смех, ирония, не оставляющая Яна Андерсона даже в самых лирических, грустных, гневных песнях, которых немало звучало на концерте, особенные. Это смех и ирония меланхолического Фесте, шута из «Двенадцатой ночи». Да, отчасти и сэра Тоби, потому что у нынешнего Яна Андерсона появилось брюшко. Отчасти и гамлетовских могильщиков. Но все же в первую очередь шута, может быть, и безымянного шута из «Короля Лира».
Что же это за особенный английский смех? «Сердцеведением имудрым познанием жизни отзовется слово британца». Да, и это. Гоголь как будто слушал «Джетро Талл». Рок-музыка в основе и массе своей – крик сознания, метание души, диссонанс, одинокий голос, выпевающий свое горе или свое мимолетное счастье, трагедия. Даже самые гармоничные – «Битлы» не просуществовали и десяти лет, печальный и неизбежный распад их обозначил целую эпоху, рубеж западной цивилизации. А «Джетро Талл» не такие. Они поют не только о себе, но и о мире, о человеке. Они живут, стареют, но не иллюстрируют сами себя, а продолжаются – вот уже более полувека. Есть в них, или, может, в самом Яне Андерсоне нечто, уберегающее и от трагической смерти в юности, и от опошления, компромисса в старости. И эти «сердцеведение», «мудрое познание жизни», мне кажется, глубоко связаны с английским смехом.
Английский смех – смех крепко стоящего на обеих ногах (или хоть на одной ноге) шекспировского актера или зрителя партера. Возможно, накачавшегося по ходу пьесы разносимым тут же элем, заболтавшегося, заигравшегося, заслушавшегося, заглядевшегося до потери пульса, нонеизменно чувствующего под ногами дощатый пол, посыпанный опилками.
Совсем не таков был услышанный мной накануне французский смех, смех Мольера, о котором я уже писал. Это неудержимый хохот – сбившийся набок парик, качающееся кресло, ноги в красных башмаках задраны высоко вверх! Смех столь же прекрасный, столь же полнокровный, что и английский. Но не дающий катарсиса. У Мольера его и не должно быть. Какой катарсис в комедии? А вот Шекспир и в комедию ухитряется контрабандой протащить его. Все грустное, зловещее, таящееся уже в самом названии – «Двенадцатая ночь, или Что угодно» (то есть финал, самое бурное рождественское веселье в последний день праздника, а кто знает, может, и жизни?) звучит и поглощается неизвестно откуда бьющим светом в заключительной, будто вовсе и ненужной песне:
Все, кроме шута, уходят.
Шут (поет)
- Когда я был и глуп и мал —
- И дождь, и град, и ветер, —
- Я всех смешил и развлекал,
- А дождь лил каждый вечер.
- Когда я достиг разумных лет —
- И дождь, и град, и ветер, —
- Наделал соседям я много бед,
- А дождь лил каждый вечер.
- Когда я ввел жену в свой дом —
- И дождь, и град, и ветер, —
- Пошло все в доме кувырком,
- А дождь лил каждый вечер.
- Когда я стал и стар и хил —
- И дождь, и град, и ветер, —
- Я эль с утра до ночи пил,
- А дождь лил каждый вечер.
- Был создан мир бог весть когда —
- И дождь, и град, и ветер, —
- Но мы сюда вас ждем, господа,
- И смешить хотим каждый вечер.
(Уходит.)
Ушел со сцены шут, ушел после трагического, глумливого, нежного «Акваланга» и Ян Андерсон. Огни погасли. Но не тут-то было.
Все знали, что главная песня не исполнена. Песня песней «Джетро Талл», «Москва – Петушки» по-английски (кстати и написанная-то примерно в то же время). И вот слабый свет на сцене выхватил клавишника. И он заиграл джазовое вступление. Постепенно все артисты возвращались на сцену, а когда прибежал трусцой Ян Андерсон, зал взорвался. Потому что дух смерти витал над концертом вопреки всему. «Мудрое познание жизни» включает в себя и пристальное внимание к смерти. И тут из тьмы является человек, превратившийся за полтора часа из кумира в старого надежного друга. Он не умер! Вот что значила эта буря в зале. Значит, живы и мы! Но он вернулся, чтобы спеть последнюю песню, и все понимали, что она последняя, не столько потому что это было на бис, не столько потому что песня самая знаменитая, сколько в силу мысли, переживания и вдохновения, породивших эту песню. По экрану помчались поезда:
- В сумасшедшем свисте дыхания паровоза,
- Очертя голову, несется вечный неудачник навстречу свей смерти.
- Он слышит скрип поршней, и пар обжигает ему брови,
- Старик Чарли спер стоп-кран, и поезд теперь не остановить —
- Ему никак не затормозить, о.
- Он видит – его дети спрыгивают один за другим на остановках,
- А жена – она в постели, тешится с его лучшим другом.
- О, он ползет еле живой на карачках по коридору —
- Старик Чарли спер стоп-кран, и поезд теперь не остановить —
- Ему никак не затормозить, да.
- Он слышит вой безмолвия, ловит в падении ангелов.
- А Вечный Победитель схватил его за яйца.
- О, он открывает бесплатную Библию, и там, на первой странице:
- Господь Бог спер стоп-кран, и поезд не остановить —
- И теперь никак не затормозить… Никак не затормозить…
Что к этому прибавить? Концерт кончился на этом. Финал был смешной и возвышенный. Я вышел обалдевший, но не подавленный, нет. Безбожна была «Жанна», но безбожен был и Ян Андерсон. В «Жанне» Бог был бессилен. Здесь – зол. Гибельный, ироничный азарт Вальсингама в «Дыхании паровоза» рифмовался с чистым тимуровским азартом актеров гимназического театра.
Я написал об этих двух сильнейших апрельских впечатлениях вовсе не для того, чтобы их сравнить в пользу того или другого. Такие вещи сопоставлять нелепо. Но не удержаться. «Чем ворон похож на конторку?», – спрашивает Шляпник Алису. Можно продолжить: «А чем отличается? И что лучше?». Наверное, в Зазеркалье такие вопросы имеют смысл…
С мертвецами против живых
Анджей Вайда и наследие шестидесятых[3]
Последняя сцена «Катыни» скандальна. Из-за нее фильм не рекомендуют смотреть детям и даже подросткам. Из-за нее, как я подозреваю, многие поклонники Вайды посчитали этот фильм ходульным, слабым, вообще нехудожественным. Человека выталкивают из машины, накидывают на шею петлю, другим концом той же веревки связывают руки, пихают к краю ямы и пускают пулю в затылок. Так повторяется много раз почти без вариаций. Бульдозер заравнивает ров с трупами. Конец фильма. Но что еще хуже, так это металлические лотки. Старших офицеров расстреливают в подвале. Потом их трупы по этим вот лоткам вытягивают наружу для захоронения. По мне, так осклизлые кровавые разводы на металле во много раз страшнее выстрелов и даже бульдозера. Фильм кончается полным разрушением, поражением, гибелью под будто бы в издевку возвышенную музыку Кшиштофа Пендерецкого. Впрочем, в самом последнем кадре: глина из-под ковша бульдозера постепенно заваливает труп, и музыка умолкает, только рев двигателя. И никакие мужественные поступки выживших героев фильма, никакие молитвы и четки в руках жертв не меняют общего итога.
Но посмотрим на финалы других фильмов, вроде признанных безоговорочно. В «Канале» гибнет отряд: единственный выбравшийся из ада канализации поручик Заноза спускается обратно. Не так кроваво, но, быть может, еще безнадежнее. Поляков этот фильм не порадовал: они ждали увидеть героев, а увидели безумие и смерть. Последние кадры «Пепла и алмаза», если посмотреть непредвзято, по безобразию своему, и нравственному, и художественному, сопоставимы с «Катынью». Напомню: Мачек-таки убивает секретаря Щуку, когда в этом уже нет никакого смысла. Перед смертью Щука обнимает Мачека – убитый обнимает убийцу, причем ни о каком христианском прощении коммуниста Щуки, конечно, говорить не приходится, просто так получилось. Утром Мачека случайно подстреливают, и он, окрасив черной кровью простыню, сушащуюся на веревке, умирает на куче мусора, издавая при этом утробный, нечеловеческий рев вперемежку с детским плачем.
Герои (точнее, жертвы) «Катыни» гибнут, оставляя народ сиротами, оставляя по себе память, которую не прочь использовать как русские, так и немцы в целях пропаганды, а значит, это такая память, которую лучше всего утратить, чтобы не стать коллаборационистом. Чтобы не быть на подозрении у начальников жизни. Чтобы не мучиться неизвестностью или позором (повторяю, они умерли как жертвы, а не как герои).
Тема сиротства звучит и в «Пепле и алмазе». Мать-родина не признала Мачека: все помнят, что темные очки он носит в знак неразделенной любви к ней. Его отцом мог бы стать Щука, ведь реальный, несимволический сын Щуки Марек из того же отряда Волка, что и Мачек. И на свидание с ним идет Щука, когда Мачек стреляет в него. Предсмертные объятья, мне кажется, и означают эту отцовско-сыновнюю связь. Так Мачек становится круглым сиротой.
Сиротство было уделом и самого Вайды, и его поколения: это его отца убили в Катыни или Харькове, и всю жизнь Вайда готовился к этому фильму, собирал свидетельства, обдумывал, примеривался, рос. И дело тут не только в Польше: поколение военных детей и подростков в Советской России тоже росло без отцов: сгинувших кто на войне, кто в лагере, а зачастую и без матерей. Мне кажется, именно поэтому так остро и ясно воспринимаются фильмы Вайды у нас. По крайней мере, воспринимались в шестидесятые. Но дело не только в том.
Еще один сирота военной поры, Рид Грачев, писал:
Ничто не возникает из «ничего». <…> Выбитый зуб – это пример значащего отсутствия. Причем это не формальный пример: убитый мудрец – это тоже пример значащего отсутствия. И убитый отец, и убитая мать. И убитый ребенок. И вырубленный лес, и пересохшая река… Значащее отсутствие есть отсутствие какого-то присутствия, то есть явления или элемента, без которого жизнь была бы немыслима, невозможна.
Безотцовщина на обломках человечности, среди провалов и пропастей, между канализацией и железнодорожной свалкой – судьба этого поколения. По Риду Грачеву, отвернуться, забыть, что были отцы, что была интеллигенция, была свобода совести, было право на жизнь, был поступок, была история, состоящая из этих поступков, – забыть, потому что «надо жить дальше», это и было главным искусом военных сирот. «Как только мы сделаем вид, что ничего такого не существует и не нужно, наш мир полетит ко всем чертям», – писал он. Не об этом ли «Катынь» («– Так ты что же, с мертвецами против живых? – Нет, я с убитыми против убийц».)? Не об этом ли «Пепел и алмаз», заглавное стихотворение которого я позволю себе напомнить, хоть его вроде все и знают, и пусть это не лучший перевод, но именно он звучит в фильме:
- Когда сгоришь, что станется с тобою:
- Уйдешь ли дымом в небо голубое,
- Золой ли станешь мертвой на ветру?
- Что своего оставишь ты в миру?
- Чем вспомнить нам тебя в юдоли ранней,
- Зачем ты в мир пришел? Что пепел скрыл от нас?
- А вдруг из пепла нам блеснет алмаз,
- Блеснет со дна своею чистой гранью…
Это не просто о том, какую память по себе оставит человек: ради такого не стоило бы и фильм снимать. Это именно о значащем отсутствии, пробоинах в жизни, которые человек должен закрывать жизнью, разумом, телом. Как Мачек, как Щука, как поручик Заноза, как гибнущий хор Катыни.
Сама Польша, страна, не раз исчезавшая с карты Европы, сделалась как бы воплощением идеи значащего отсутствия:
- На польский —
- выпяливают глаза
- в тугой
- полицейской слоновости —
- откуда, мол,
- и что это за
- географические новости?
Эссе Рида Грачева было написано в середине шестидесятых, и это тоже не случайно. «Пепел и алмаз» только предчувствует катастрофу, «Катынь» подытоживает ее смысл. Между ними – посередине творческого пути Вайды – «Всё на продажу», фильм о человеке, который исчез. Он начинается там, где кончается «Пепел и алмаз», но только здесь гибнет не персонаж, не герой, а актер, то есть сама возможность появления героя. Фильм о том, как жить без Збышека: как снимать фильм, как смотреть друг другу в глаза, как делать вполне обычные вещи: как, например, кататься зимой на карусели – без Збышека. Мир «Пепла и алмаза»– пусть и хрупкий, но цельный, и смерть героя эту цельность только утверждает. Мир «Всё на продажу» расползается. Его нечем скрепить. Даже волей режиссера. В этом чувстве пустоты есть свое жутковатое очарование. Актеры, режиссер и все остальные здесь играют самих себя, и поэтому никакая художественная истина, никакой катарсис не может вытянуть зрителя из засасывающей воронки. Но, конечно же, Вайда не был бы Вайдой, если бы оставил нас без надежды: в конце фильма Даниэль Ольбрыхский все-таки находит в себе мужество играть того, кого должен был играть Збигнев Цыбульский, так же, как Мачек встал под огонь на место Щуки. Фильм возвращается из небытия.
Покуда мы говорили только о России и Польше, но ведь в шестидесятые, прославленные теперь как самая беззаботная и полная надежд эпоха, холодком пустоты веяло отовсюду. Холодок этот рождал гибельный азарт, в самых крайних своих проявлениях поднимающийся до дерзости героев античной трагедии. «Всё на продажу» вышел в 1968, «Блоу-ап» Антониони – двумя годами раньше. Фотограф, случайно ставший свидетелем убийства в ветреном тревожном лондонском парке, пытается докричаться до людей, рассказать им о преступлении, заснятом им на пленку, но мало того, что совершенно безуспешно, наутро он приезжает в парк и не находит тела, вся пестрая жизнь как будто говорит ему: а ничего и не было, тебе и твоему якобы беспристрастному объективу все показалось – травы меньше курить надо! В парк приезжает грузовичок с клоунами. Они принимаются понарошку играть в теннис: ни ракеток, ни мяча у них нет, между тем зрители (тоже клоуны) жадно следят за каждым движением игроков и за полетом мяча. «Мяч», вылетев с корта, падает к ногам фотографа. Клоуны жестами и взглядами просят вернуть «мяч». Фотограф колеблется какое-то время, а потом очертя голову принимает игру и делает вид – нет, не делает вид, а по-настоящему бросает игрокам несуществующий мяч. В последних кадрах мы слышим хлопки – мяч отскакивает от ракеток.
Последняя песня на главной западной пластинке шестидесятых – «Оркестре клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» (1967) – созвучна «Фотоувеличению»:
- Я прочел сегодня в газете – ну и ну! —
- О счастливчике, преодолевшем барьер,
- И хоть сообщение было довольно грустным,
- Мне вообще-то оставалось только рассмеяться.
- Я видел фотографию:
- Он зазевался в машине, не заметил, как переключился
- светофор.
И в самом конце:
- Я прочел сегодня в газете – ну и ну! —
- Про четыре тысячи дырок в Блэкберне, графство Ланкашир,
- И хоть дырки были довольно маленькие,
- Пришлось их все пересчитать.
Теперь известно, сколько нужно дырок, чтоб заполнить «Альберт-холл».
После этого мы слышим чудовищное, хаотическое крещендо, завершающееся торжествующим аккордом на четырех роялях.
Снова смерть, фотография, снова пусто́ты, на этот раз внимательно пересчитанные.
Виктор Шкловский в гневной статье «Верните мяч в игру» обвиняет Антониони и Феллини («8 ½») в суетности и буржуазном нарциссизме, в любовании своим бессилием. Пафос его разделить трудно, но одно он определил верно: мяч действительно в эту эпоху стремительно уходил из игры. Образ пустоты преследовал и Рида Грачева, и Антониони, и Вайду, и Леннона.
Но вернемся теперь к расстрельной яме, бульдозеру и кровавым лоткам. Я ничего не могу с собой поделать: «Катынь» оставляет во мне не ужас, но скорбь, соединенную почти что с радостью. Так же как «Пепел и алмаз». Можно назвать это катарсисом, но как добивается его Вайда, я не совсем понимаю. Очевидно, дело здесь в просветляющей силе памяти, которая удерживает значащее отсутствие, то, что закрывает пустоту и не дает ей поглотить наш мир. С этим же как-то (опять же я не уверен, что понимаю, как) связана неразделимость нравственного и художественного у Вайды. Потому при том отчаянии и ужасе, которыми полны последние кадры «Катыни», только такая неразделимость, почти античная, может вызвать слезы просветления.
Вспомнив об античности, я снова возвращаюсь к мыслям о шестидесятых и о том, что они оставили нам. В недавно вышедшей книге Д.В. Панченко об «Илиаде» есть очень точное определение: Гомер сочетает экзистенциальный пессимизм с онтологическим оптимизмом. Это точно то, что можно сказать о шестидесятых и Вайде: смерть Мачека, Збышека и польских офицеров безобразна и бессмысленна. Смерть не может быть иной, эстетизировать ее не хотели ни Гомер, ни Вайда. Но человеческая память, воплощенная в искусстве, нетленна – в это они верили свято.
Проза
Письма заложникам[4]
У меня идиотское ощущение, что у «вас» (т. е. на воле) теплее. Может, потому, что последнее, что было, – лето. Лето красное. И действительно, несмотря ни на что, ни на что, это было удивительное лето. Я мог бы, наверное, написать большую книгу об этом лете: «попойки и дуэли, вечерние прогулки при луне»; пешие мои хождения по центру, одинокие и неодинокие; поездки по дурацким окраинным маршрутам – были такие, в одиночку, без цели, просто так; плохой кофе в магазинных буфетах, странные, внешне все в делах, – дни. Все это лето было вдребезги разбившейся попыткой одиночества. И какое счастье, что она не удалась! То, что осталось в моей памяти от этого лета, – а осталось, мне кажется, решительно все, – это не коллекция эпизодов, а теплые и живые лица и голоса, я их вижу и слышу, и достоверность моих ощущений подтверждается письмами: будто я подхожу к дому, где тепло, и людно, и звучно, и в замерзшие окна кто-то продышал для меня кружочки, чтоб я мог смотреть и согреваться. Какие зимние у меня пошли сравнения…[5]
Почему же «такие зимние»? Слова и образы той эпохи имеют свойство: с первого взгляда все кажется удивительно понятным – действительно холодно в Мордовии в декабре, действительно одиноко человеку в лагере, он тоскует и вспоминает, любит, ждет писем. Хотел на воле одиночества – не в его природе оно было. Можно пойти дальше: холодно и в лагере, и в стране, и в мире в конце 68-го, что-то распадается, что-то навсегда замерзает. И даже этих объяснений можно было не писать: все ясно из стремительного и вдруг сбитого ритма письма, из картин как будто обратно прокрученной кинопленки. Да, но что ясно? Вот это-то «другими словами» сказать невозможно. Не свести к чему-то более простому.
Ясно только вот что: человек идет по холоду к теплу, и между ним и тем миром стена, в ней – окно, оно затянуто морозом, только продышанные кружочки. Тут что-то большее, чем метафора лагеря. Слишком остро. Многое из того, что было очевидно для Даниэля и до некоторой степени для его адресатов, теперь, по прошествии десятилетий, и не самых прозрачных, вызывает какие-то смутные вопросы, которые и сформулировать нелегко. Все отзывы на книгу стихов и писем Даниэля не то что положительные – теплые, человечные, какие-то нелитературные. Ведь написаны они почти все людьми, знавшими Даниэля, зачастую адресатами этих писем или просто читавшими их. А таких людей немало:
Согласно правилам, заключенный строгого режима имел право посылать не более двух писем в месяц, и только ближайшим родственникам. А вот в лагерь, равно как и в тюрьму, мог писать кто угодно и сколько угодно. Это означало, что, получая великое множество писем с воли, Даниэль имел возможность отвечать своим корреспондентам лишь в одном общем письме, адресованном жене, а после ее ареста в 1968 г. – сыну. <…> Автор обращается то к одному, то к другому, то ко всем сразу, – но знает, что каждая строчка его будет прочитана многими.
(А.Ю. Даниэль. Предисловие).
Обаяния Юлия Даниэля хватило до наших дней. Анализ почти всем показался чем-то недостойным. Может быть, так и надо. «Все это (не только эти стихи и не только стихи) – иллюстрация ко мне», – писал он. Хочется приблизиться к этому человеку, притягательная сила и его стихов, и прозы, и переводов, и просто памяти о нем, и главное, теперь – этих писем – всего, что он оставил в этом мире, увеличивается. А разгадка одна – живой человек. Все время хочется думать и думать дальше, почти над каждой строкой. Нет, не расшифровывать, а как-то именно призадумываться, вглядываться сквозь «кружок» – туда, на мороз.
Начинается все с вопроса: зачем? Именно не за что (все знают: Синявского и Даниэля посадили за их прозу, напечатанную на Западе), а все-таки зачем?
На это Даниэль с той же видимой простотой отвечает (может, сам не осознавая этого – речь идет о том, как он с Валерием Ронкиным придумывал рифмы к слову «ж. а»): «…и ржали мы так, что любой сочувствующий немедленно перестал бы быть таковым, услышав нас, а только сплюнул бы, сказавши: «Мало, видать, им припаяли!..» «Опять все так просто. Припаяли, чтобы не ржали. Раз еще ржут, значит, мало припаяли. Как же понимать это «ржали»? Иллюстрациями к этому полнятся письма, от первого, только что по прибытии в лагерь, до последнего, почти накануне выхода из Владимирской тюрьмы.
Стало быть, Новый год? <…> О, это упоительное зрелище: начнет перекидываться снегом всякая шпана, вроде нас, а там пошло-поехало, и в конце концов убеленные сединами и осиянные лысинами начинают мальчишничать. Кинет такой Мафусаил, а потом его по инерции за снежком так и поведет… А снег сырой, липкий, как раз для снежков. <…> Сиротская зима – а нам того и надо.
Ага, вот чего им надо. О праздновании Пасхи:
И, представьте себе, к вечеру в лагере было весело. Песни, много музыки – целые оркестры, шум, шутки. И все это страшновато. Невооруженным взглядом видны самовзвинчивание, самоутверждение, самоуговаривание: «Мы шумим! Мы шутим! Мы поем и играем! Нам весело!» А слышится: «Мы шумели! Мы пели! Нам было весело!».
Но а сам автор, хочется спросить, взвинчивал себя, когда писал:
Таким образом, что мы видим на этой интересной картинке? На этой интересной картинке мы видим одного бывшего литератора, который бодро шагает ножками к лучезарному будущему, легкомысленно отшучиваясь (отплевываясь) от всяких мелких житейских неурядиц типа неудачного места жительства, несамостоятельного решения квартирной проблемы и прочих незначительных деталей бытия.
Сколько в этих словах от бравады, сколько от кокетства или лукавства?
А может, действительно, в политическом лагере в шестидесятые совсем не так плохо и не так страшно было?.. Может, и нет никакой трагедии, как порой усиленно и, надо сказать, убедительно уверяет нас автор? ГБ рассматривала Даниэля как слабое звено в «заговоре», считая Синявского «закоренелым». Поэтому на Даниэля в лагере нажимали гораздо сильнее, пытаясь сломать его. По письмам Даниэля очень трудно это представить. «Лагерные условия Юлий, на мой взгляд, переносил гораздо тяжелее, чем я да и многие другие з/к. Состояние небритости доставляло ему чуть ли не физическое страдание, угнетающе действовало отсутствие ярких красок. <…> Как и все мы, Юлий тяжело переживал отрыв от своих многочисленных московских, но и не только московских друзей. Страдал он от отсутствия женского общества. <…> Очень тяжело переживал обыски, всякое насильственное прикосновение к своему личному», – вспоминал Валерий Ронкин[6].
Сам Даниэль много размышлял над этим: что же, собственно, не так, почему плохо?
Те, кому чаша сия досталась раньше, чем мне, и больше она была по объему, и горше было ее содержимое, – те, вероятно, читая мои письма, скажут или подумают: «Э-э, ничего страшного, так-то жить можно: и кофе, и постельное белье, и еда все-таки сносная, и хватает времени и сил играть во всякие бильярды и волейболы, и дни рождения справлять <…>«[и так могут подумать многие читатели «Писем»– и в этом неожиданно сойтись с узниками сталинских лагерей. – Б.Р.]. Все верно: жить можно. Нет больше уничтожения. Есть унижение. Оно не в стрижке наголо, не в чтении интимных писем чужими людьми, вообще оно не извне, не от начальства и правил; я думаю, что меня никто и никак унизить не может. Меня унижает, как это ни дико звучит, потакание моим слабостям – лени, пустомечтательству, мимикрии. И кроме того, унизительно предположение, что мои литературные и прочие взгляды можно опровергнуть таким образом. Право же, иногда у меня возникает желание всерьез поговорить с каким-нибудь умным человеком, который стоит на противоположных позициях, – только действительно умным. Должны же быть такие! Но до сих пор мне они не попадались.
Мне кажется, таких людей никогда не было, нет и не будет. Теми, кто сажал Даниэля и Синявского за публикацию книги на Западе, а 18-летних латышей – за сепаратистскую болтовню, руководил некий особенный инстинкт власти – инстинкт, но не замысел. «Припаяли»– чтоб не ржали, чтоб не пели, не думали о себе много. Не за сопротивление власти, не за антисоветчину – А. Даниэль в предисловии совершенно верно заметил: «Всякий советский человек прекрасно понимал, какой закон нарушили два литератора. Художнику при советской власти было позволено довольно многое, гораздо больше, чем принято теперь считать. Но одно запрещалось категорически: игнорировать право государства на контроль над творчеством». И это игнорирование – гораздо опаснее для власти, чем листовки, бомбы. Потому что жить, постоянно давая право на контроль, жить не просто так, для радости, для общения, для стихов, для сочинения рифмы к слову «ж. а», для снежков, а жить, «всегда думая о начальнике» (по совету Конфуция), считая себя жертвой или носителем интересов силы, – для того чтобы выжить физически и сделать здоровое потомство, – это как раз то, чего требует тирания от всех своих подданных. Не жить, а выживать. И инстинктивная цель системы (только в частном случае – лагеря) – заставить человека признать право сильного и существовать в вечных помыслах о нем. Пусть этого сильного они зовут жизнью: «Жизнь диктует!» Сущность тирании – и лагерей шестидесятых годов, и прочих лагерей (уничтожения, фильтрационных, рабочих) – одна: отделить людей друг от друга, заставив только выживать. В крайнем случае для этого можно сделать из человека борца с системой. Убивать после этого в эпоху Даниэля уже не признавалось необходимым. А Даниэль писал просто:
Я здесь живу – понятно? Я не могу и не хочу выбирать, как мне себя вести. Здесь для меня существует лишь одна линия поведения – остаться собой.
Как человеку остаться собой, как жить? При этом без геройства – не выбирая, как себя вести, а так – как ведется? Любое обобщение выглядит в разговоре о Даниэле довольно беспомощно, но я задаю эти вопросы, потому что они важны совсем не только для лагерной ситуации. Как стоять за себя, оставаясь собой: спонтанным, естественным, сугубо частным человеком?
Я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы пребывать в своем естественном лежачем положении <…>. Я лежа спал, читал, ел, пил (и выпивал), любил, работал, помирал, принимал друзей, стрелял. Даже, если можно так выразиться, «сидел лежа».
Как получается у такого человека не тонуть и не плыть по течению, не терять ни на минуту достоинства в условиях постоянных унижений внутренних и – что ни говори – внешних? Даже акции протеста в лагере давались Даниэлю с трудом. Валерий Ронкин рассказывал, что по прибытии в новый лагерь зеков по очереди стали вызывать к начальству. Борясь за право называться политзаключенными, все они договорились рапортовать: «Политзаключенный имярек явился».
Объявление себя политзеком считалось недопустимой дерзостью и влекло, как правило, кары. <…> Юлий смущался этого титула, политиком себя не считал, врать и притворяться не умел. На вызов к начальству он попал не первым. Несколько человек, вызванных ранее и отрекомендовавшихся «политзеками», настолько ошарашили наших будущих «воспитателей», что, когда вошел Юлий и сказал: «Здравствуйте, я Юлий Даниэль. Вы меня вызывали?»– это грубейшее нарушение лагерной обрядности прошло незамеченным[7].
В этот раз – да. В другие разы бывало хуже, страшнее. Болела искалеченная на фронте рука. Был карцер, были месяцы штрафного изолятора. Было искусственное питание во время голодовок. Была, наконец, Владимирская тюрьма.
«В первые годы после освобождения некоторые ожидали от Юлия Даниэля, что он, герой самого известного политического процесса в новейшей советской истории, станет теперь активным общественным деятелем, включится в напряженное противостояние диссидентов и властей, – пишет А. Даниэль. – Он вежливо, но твердо отклонял всякого рода посягательства на свою независимость. К общественной активности других проявлял сдержанный интерес, не позволяя себе ни осуждать, ни одобрять ее. Кажется, он испытывал к этой активности смешанное чувство симпатии и настороженности. Впрочем, он познакомился и подружился со многими из тех, чьи имена стали известны именно благодаря их диссидентской активности. Сам же Даниэль диссидентом не стал, и я хорошо помню, как одна дама из числа его друзей, отчаявшись втолковать ему, как изменились общественные оценки и общественное поведение за пять лет, которые он провел в заключении, махнув рукой, сказала: «Ну что с тобой толковать – ты же человек эпохи до Синявского и Даниэля!».
В чем же дело? Переменил революционные взгляды, как Достоевский после каторги? Видел в диссидентстве нечто поверхностное, ненужное, политически или морально себя не оправдывающее? Нет, и дело даже не в эпохе «до Синявского и Даниэля» (в ту эпоху еще какие борцы были!). Просто с самого начала, еще до ареста, диссидентство было для него чем-то другим, он не был к этому расположен внутренне.
Почти во всех местах, где Даниэль говорит о свободе и ответственности, слова его звучат не сентенциями и не метафорами. Всегда в них присутствует некая разнонаправленность… нет, не «двоемыслие», не двусмысленность, не амбивалентность. Что-то другое. Может, остроумие?
Интересно было бы организовать на всяких гуманитарных факультетах кафедры сопромата. Преподавателями <…> я назначил бы бывших з/к. Ну, и лабораторные занятия: испытания на прочность, на гибкость, на способность вступать во всякие там химические реакции, на эту самую, как ее, валентность (кажется, у меня она высокая?)
Осознавал ли Даниэль, насколько его речь в письмах бывает афористична? Вряд ли: сознательно он только критиковал собственную «мудрость» (ведь в произнесении афоризма уже есть что-то плоское: или всерьез на века, или претензия на остроумный экспромт):
А все-таки мои сентенции типа «Стержень мира в равновесии добра и зла…» кажутся мне дешевкой, болтовней. Как могут одновременно, на одном клочке земли жить люди, которые шлют мне письма <…>, и люди совсем противоположной категории? <…> Или мне придется стать ящиком, чемоданом с двумя отделениями: в одно буду складывать любовь, а в другое – ненависть? И раз и навсегда отказаться от попыток что-нибудь понять в этой карусели, плюнуть и оставаться тем, чем был, – инструментом?
Слова о чемодане и инструменте – тоже афоризмы. Значение их, наверное, такое: пока не решишь, что побеждает в конце концов, добро или зло, остаешься никем.
То, в чем меня обвинили, на 90 % – вранье, а если бы я не сделал остающихся 10 %, каждый из вас был бы вправе плюнуть мне в физиономию.
На призывы друзей «не дразнить гусей», т. е. не нарываться на неприятности:
Мне от собственного благоразумия, простите, блевать хочется. Если что-нибудь может исковеркать мою душу, заставить меня потерять самого себя, необратимо измениться – то это оно, родимое – благоразумие <…> Единственная моя надежда, что я не окончательно паду к самым высотам здравого смысла, в том, что я все же принимаю противоядие – работаю.
Работа – это стихи и переводы. Искусство Даниэль считал главным в своей жизни, и с ним-то у него сложились очень непростые отношения. Как прозаик, писавший под псевдонимом Николай Аржак, он известен не достаточно. «К своему поэтическому дару Юлий Даниэль относился еще более скептически, чем к своим возможностям беллетриста» (А. Даниэль). Стихи писал только в неволе. Переводы, выходившие под псевдонимом Ю. Петров, осмысливались как ремесло и хлеб. И все же:
…Я – художник. Как видишь, я не из скромных, я задираю нос, я присваиваю себе самое высокое звание из всех существующих. Но силы, жизнестойкость, жизнелюбие, оптимизм – только от этого – от искусства; даже в том случае, если я – плохой художник.
Что же значили эти слова для Даниэля: искусство, художник? В статье «Существованья светлое усилье (Юлий Даниэль)»[8] Галина Медведева пытается разобраться в том, что произошло с Даниэлем в лагере – в том числе, и как с художником. Эволюция Даниэля видится ей приблизительно так: фрондирующая беллетристика – само-стояние (остаться самим собой) – самопознание (и метафизический спор с властью). Это очень ценное и глубокое обобщение, тем более что сделано оно человеком, знавшим того, о ком речь. Но что-то тут упущено. Если искусство (беллетристика) уступило место некоему экзистенциально-философскому повороту, то почему же мысли об искусстве, о поэзии, о художнике не прекращаются чуть не до последнего дня заключения? Самопознание, конечно, тоже имело место, но как о нем Даниэль писал? – «…так вот сидишь, познаешь сам себя (ничего особенного, кстати, там внутри не оказалось)». И гораздо позже – и серьезнее: «Один из самых противных моментов моего бытия – это вынужденная сосредоточенность на самом себе». Кажется, он недолюбливал интровертированную литературу: «Алла Григорьевна, я «Иосифа и его братьев» не читал, я вообще не люблю Манна, мне бы чего побуссенаристей, я человек простой, обожаю про шпионов»…
Конечно, Даниэль времен лагеря уже не смог бы написать «Говорит Москва» (хотя и эту повесть, и «Искупление» мне трудно назвать «фрондирующей беллетристикой»). С другой стороны, действительно было что-то фрондирующее почти во всем, что он писал и позже, вплоть до лучшего из его переводов – «Корсара» Байрона. Чтобы как-то разобраться в этом, приведу еще несколько цитат (вот уж их автор бы поиздевался: «Даниэль об искусстве»).
Например, про празднование зеками дня рождения Яна Райниса – с рассказами о поэте, чтением стихов и переводов, цветами, открытками, кофепитием:
Наверное, это и есть «чистое искусство»– чистое, т. е. бескорыстное <…>. А вокруг были не декорации, не задники, не занавесы; а реплики и монологи – не были отрепетированы; а участники – не столичная элита, а мы. Ну как не быть благодарным судьбе, что у нас, для того, чтобы жить, остается Искусство? Или – мы у него. Простите мне восторженность стиля, но это действительно было прекрасно.
(1966).
Главное – это вот что: «Забудь о том, что ты писатель, что тебя любят и ждут семья и друзья, что твое будущее светло в любом случае, что тебе любое (почти) твое горе – в полгоря. И поставь
себя на место окружающих. Каждого: и дурака, и сволочи, и убийцы, и блаженного, и невинного, и безнадежного, и ничего не понимающего работяги, и фанатика – религиозного и политического, и любого другого человека из тех, что вокруг. Забудь, что у них у всех особое к тебе отношение и что положение твое особое. И вот когда ты хоть в какой-то мере почувствуешь себя в чужой шкуре, – вот тогда валяй – вспоминай, что ты писатель, что тебе разрешается снова жить своей жизнью».
Заметим: не писать (и действительно, Даниэль по выходе начал только одно произведение – автобиографическую «Свободную охоту» – и не закончил, и больше не писал ни прозы, ни стихов) – не писать, а «жить – писателю – своей жизнью». Что ж это значит, еще раз спрашиваю я себя?
Личность автора может быть интересной и занятной, но стоит она выражения лишь тогда, если она в чем-то смыкается с личностями других людей – читателей. Смыкается, сходна почвой, каким-то первичным веществом, какими-то очень главными началами.
Судить надо все же по стихам об авторе, а не по автору о стихах.
(1967).
Отвечая на вопрос: «А были ли когда-нибудь хорошие, по-настоящему, по большому счету хорошие стихи?» Да, были. И есть. Те, в которых автор не берется за «не свои» темы, а остается верен своей, очень определенной сущности – интиму, нежности, шепоту.
(1969).
И, наконец, уже из Владимирской тюрьмы:
Ну, конечно, прав был Корней Иванович: «И дело именно в том, что побеждает поэзия». Только, Боже упаси, не подумайте, что я считаю себя поэтом или ставлю знак равенства между поэзией и собою: просто я гражданин Поэзии, живу по ее законам, и ее победы – мои победы. Я говорю сейчас «высоким штилем», – но почему я должен стесняться высоких слов, когда речь идет не о пустяках, а о жизни? И не только моей.
(1970).
Что за Искусство остается у нас, чтобы жить? Что такое поэзия, которая побеждает и гражданином которой он признает себя? Почти все цитаты метят в одну точку: поэзия – это то, что объединяет людей, позволяет проникаться чужим теплом и чужим страданием, иметь общую человеческую «почву»– жить. Жить – значит не уходить в мир прекрасного, не самовыражаться, но: соприкасаться с душами людей. И в этом главное и спасительное назначение Искусства, к которому он странными, меняющимися и в то же время постоянными путями двигался. Как назвать Даниэля – поэтом, прозаиком, литератором? Как обозначить его «гражданство»– такое прочное и такое неуловимое?
В пору шитья рукавиц (чему он даже посвятил поэму) Даниэль определил себя так:
Предположения, что я литератор, ошибочны. Также не соответствует действительности распространенное мнение, что я – уголовник. Я – швея-мотористка, вот кто я. И именно в этом качестве буду шить миракли и фабльо.
Когда пишешь о Даниэле постоянно, хочется умолкнуть и просто цитировать. То же самое заметила и Галина Медведева. Всякое умствование на фоне этих цитат выглядит скучным (хорошо, если не пошлым). Но все же. Кажется, мы увидели первую башню той цитадели (не нахожу здесь лучше слова, чем название незаконченной вещи Сент-Экзюпери), которая сохраняла жизнь человека, – это Искусство, поэзия. Но книге неслучайно дано название «Я все сбиваюсь на литературу…» Значит, есть тема поважнее – та, с которой сбиваются. Почувствовать ее можно с первой же строки. Это и не тема, это то, чем дышит вся книга. Писать о главном – почти абсурд. Умолчать? – тогда можно вообще ничего не писать.
Я знаю, чего мне хочется. Мне хочется безумной роскоши: мне хочется каждому из моих корреспондентов написать письмо – и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-ь-н-о-е! Я в последнее время чувствую, что, обращаясь ко всем сразу, чохом, гуртом, я не могу передать, что я думаю о каждом в отдельности и как каждого – отдельно! – люблю. <…> И об этом не напишешь в таких письмах.
Конечно, не напишешь. Любовь не тема. Но стоит ли говорить о том, что все приведенные цитаты все равно об этом, только любовь, как мне кажется, могла вдохнуть в эти письма столько жизни, что они горячи и по сей день – и лирикой, и остроумием, и страданием, и «мушкетерской» бодростью.
Как-то вы все не усекаете, что любые факты вашей жизни мне интересны. И не только интересны – нужны: возникает чувство приобщения к вашей жизни, быту, волнениям, даже вроде бы участвуешь во всем этом.
Все четыре с половиной года – постоянные, неисчислимые просьбы писать об отношениях, о мелочах быта, о животных, слать фотографии. И то же – в рассказах о собственной жизни, лагерной и тюремной. О чем говорили. Что ели. Какой фильм смотрели. Что прислать из канцтоваров и одежды…
Один из ведущих современных критиков признался мне: «Не мог дочитать. Прекрасный писатель, настоящий благородный человек, герой. Но читать на каждой странице, какие ему прислать носки… И поминутно заглядывать в комментарии, чтобы понять контекст…» На это в письмах тоже есть ответ: «Удивительно и естественно рифмуется в нашем каждодневье Блок, миска супа, смерть, смех, блатной жаргон, погоны, ночной кашель, фотографии жен и детей» (1967). Это трудно понять, потому что это взгляд художника, не собирающегося делать из жизни литературу, вообще искусство. Эта самоценная острота восприятия мира, почти без границы внешнего и внутреннего, возникает из бесконечной силы притяжения к людям – и к тем, кто рядом, и к адресатам. Все, что Даниэль пишет – и об Искусстве тоже, – конечно, о любви. Да, любить (именно вот так – по отдельности и в подробностях), слышать в письмах любимые голоса, было необходимо, чтобы жить. Чтобы объяснить, почему все это так, Даниэль не цитирует, не пересказывает, а просто ссылается – на «Письмо заложнику» Сент-Экзюпери, вещь, неожиданно обретшую острую актуальность через четверть века после написания:
Главное, чтобы где-то сохранялось то, чем ты жил прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный воспоминаний. Главное – жить для того, чтобы возвратиться.
В каком-то смысле вся книга Даниэля – только о любви. Нет, «о любви»– тоже не точно. Может, дело в том, что такие письма и есть сама любовь (а не «о любви»)?
Надобно вам знать всем, что мысли мои большей частью – о вас. Это получается само собой, за пять лет вы все так вошли в мою жизнь <…>– что я уже не могу получить впечатление, чтобы не вспомнить того или другого. Прочитанная фраза, увиденная репродукция, несколько тактов музыки по радио, рябь в луже на прогулке – все как-то связывается с кем-нибудь, зачастую не прямо, а с изгибом, скачком.
Как определить эту любовь: желание не оторваться от жизни, спастись, желание представить облик любимых, тревога за них, ответственность за них? Очевидно, все вместе. Постепенно в этом заботливом устремлении к людям начинает чувствоваться что-то, похожее на отцовство: автор пишет друзьям и родным (в том числе сыну) так, будто все они его дети. Может быть, ощущение это возникает от дистанции, от самоуглубления, о котором писала Галина Медведева, а может, отцовство – просто самый всеобщий вариант любви:
Ужасно не хочется начинать с жалоб, но я просто вне себя от беспокойства. Вот уже две с лишним недели я не получал ни единой строчки, ни от кого. <…> И снова сердце ноет – буквально. И сделать ничего, ничего не могу. Весь день я жду шести часов вечера – письма обычно приносят в это время, – а оставшиеся пустые часы уговариваю себя, что уж завтра-то непременно получу. Я не знаю, понимаете ли вы мое состояние: я чувствую, что я здесь нахожусь в полной безопасности от болезней, катастроф, всяческих несчастий и передряг; а вы там, в этом опасном, опасном, опасном мире беззащитны, уязвимы со всех сторон.
Тут уже нельзя заподозрить автора даже в самой благородной корысти: любить, чтобы жить. Или это аберрация тюремного сознания (я защищен, а вы в опасности)? Или конкретный страх, как бы кого не арестовали? Все вместе, но еще и что-то другое.
Именно это особенное «отцовство» определило для Даниэля его историческую роль:
Грустно все это и тяжело; ребята меня дружно успокаивают, не дети, мол, все эти люди, знали, что делали, вы, мол, тут уже сбоку припека, а я все возвращаюсь к мысли, вернее, к вопросу «Стоит ли то, что я сделал, чужих судеб?».
Более подробно под цензурой писать нельзя, но тогда и так адресатам все было понятно. Сын комментирует эти строки:
Поводом для этих размышлений стали <…> известия о событиях на воле, где усиливались репрессии против участников правозащитного движения. <…> В дальнейшем Ю.Д. часто возвращался к этой теме. Он и раньше понимал, что «дело Синявского – Даниэля» стало катализатором определенных социально-политических процессов в стране. Однако теперь к его оценкам начинают примешиваться размышления о собственной трагической, хотя и невольной причастности к исковерканным судьбам людей, решившихся (в определенном смысле – вслед за ним) противопоставить себя репрессивному механизму государства. Эти мысли не оставляли Ю.Д. и после освобождения.
О своей любви к корреспондентам Даниэль писал немного, точнее, непрямо. Но зато как он просил, чтобы его любили!
Я ведь знаю, что меня любят. Наверное, я иначе не смог бы жить, умер бы в самом буквальном смысле этого слова. Это не значит, что я привык к этому чуду, – просто оно длится почти всю жизнь. <…> меня надо только (только-то!) продолжать любить.
И он был прав, поставив иронические скобки и восклицательный знак! Он знал, что именно при сложившихся обстоятельствах как раз это нелегко: «Мой скулеж не результат дурного настроения, не временное. Я об этом думаю не переставая уже два года. И если раньше я лишь вздыхал втихаря, то теперь, когда «тысячи биноклей на оси», когда самый характер отношения ко мне – по сути своей требование, непременная уверенность и в профессиональных моих возможностях, – теперь мне приходится очень несладко. <…>. Нужен ли я хоть кому-то – просто так, как раньше?»– этот вопрос и впрямую и немо звучит тоже на протяжении всей переписки Даниэля. Страшный для него вопрос. Любить просто так, ни за что, таким, как я есть, не борцом, не писателем, не поэтом, – на это способны ли вы, мои возлюбленные? Недаром так тосковал он по лагерному другу Анатолию Футману:
Наверно, на белом свете есть лишь один человек – из числа моих друзей, приятелей и знакомых, – которому решительно наплевать, прозаик я или поэт, талантливый или бездарный, безвестный или знаменитый, Даниэль или Аржак.
Казалось бы, цитадель выстроена (точнее, существует, никто ее сознательно не строил): поэзия, которая всегда побеждает; любовь как сила притяжения к теплому пространству людей; их любовь «просто так, как раньше»– как ожидание, надежда. Но именно эта последняя башня, самая главная, будто бы готова дать трещину в любую минуту. С первых же писем начинается тревога, перерастающая к концу срока в страх, быть может, более мучительный, чем все внешние и внутренние унижения: «Как людям хочется, чтобы человек был похож на то, что он сделал! Ну, дудки, я не собираюсь вытягивать шею и подпрыгивать вровень со всей этой заварухой» (1966). Из человека постепенно делали героя, раба своего поступка, своей исторической миссии. Ну, дудки! Кто? Друзья, друзья друзей, московские либералы, КГБ, история? Неизвестно. Но так вышло. Для Даниэля это и значило смерть – обрыв связей. Постепенно он становился лирическим героем собственных писем, которые не только читались вслух, но и переписывались и широко распространялись – а предназначены были только конкретным людям:
Теперь я все понял. Мои письма – это литература, эпистолярный жанр, их можно рассматривать вообще и в целом, и совсем не обязательно отвечать на мои вопросы – их можно рассматривать как риторические, как литературный прием. И если меня интересует, скажем, здоровье Володьки Воронеля или литературные дела Елены Михайловны [Закс], – это вовсе не значит, что мне нужно получить ответ именно на эти вопросы, – нет, это всего лишь детали, дополняющие образ лирического героя повести в письмах. <…> Уф! Я отворчался…
Ни от чего он так не отбрыкивался, как от геройства и мученичества:
Я не допускаю мысли о том, что вся моя жизнь – бездарно проживавшаяся, яркая, счастливая, жизнь в хандре и восторге, бездельная и творческая – что вся эта жизнь была всего лишь приготовлением к некоему испытанию. Рассматривать эти 5 лет как какую-то предначертанную и вожделенную кульминацию глупо и нескромно. <…> И я не позволю <…> ставить эти 5 лет эпиграфом к тем годам, которые я еще проживу.
А ведь мы должны признаться, что почти так и вышло. Мало того, эти пять лет стали эпиграфом и к предыдущей жизни Даниэля. Что о нем знают, кроме того, что его посадили вместе с Синявским и это был первый после Сталина крупный политический процесс? Одна московская девушка, когда ей предложили почитать «Письма», ответила: «Я не интересуюсь историей диссидентского движения»… По свидетельству Галины Медведевой, некая дама заметила: «Даниэль? По-моему, это блеф». То, чего так боялся он при жизни, произошло теперь. И правда – что, какие следы остались от человека? Кому-то может нравиться проза Николая Аржака, кому-то стихи Юлия Даниэля, узника мордовских лагерей, кто-то ценит переводы Ю. Петрова. А если бы не опубликовали эти письма? Да вот они и опубликованы, и что дальше? О них пишут лишь те, кто знал автора. Умерли бы и они – и жизнь Даниэля прекратилась бы? Человеческая жизнь в чистом виде— любовь «просто так», обаяние, остроумие, любовь к домашним животным, к пересказу фильмов – все это так неуловимо, что для иных, требующих доказательств, и вправду похоже на блеф. Но это уже наша беда. Что же касается Даниэля, то для него смертью и было превращение в оракула, персонажа, героя (лирического или исторического) – все равно. И это, на мой взгляд, составляет самую важную интригу «Писем».
Если бы вы дали себе труд внимательно читать мои письма, вы прочли бы мой вопль: «Не выдумывайте меня! Не идеализируйте! Мне от этого плохо и страшно».
Важность этих строк почувствовал рецензент, назвавший свою заметку о «Письмах»«Не выдумывайте меня!»[9]. Ритм их получился почти стихотворный. Ср. у Бродского в «Ночном полете»:
- И услышишь, когда не найдешь меня ты
- днем при свете огня,
- <…>
- и – внехрамовый хор – из динамика крик
- грянет медью: смотри!
- Там летит человек!..
Эта цитата – тоже из «эпохи до Синявского и Даниэля»– наталкивает и еще на некоторые размышления. И стихотворение Бродского, и все цитаты из Даниэля, и Сент-Экзюпери, к которому Бродский и Даниэль отсылают, несут в нашем сознании отпечаток той самой эпохи. И девушке, не интересующейся диссидентским движением, и даме, сказавшей о «блефе», и, боюсь, очень и очень многим современным читателям, в основном молодым, эпоха эта – с ее сентиментальностью, ленью, желанием счастья, лирикой, а главное, с ее насущной потребностью в человеческом тепле («средствах связи в гигантском и прекрасном значении этого слова»), да и с самим Даниэлем, – покажется бесконечно ненужной и чуждой. А, шестидесятники… Окуджава… Вот и весь разговор.
Если кто-то хочет что-то узнать про эту эпоху, пусть читает «Письма»:
Ну это как кивки друг другу с эскалаторов метро: «Привет!»– «Привет!»– и разъехались. Ни он, ни я не стали бы тратить пятак, чтобы тут же встретиться. А ведь есть же люди, чьего голоса ради я перемахнул бы с одной лестницы на другую, сшибая по пути светильники.
Это написано в 68-м году. На воле это стремительно уходило в историю, в лагере – тоже. Оставалось только в сознании автора. А может, этого никогда и нигде, кроме как там, не бывает вообще? И нужно ли это нам теперь? Поставим вопрос по-иному: уходят ли эпохи? «Что остается от сказки потом, когда ее рассказали?» (песня Высоцкого спластинки «Алиса в стране чудес»). В чем остаются эпохи? В зрительной, оптической памяти, как у Набокова, способные говорить только с одним-единственным человеком – а потом, преобразованные мастерством, навеки обреченные остаться приколотой бабочкой на всеобщее обозрение? В литературе? Или еще в чем-то ином, неуловимом и безусловно неповторимом, как эти письма? И для кого остаются?
Вопрос сводится вот к чему. Есть Даниэль – историческое лицо, тот, кто позволил себе то, чего не позволили другие, был судим, отсидел срок, поднял волну диссидентского движения, в корне изменил общественное сознание, в конце концов способствовал крушению тирании, жил переводами, оставил после себя несколько произведений, умер в декабре 1988. Этот Даниэль принадлежит истории как потоку, последовательности причин и следствий.
И есть тот самый ускользнувший Даниэль, который говорит с каждым из читателей в письмах (и со страниц «Писем»). Тот, который живет. Живет вопреки своему двойнику, историческому лицу, лирическому герою. Где же он живет? Ответ для меня такой: его эпоху я уже не смогу представить без него. Без писем Даниэля (как, впрочем, еще без нескольких вещей) она теряет не только обаяние, притяжение, – она как явление массовое, причинно-следственное, теряет свой смысл и оправдание и сводится к типологии: «шестидесятничество». Физики, лирики… И это действительно никому не нужно. Нужно, насущно необходимо именно то, в чем живет голос, откуда он слышится. И горе той эпохе, которая не оставит себе подобного оправдания.
Я замечаю, что в разных жизненных ситуациях спрашиваю себя: а как бы Даниэль отнесся к этому? И еще – как это бывает с очень немногими книгами – «Письма» дарят полную уверенность, что с тобой ничего не может случиться. Кроме того, я не могу избавиться от впечатления, что письма эти написаны только что, и даже я сам – среди адресатов. И вместе с тем, острота и радость переживания мира – внешнего и внутреннего, ясность, всегда мимолетный юмор оставляют ощущение неслучайности и всеобщности написанного (как в самом настоящем искусстве). Даниэль часто задумывался над этим жанром:
Я хотел бы, чтобы к ним относились именно как к письмам. Наверное, я все-таки писал бы их иначе, если бы адресовал «urbi et orbi». А коли это письма, то какого черта я буду заботиться о стиле? Ну, «красивости», ну, «литературщина», ну, «пушло» ну и что? А может, у меня такое настроение было изысканно-воздыхательное? Что ж мне теперь – черновики, что ли, составлять, а потом правкой заниматься?
Да, он писал отдельным людям, писал, зная, что прочтут не только эти, но многие, писал спонтанно, принципиально спонтанно. Но когда сейчас читаешь эти письма, поражает в них именно сочетание полной интимности, контекстуальности, случайности всего – и смысла, музыки, интонации, напряженности, веселья, – выходящих за рамки всякого контекста. Впрочем, критик, заскучавший от носков, вряд ли со мной согласится. Но сам я никогда ничего подобного не читал. Почему так получается?
Зная Юлия Даниэля, пластичность и гибкость его характера, его образ жизни, сводившийся, казалось, исключительно к непрерывному общению, так что непонятно было, когда он, собственно говоря, работает, кто бы мог поверить, что главное содержание его жизни – это преодоление одиночества? <…> В жизни Юлий Даниэль сражался с одиночеством, буквально растворяясь в друзьях – близких и далеких. Коммуникабельность была не просто исключительным свойством его характера, но средством спасения. И не только собственного: всю жизнь его преследовала память о «глухонемой поре» (метафора из поэмы «А в это время…»), эпохе всеобщего недоверия и разобщенности. <…> Когда же он был насильственно вырван из привычной среды и отделен от нее колючей проволокой, – инструментом преодоления стали письма. <…> Сам того не осознавая, Юлий Даниэль нашел то, чего искал: собственный жанр, в котором слово возвращается к своей первоначальной функции: непосредственной коммуникации. <…> Чтобы жить естественной и свободной жизнью, Юлию Марковичу не нужно было прилагать никаких усилий, – он таким родился. Чтобы достичь подобной свободы в прозе, ему достаточно было вовсе перестать быть писателем и превратиться в «отправителя», человека, полностью вверяющего бумаге не литературный замысел, а самого себя
(А. Даниэль).
Мы возвращаемся к исходному пункту: не литература, а сам человек. Того же он требовал от других:
…И в других письмах я заметил ту же осторожность: не обидеть бы, не растравить бы. Не взволновать бы… В результате я, может быть, лишаюсь драгоценной для меня доподлинности – самой сути моего корреспондента.
Невероятно, как неуловима, не сводима ни к каким формулировкам – и вместе с тем, как очевидна эта «доподлинность» у самого Даниэля. Именно она, быть может, заставляет обращаться к нему сейчас с вопросами, как поступить, радостями, жалобами («из меня вышла бы идеальная жилетка», – писал он). Только «доподлинность», пробив время, расстояние и холод, может спасти от одиночества. Одиночество, существование вне людей, вне любви и было для Даниэля не-подлинностью, литературно-героической фальшивкой, не-жизнью.
Ради чего письмо, разговор, любое разделенное чувство пробивает одиночество? Что для Даниэля было на противоположном конце этого страха? Сам я много раз назвал это «жизнью». Кажется, у Даниэля терминология точнее (он говорит о родителях одной из своих корреспонденток):
Я сентиментален, да? Ну и наплевать. Очень мне хорошо бывало у них, жаль, что редко. Такой умиротворенности и одновременно бодрости я, пожалуй, ни в одном доме не испытывал. Как будто оставались за дверью все раздиравшие меня страсти-мордасти, и способен становился увидеть и почувствовать то, о чем я так мечтаю и чем никогда не буду обладать, – чистую человечность.
Это не случайное выражение. Оно в письмах повторяется. О чем бы Даниэль ни писал: о соприкосновении автора и читателя (отправителя и адресата?); о том, что его надо только (и только-то) любить; о том, что стихи и все прочее – только иллюстрация к нему, Даниэлю; о том, что и в зоне, и в искусстве его интересует только человек, «обо всем южном, первобытном, смутном, что есть во мне», об играющих в снежки зеках, о лицах и голосах друзей за морозным окном, – везде он пишет именно о «чистой человечности», вернее, она (или стремление к ней) наполняет его слова.
Несколько часов назад я слушал музыку: Бах, Равель и другие, не менее серьезные. <…> Представьте себе (аппарат постепенно отступает, в кадр попадают новые детали): сначала небо, голубовато-серое, низкое, холодное, очень грустное; потом березы, высокие, стоящие негустой рощицей, с просветами, в которых тоже небо, только посветлее; потом забор, поверх которого и перед которым геометрические узоры проволоки – параллели, равнобедренные треугольники, трапеции; потом окно с зеленоватой рамой и крошечными занавесками-шторками (жалкая попытка создать видимость уюта); потом – сидящие мы, остриженные, в ватниках и спецовках, в сапогах и грубых башмаках. Вы знаете, я ничего в музыке не смыслю; торжественно-парадная обстановка концертов настраивала меня на несколько иронический лад, и вообще любой концертной музыке я предпочитал доморощенный вокал под гитару. Ну, за исключением двух-трех вещей: «Пер Гюнт», «Сказание о граде Китеже» и др. А вот здесь я, по-прежнему ничего не понимая собственно в музыке, вдруг почувствовал ее абсолютное бескорыстие, совершенную несвязанность с искусством злобы дня (пусть даже настоящим искусством). Чистая человечность – вот какое у меня было ощущение.
Впервые здесь, в самом начале лагерного пути, весной 1966 года, Даниэль, кинематографически изображая «чистую человечность», упоминает «Пера Гюнта». В 70-м, в камере Владимирской тюрьмы он услышал «Пера Гюнта» по радио.
Выключили радио, хожу по камере и бормочу: «Сольвейг, о Сольвейг, о солнечный путь…» И вдруг Виталий Габисов [сокамерник. – Б.Р.], не поднимая головы от шахмат: «Дай мне вздохнуть, освежить свою грудь…» Славно, правда?
У меня ощущение, что это одно из самых светлых мест в письмах. Очевидно, субъективное: очень редко сейчас случайный собеседник продолжит любимое тобой стихотворение. Но что-то тут есть и большее. Даниэль объясняет, чем ему так дорог «Пер Гюнт»:
Как-то они меня всю жизнь сопровождают, Ибсен и Григ. Драму я прочел где-то 11–12-ти лет и влюбился в нее, еще ничего не понимая. Потом появилась «Песня Сольвейг»– в исполнении моей мамы. Потом – стихи Блока. Потом – сразу после войны – снова Григ в концертном исполнении: 2–3–4 раза! (Это при том, что я на симфонических концертах был раз десять в жизни.) Пера читал и очень запомнился Глумов, потом, кажется, Аксенов, Озе, в последний раз – Коонен. И летом 65-го – снова «Песня Сольвейг»; очень мне тогда было худо, и так хотелось «самим собою быть», и так не верилось, что был самим собою в чьих-то мыслях. Я ведь тоже, как Пер, наткнулся когда-то на Великую Кривую и – «Сторонкой, Пер Гюнт, сторонкой!».
Странно, какими простыми словами пересказывает Даниэль здесь, быть может, основную драму (трагедию? коллизию?) своей жизни. Вероятно, рассчитанными на знание и Ибсена, и музыки Грига, и стихотворения Блока… Здесь все, о чем эта статья: и «замерзшие окна», и «самим собою быть», и «Великая Кривая», и чистая человечность – полное бескорыстие музыки. Здесь вся жизнь, снова как смутный пересказ фильма с музыкальным лейтмотивом. Нет здесь одного, того, что, наверное, казалось и так понятным:
предсмертной встречи Пера Гюнта с пуговичником, отказавшим ему в личном бессмертии. «Ах, ты всю жизнь хотел «самим собою быть»?
Но чем ты отличаешься от прочих? Пойдешь в переплавку, как негодная пуговица». И единственное, напомню, что спасает Пера, – любовь Сольвейг. Круг замыкается, мы снова слышим почти что крик:
«Не придумывайте меня! Только (и только-то!) любите меня!» Теперь это обращено и к нам, нынешним читателям.
История – это не то, что было когда-то. История – это то в мире, что нас лично касается. История – это люди, чьи голоса мы слышим сквозь холод времени. И поэтому «эпоха до Синявского и Даниэля» не кончилась.
Зло в истории необычайно однообразно. «Новизна скверных или страшных ощущений уже запрограммирована в нас всею предыдущей жизнью – она уже, собственно, не новизна» (письмо 1967 г.). Во все времена и всеми имеющимися средствами (тоже не слишком разнообразными): острыми, тупыми, механическими, электрическими, термическими, экономическими, информационными – эта слепая сила добивается одного – чтобы люди не жили, не слышали других, не отвечали ни за что, не знали подлинной радости и грусти, отдавали бы все за то, чтобы уцелеть и по возможности возвыситься в собственных и чужих глазах. Дальше начинаются убийства – открытые и закрытые. Но есть иное. «Поражают новизной в буквальном смысле слова лишь ощущения, связанные с наслаждением: любовь, полет, плавание, еда и т. п.» (оттуда же).
Когда я читал письма, казалось: вот прямо сейчас все изменится, услышав этот голос, люди наконец услышат друг друга и себя сквозь безумие последних лет. За равнодушием, унынием, страхом, яростью – и в застольных беседах, и в сводках новостей, и на научных конференциях – мне видится лишь одно: распадение человеческих связей, всемирное похолодание. Много ли людей прочтут тысячу страниц писем Даниэля? Судя по приведенным мнениям читателей – реальных и потенциальных – нет. Ничто не растает. Кто не собирался читать – не прочтет. Многие не дойдут до конца из-за тех же «носков».
Судя по всему, письма эти – «средства связи в гигантском и прекрасном значении этого слова» – обречены вдвойне. Они – не литература, а адресаты давно их прочли, и не тургеневские сейчас времена, чтобы перечитывать. Но какое нам дело? Главное, что они у нас есть. Или мы у них.
«Выиграем мы с тобой»[10]
Несостоявшееся предисловие к двум последним романам Домбровского
Роман «Обезьяна приходит за своим черепом» закончен в 1959. Полтора года автор занят переводами. «Хранитель древностей» начат в 1961, а в 64-м уже появляется в «Новом мире» (номера 7–8) с подзаголовком «повесть». Роман вообще на какой-то стадии назывался «Алма-Атинская повесть». А.С. Берзер утверждает, что первоначальное название романа было «Хранитель древности». Об этом велось много споров, но вариант множественного числа победил. Один раз, однако, роман вышел как «Хранитель древности», как бы восстанавливая авторский замысел (Юрий Домбровский. Хранитель древности. Факультет ненужных вещей. М.: «Книжная палата», 1990). Мне все же думается, что с множественным числом – менее патетическое, взятое из таблички над входом в кабинет Хранителя название было первично в замысле Домбровского. Это подтверждает и вдова писателя – К.Ф. Турумова-Домбровская. Вообще под редакторским карандашом А.С. Берзер и с советами Твардовского «Хранитель…» претерпел большие изменения. Здесь важна была не только цензурная «проходимость». Важны были требования вкуса, выработанные «Новым миром» в эпоху оттепели. Было много компромиссов, но в целом Домбровский остался доволен, и мы можем предположить, что правка во многом пошла роману на пользу. Тут же Домбровский заключает с «Новым миром» договор на продолжение «Хранителя…»– роман «Факультет ненужных вещей». Многие ожидали, что роман будет о лагере. Но Домбровский считал эту тему после Солженицына исчерпанной. Его интересовало другое. Под текстом романа стоят даты: 10 декабря 1964 – 5 марта 1975. Он не умел писать в стол: после публикации «Хранителя…», не включившей в себя по цензурным соображениям отрывок о лагере – «Баня» («Из записок Зыбина»), очень быстро становится ясно, что «Факультет…» в ближайшем будущем в СССР не выйдет. Домбровский передает роман для публикации на Запад. «Факультет…» выходит во Франции в 1977. В 1958 за такое прорабатывали, в 1966 сажали, в конце семидесятых – убивали. Домбровский понимал это. Об этом – рассказ «Ручка, ножка, огуречик». Он шел на смерть и принял ее, едва успев увидеть роман напечатанным.
«Вот помню такое: однажды из темной одиночки (стена, стена, железная дверь, полоска окна, а вверху постоянно горящая мерзкая желтая лампочка, прямо как колба со скрюченным червяком) меня вызвали в кабинет к начальнику тюрьмы, и я впервые за этот год увидел в окно огромный тополь в листьях и солнечных лучах.
Понимаешь, меня просто поразило – эта живая масса листьев, это невероятное богатство природы после моей скудости – ведь она не пожалела миллионы листьев – законченных, отделанных, прекрасных для одного дерева, – и все они шуршат, движутся, живут – это было так несовместимо с 3 метрами, с 4 стенами и двумя красками – черной и серой, – что я, когда меня о чем-то спросили, очень долго не мог ничего ответить – просто был сбит с толку этим богатством.
Зыбин сел и чуть не вскрикнул. Окно было большое, полное солнца, и выходило оно на тюремный двор, в аллею тополей. Тополя эти посадили еще при самом основании города, когда тут была не тюрьма, а просто шла широкая дорога в горы, и вдоль ее обочины и шумели эти тополя.
И Зыбин растерялся, сбился с толку перед этим несчитанным богатством. Веток, сучьев, побегов. Все они шумели, переливались, жили ежеминутно, ежесекундно каждым листиком, каждым отросточком, каждой жилкой! Они были веселые, свободные, живые. И ему, в течение стольких дней видевшему только серый цемент пола, да белую лампу в черной клетке, да гладкую стену цвета болотной тины, на которой глазу не за что зацепиться, – это сказочное богатство и нежность показались просто чудом. Он уже и позабыл, что и такое существует. А ведь оно-то и есть самое главное.
Это отрывок из письма Домбровского 1960 года и фрагмент из «Факультета ненужных вещей», начатого пятью годами позже. Сравним их и попробуем составить представление о том, как жизнь становилась у Домбровского литературой. Первое: очень близко, очень похоже. Сходное цветовое противопоставление: серый и черный в письме, а в романе – серый, белый, болотная тина, свет солнца. Цвет тополя не называется. Назвать его – значит ограничить световое богатство, противопоставленное «моей скудости». Взволнованная, удивленная интонация письма повторяется в рассказе от третьего лица, повторяется ритмически: «законченных, отделанных, прекрасных для одного дерева, – и все они шуршат, движутся, живут» – «жили ежеминутно, ежесекундно каждым листиком, каждым отросточком, каждой жилкой! Они были веселые, свободные, живые». Равносильное изумление. И от этого изумления все окружающее – тюрьма, следствие, допрос – становится неважным. Разница письма и романа вот в чем: в романе реакция Зыбина осмысливается философски. Рядом с переживанием («…показались просто чудом. Он уже и позабыл, что и такое существует») дается сентенция – и не совсем ясно, чей это голос, героя или автора: «А ведь оно-то и есть самое главное».
Ха, скажут, да этот тополь (ну или какое-нибудь другое дерево) какой только узник не видел из окон начальства: от героини Евгении Гинзбург до набоковского Цинцинната. Дерево за окном – почти бессознательный символ жизни и свободы, это, конечно, так. Но вопрос: может ли благодарность за это «богатство» затмить все происходящее, преобразиться в свет, сделаться «самым главным»? Только Домбровский и только его герой умеют так изумляться жизни, что способны забыть ради нее о смерти, которая их обволакивает и затягивает.
Домбровский умел удивляться, как никто другой; он не умел привыкать к несправедливости, а красоту мира и чудо жизни видел каждый раз заново. Главное в том, как жизнь переходит у него в литературу, – живописная фиксация и философское осмысление. Вот как будто бы два главных свойства прозы Домбровского: живописность и философичность. Но… почему тогда не драматичность? Не драматичен ли сам контраст «белой лампы в черной клетке» и «сказочного богатства»? А почему не лиричность – ведь именно «нежность показались просто чудом»? Из каждого фрагмента прозы Домбровского можно вытянуть что угодно. А я сосредоточусь все-таки на главном, что выделяет его прозу на фоне литературы шестидесятых – семидесятых и сближает с литературой двадцатых: она все-таки очень умная.
В 1959 году Н.Я. Берковский, читавший еще только «Обезьяну…», писал Домбровскому: «Вы владеете почти несуществующим в современной нашей литературе “интеллектуальным жанром”. <…> Я раньше стоял за “чувственную” литературу, “живописную”, – по-толстовски, по-бунински, по-гамсунски. В последнее время стал сомневаться в хорошей ее роли у нас и для нас. <…> Вы, по-моему, из тех, кто призван, работая умным инструментом, произвести некоторое смятение среди <…> авторов лапотно-лопатного стиля».
«Умный инструмент», «интеллектуальный жанр»… Здесь уже какой-то намек на литературную родословную. Что о ней говорит сам писатель? Первый роман Домбровского – «Державин»– написан, как признается писатель, под сильным влиянием Тынянова:
Да, я очень, чрезмерно даже тогда любил Тынянова, он меня даже потряс так, что я потерял вкус ко всякой иной современной прозе: она мне казалась пресной. В Тынянове меня поразила великолепная отточенность стиля. Его почти научная отточенность стиля. Его почти научная точность и четкость. Синтаксическая простота и ясность. Холодная бесстрастность автора. А больше всего то, что автор о самых простых обыденных вещах говорит в высшей степени необычно. Все у него на пределе, на втором дыхании, и герои действительно делают совсем не то, что от них ожидаешь, им бы радоваться, а они тихонько кусают губы, им бы взвыть, а они смеются. И в этом вся их сила. Да! В высшей степени необычайные и непонятные люди населяли книги Тынянова.
Эта драматическая сложность останется с Домбровским навсегда, особенно ясно она читается в «Обезьяне…», ее почти нет в «Хранителе…», но зато она снова появляется в «Факультете…» Да, именно на допросах герой Домбровского становится вот таким вот эксцентриком – тыняновским Грибоедовым, и это как раз и бесит больше всего следователей.
Но, быть может, гораздо сильнее с годами проявлялось другое влияние Тынянова: «Смерть Вазир-Мухтара» – повествование не только о герое, но и об эпохе, в которую вброшен человек эпохи предыдущей, рассказ о предательстве и героизме. «Смерть Вазир-Мухтара» (1927), так же, как и многие произведения рубежа 1920-х и 1930-х годов, когда Домбровский учился на Высших литературных курсах, – история о человеке, пережившем свою эпоху: таковы «Зависть» Олеши, «Спекторский» Пастернака, «Повесть непогашенной луны» Пильняка, «Козлиная песнь» Вагинова, «Мишель Синягин» Зощенко.
Хранитель и Зыбин, подобно Грибоедову у Тынянова, сложились, прожили юность в революционную эпоху 1920-х годов – с разницей в столетие. 1920-е навсегда засели в памяти Домбровского и во многом создали его как писателя. Воплощение их в «Хранителе…» и «Факультете…» – директор музея. С каким восторгом пишет о нем Домбровский:
В двадцатые годы в рабочие клубы, школы взрослых, просто библиотеки и столовки пришло целое поколение этаких-разэтаких молодых, задорных, красивых, голосистых командиров. В течение нескольких часов они начисто разделывались с Богом, попами, церковью, самогонщиками, кулаками, спекулянтами и кончали свою лекцию показом какой-нибудь картины, такой же залихватской, отчаянной и веселой, как и они сами. (Ну, например, «Комбриг Иванов» – 1924 года. Комбриг пленяет своей громоносной антирелигиозной лекцией в клубе дочку попа и увозит ее на кавалерийском седле. И вот ведь великая культура гражданского стиха двадцатых годов! Все титры в картине были написаны стихами!) <…> Они вошли в нашу жизнь так же плотно, как входили расписные агитпоезда с зелеными драконами и мускулистыми рабочими кумачового цвета, как Окна РОСТА, карикатуры Моора, красочные плакаты Маяковского.
Революцию Домбровский любит за то, что она – праздник, молодость, цветение.
Восторженно-широкими мазками пишет он толпу пугачевцев в «Державине», шествие повстанцев в «Смуглой леди». Но ближе всего ему Великая французская революция. Зыбин – знаток ее. Когда Зыбина арестовывают, Корнилов уверен, что Зыбин столкуется со своими следователями – «защитниками революции». Как он наивен! По отношению к революции на одной доске оказываются «ангелы» из «серого домика», выписывающие литеры «КРД» и «КРТД», и настоящий контрреволюционер Корнилов, сделавшийся осведомителем. Все они революцию – подлинную, веселую, радостную, освещенную верой в человека, – ненавидят. ««Дрянь и мерзость всяк человек», – сказал Гоголь, вот это точно! – впадает Корнилов в истерику. – Так оно и есть! Тряпка рваная больше стоит, чем человек! Навоз и то удобрение, и то больше – его не бросают зря». И в этой имперской идеологии он согласен со Сталиным. Раз человек мерзость и дрянь, то не мерзость только сила, кулак, государство. Эта мысль является еще в «Обезьяне…»
Если в шестидесятые революционная вера в человека была понятна и близка и читателям, и редакторам «Нового мира», то в семидесятые, в эпоху под знаменем «Мастера и Маргариты», революционность Домбровского в «Факультете…» похожа чуть ли не на фронду. В «Факультете…» все – вызов, начиная с цитаты из Маркса, предваряющей роман. Домбровский шел против настроения, отвергавшего все, случившееся с 1917 года. Люди вокруг отказывались от рационализма в пользу христианской мистики или, к примеру, буддизма. Но только не Домбровский. Лозунг «Свобода, равенство и братство» был навеки скомпрометирован. Но только не для Домбровского.
И рассказчик в «Хранителе…», и Зыбин, как и Вазир-Мухтар, – революционеры без революции. Их революционность замечательно почувствовали полномочные органы, сделав именно Зыбина, а не Корнилова узником. Революционность эта не от ума. Она органическая, она от юности. Она – все в тех же авторских свойствах Домбровского, перенесенных теперь на героя: в умении удивляться миру, его вечной причудливой новизне. Она – в неумении мириться с несправедливостью.
Тут, наверное, стоит сказать об отношении Домбровского к первой публикации Солженицына, ведь Иван Денисович, воплощение народной мудрости, – по сути противоположность интеллигентам Домбровского. Сперва в письме 1962 года: «Я бы назвал <рассказ> «Платон Каратаев в лагере». Впечатление у меня двойственное. Это, конечно, только правда, одна только правда, но никак не вся правда. <…> Человеческая плазма, конечно, состояла из подобных Иванов Денисовичей, но лицо-то лагеря делали никак не они, они и там были нулями, и сказать об этом необходимо. Впрочем, мастерство автора, его писательская зрелость, точность глаза и слуха, умелость – неоспоримы». А вот из другого письма, написанного через два года, когда Домбровский заканчивал «Хранителя…»:
И<ван> Д<енисович> шестерка, сукин сын, «каменщик», «каменщик в фартуке белом», потенциальный охранник и никакого восхваления недостоин.
Что так взбесило Домбровского? Кроме очевидного противопоставления народ/интеллигенция – уголовники/политические. В чем главное отличие Хранителя/Зыбина от Ивана Денисовича? Герой Домбровского – борец за справедливость. Обычно, говоря о героической стойкости Зыбина, вспоминают цитируемые им слова Державина «потомство – строгий судия», и если он, Зыбин, наговорит на себя – тут и придет ему «карачун». Но мне хочется вспомнить другую мысль Зыбина, возникающую у него еще при первом, свидетельском допросе в милиции:
С бандитом можно, а с товарищем Зыбиным нельзя. С ним надо по закону. А, собственно, почему? <…> Слушай, сейчас тебе будет оченьтрудно. Тыужэтопочувствовали заюлил. Таквотпомни: если с бандитом можно, то и с тобой можно. А с тобой нельзя только потому, что и с бандитом так нельзя. Только потому! Помни! Помни! Пожалуйста, помни это, и тогда ты будешь себя вести как человек. В этом твое единственное спасение.
Эти слова, восходя к идее Равенства, в данном случае – равенства всех перед законом, объясняют, на мой взгляд, гораздо больше в позиции Зыбина, чем разговор о потомстве. Здесь то, о чем писали мало. Юридическая линия романа, как ни крути, – главная, она заявлена в заглавии. В первый раз слова «факультет ненужных вещей» звучат на допросе в милиции. Их произносит следовательша, и имеет в виду она именно право. Не культуру вообще, не человечность, а именно право. Уголовное и гражданское. Законность. О нарушении закона – исследование судилища над Христом. Ни Солженицын, ни Шаламов, ни Евгения Гинзбург, ни Лидия Чуковская, ни Набоков, ни Кестлер, ни Нароков – никто не видел именно в падении права самую главную катастрофу советской, да и всякой иной, истории (Солженицын со своей критикой 58-й статьи – до некоторой степени исключение, но право все же никогда не было главным для него). И причина тут не только в том, что отец Домбровского/Хрантеля/Зыбина был присяжным поверенным. Очевидно, и автор, и его герои видели в равенстве людей перед законом величайшее достижение цивилизации. Да, это странно. Не в соборе Зенкова, не в золотой диадеме, а в праве. Потому что право охраняет личность, выше которой для автора и его героев ничего не существует.
Но все же и зенковский собор, и диадема, и череп красавицы-колдуньи, и Зеленый рынок каким-то непостижимым образом связаны с главным сюжетом обоих романов – наступлением бесправия на человека и героическим сопротивлением человека этому бесправию. Возможно, так же, как Персия связана с судьбой России и с судьбой Вазир-Мухтара. И Тынянов, и Домбровский переносят действие своих романов на восток, в экзотическую страну. Здесь все не так, как в столице, здесь, среди удивительных красок удивительного города (у Тынянова – зловещего, у Домбровского – прекрасного), лучше, яснее проявляется сущность человека и эпохи.
Но полно, не увлеклись ли мы литературными параллелями? Разве не жизнь доставила Домбровского в Алма-Ату, разве не в жизни он пережил там три ареста и три следствия? Разве не написана значительная часть обоих романов в Алма-Ате, куда Домбровский постоянно возвращался, живя в Москве? Разве не просто автобиографичностью и любовью к Алма-Ате продиктовано место действия «Хранителя…» и «Факультета…»?
Тут как с Гоголем и Малороссией. Точно так же, как Гоголь открыл ее русскому читателю в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде», Домбровский открыл Казахстан в двух романах, во многочисленных переводах и в книге о казахских художниках. Что в XIX веке похоже на описание Зеленого рынка в «Факультете…»? Конечно, Сорочинская ярмарка. Алма-Ата в «Хранителе…» и «Факультете…», точно так же, как Малороссия у Гоголя, – страна полноты жизни и одновременно место обитания нечистой силы («в сером домике»).
Так вот, о нечистой силе. После публикации «Хранителя…» Домбровскому приходило много писем. Среди них такое:
Уважаемый Юрий Осипович! Лет 8 либо 9 я читал гоголевскую «Страшную месть» – вот натерпелся страха. С тех пор прошло почти 60 лет, и никакая книга так не пугала. А вот теперь, когда я читал Вашего «Хранителя», покрывался холодным потом.
А другое – от Берковского:
…Обнаруживается сквозной подземный ход от зверств страшной древности до времен самоновейших; прекрасны последние страницы, последняя алма-атинская ночь. Эти страницы – поэзия в характере «Страшной мести».
Домбровский удивился такому совпадению; непохоже, что, работая над романом, он думал о «Страшной мести». Но ведь и правда, сочетание солнечного, радостного фона с подступающим с нижних этажей времени, ползущим со всех сторон ужасом, почти планетарное чувство тектонического слома, нравственной катастрофы, фантастика, вырастающая из истории, и история, уходящая в фантастику, – не это ли скрытый, гоголевский сюжет «Хранителя…»? Наверное, именно об этом вспомнил Домбровский, поставив эпиграфом к третьей – самой страшной – части «Факультета…» эпиграф из «Страшной мести».
Но на этом гоголевский след в двух последних романах Домбровского не кончается. Шаламов, прочтя «Хранителя…», писал Домбровскому:
Отлична словесная ткань. <…> Несколько сложна, но, вероятно, это входило в замысел.<…> Я вообще-то сторонник прозы простой, очищенной до предела, где только деталь, символ, подробность должны высветить со всей неожиданностью замысел, но хорошая проза бывает и непростая.
Шаламовский идеал – пушкинская проза. А что такое проза Домбровского – «непростая», не «очищенная до предела», полная отступлений, переходов, закоулков и нор – как «Мертвые души»? Об этом Домбровский пишет, критикуя Эйзенштейна:
Вот, скажем, художественный объем изображения А – С. Ни на «А», ни на «С» строить ничего нельзя, смотреть надо на «В». А, В! В1! В2! В3! ВС. «С» и «А»– это те крайние пределы, к которым можно прибегнуть раз, да и то с крайней осторожностью. А у Эйз<енштейна> среднего нету, у него либо высокий трагизм (А), либо высокий комизм-гротеск (С).
И высокий трагизм, и комизм-гротеск мы находим и у Гоголя и у Домбровского. Но какая просторная эпическая картина жизни разворачивается между этими двумя полюсами в «Мертвых душах» и в романах Домбровского (все эти В1, В2, В3)!
И ведь это Гоголь впервые в России построил роман на анекдоте. То же самое – с «Хранителем…»: анекдот – движущая сила его. Это история со сбежавшим удавом. При подготовке романа к печатанию в «Новом мире» она претерпела серьезные изменения. Автор хотел, чтобы история эта ничем не кончилась, не получила никакого рационального объяснения, он хотел чистого абсурда (как и было, по его утверждению, в реальности: удава или кого-нибудь похожего на него так и не нашли). Твардовский настаивал на литературном, «беллетристическом», как говорил Домбровский, замыкании сюжета: удав должен был оказаться просто длинным полозом. Домбровский согласился нехотя.
Раз уж речь зашла об удаве, стоит отдельно поговорить о животных у Домбровского. Это огромная тема. Тут уж, скорее, дело не в литературной традиции, а в пристрастиях Домбровского. Он любовно писал о животных во всех своих книгах; тут, конечно, не один удав; тут и двумя штрихами, но всегда с характером, – лошади в «Державине» и в «Смуглой леди». Тут и целый зоопарк: пещерный лев, и тигры, и волки, и кабаны, и носорог в «Хранителе…». И, конечно же, краб в «Факультете…». Но особенно – кошки. Домбровский был кошколюб и в домашней жизни, и в творчестве. Из жизненного приключения попала в «Факультет…» кошка Кася (реальная Кася была найдена мальчишками в горах под Алма-Атой и подарена Кларе Турумовой и Домбровскому; затем привезена в Москву; Домбровский иногда говорил, что это прирученный камышовый кот; впрочем, рассказывал он, что когда-то с ним жила и рысь). С «камышовым котом» связана и последняя, роковая поездка Домбровского в Москву… Кася заменяет Зыбину семью. На следовательский (и женский!) вопрос: «А еще кто с ним жил?» – дед Середа отвечает: «Кто? Кошка жила. Дикая. Кася!» И неслучайно после этого следуют одни из самых трогательных и важных страниц романа – рассказ о жизни Зыбина с кошкой, а сразу после этого – история с яблоками. Проникший в тюрьму «апорт», «молодильные яблоки» – символ света, побеждающего нежить.
История с кошачьими, тоже основанная на реальном происшествии, объединяет «Хранителя…» и «Факультет…». Это история найденной золотой диадемы. Об изображенном на ней драконе Домбровский пишет в «Гонцах»:
И все-таки это совсем особый дракон. Он рожден не под небом Индии или южного Китая, а где-то около теперешней Алма-Аты. У индийских и китайских драконов стать гадючья, змеиная, это же – кошка, тигр, и хвост у него тоже тигриный, пушистый, вздрагивающий. Такие тигры еще в тридцатых годах рыскали в балхашских тростниках.
Диадема действительно была найдена в погребении на реке Каргалинке в 1939 году, и еще тогда Домбровский писал об этом в статье «Интересная находка» («Казахстанская правда, 1939, 4 октября). «Золотые чешуйки» и чешуйчатое тело полоза-удава из «Хранителя…» в «Факультете…» превращаются в фрагменты диадемы: «В верхнем поясе был изображен рогатый дракон с гибкой кошачьей статью и на пружинящих лапах…»
…Вот, скажут, о чем только не пишете: и о зверях, и о «Мертвых душах», и о Вазир-Мухтаре, а где ж у вас самое главное? Где Достоевский? Надо сказать, думали об этом многие. Во Франции вышла отдельная брошюра: «Домбровский и Достоевский». И правда, «Факультет…», почти весь состоящий из допросов и снов-галлюцинаций, так и напрашивается на сравнение с «Преступлением и наказанием». Да и бездны, открывающиеся в душе несчастного Корнилова, будто бы совсем оттуда же. И разговор у Корнилова с отцом Андреем заходит о Достоевском. Но самое эффектное, конечно, это фраза Штерна в разговоре с племянницей:
Достоевский – вот это да! Этот понимал! Я часто думаю: какой бы из него следователь вышел! Вот с кем бы мне поработать! Он знал, где таится преступление! В мозгу! Мысль – преступна. Вот что он знал!
Материал богатейший. И в основном тяжелый, неприятный. Зыбин Достоевского вспоминает только раз: в исповеди о развратившем мир Жоре Эдинове:
Так и не понял: кто же ты в самом деле? Просто, как пишет Достоевский, «мальчишка развитой и развращенный» (этот тип я постиг вполне) или чудовищный гибрид будущего кандидата педагогических наук Передонова с Павликом Морозовым?
«Достоевская», изломанная, многослойная, с лазейками, речь и мимика там – принадлежность тех палачей, что посложнее, – не Хрипушина, конечно, но Неймана с его «выражением хорошо устоявшегося ужаса» в глазах, Штерна, недоучившейся актрисы Тамары Долидзе. Но главное, в близкой Достоевскому поэтике написаны диалоги целой части – третьей – об осведомителях, Корнилове и отце Андрее:
Да куда он делся – не пойму… Поехал в город вчера, обещал сегодня к полудню вернуться, и нет его. Правда, приехала к нему тут одна особа… – Про особу вырвалось у Корнилова как-то само собой и противно, игриво, с ухмылочкой, он чуть не поперхнулся от неожиданности.
Вот вы уж с ним тогда… – сказал Корнилов, мутно улыбаясь (словно какой-то бес все дергал и дергал его за язык). Отец Андрей улыбнулся тоже.
Но составить из всего этого какую-то общую картину нелегко. Почему у Домбровского так – если Достоевский, то обязательно какая-то гадость? Спор из-за отношения к праву? Не уверен.
И самая большая гадость, пожалуй, это Сталин в снах Зыбина.
Пошлость-то, – обращается Зыбин во сне к Лине, – всегда права. Помнишь, я тебе прочитал Пушкина:
- Хоть в узкой голове придворного глупца
- Кутейкин и Христос два равные лица.
Да для любого здравомыслящего Кутейкин куда больше Христа, Христос-то миф, а он – вот он. Он истина! И, как всякая истина, он требует человека целиком, со всеми его потрохами и верой. Исканья кончились. Мир ждал Христа, и вот пришел Христос-Кутейкин, и история вступила в новый этап.
Сталин не открещивается:
Христы изрекают и проходят, и строить-то приходится нам, Кутейкиным. В этом все и дело. А вы нам мешаете, вот и приходится вас…
В снах Зыбина Сталин даже не лишен обаяния. Он не только Великий инквизитор, он еще и черт Ивана Карамазова со всеми его человеческими слабостями, усталый от вечных трудов, даже трогательный. Тут ужас, пожалуй, и посильнее, чем в финале «Хранителя…». Там жуть поднимается из глубин времени и звучит архаической колыбельной «Ой ты зверь, ты зверина, ты скажи свое имя? Ты не смерть ли моя? Ты не съешь ли меня?». Здесь зверина ласковый и будничный. Он – воплощенная пошлость. Он грызет человеческую душу и съел уже почти весь мир.
Но в «Факультете…» есть, как мы знаем, не только Кутейкин, но и подлинный Христос – каким его представлял Домбровский. Какое же место он занимает в романе? Почему его не было раньше? Был ли Домбровский христианином? На все эти вопросы нельзя ответить, не назвав еще двух имен – Шекспира и Сервантеса. «…И вдруг я понял, что для меня наступила пора Шекспира. Он подошел ко мне вплотную. <…> Словно прорвалась какая-то туманная пелена. <…> И еще какие-то смутные, но большие истины о любви-радости и любви-преступлении стали приходить и тревожить меня», – так писал Домбровский в «Леди Макбет», рассказе о страшном преступлении, свидетелем которого и чудом – не жертвой он сделался в начале тридцатых годов в Москве. После освобождения в 1943 он читал лекции о Шекспире в студии при Театре драмы Казахской ССР, в середине 1940-х создал новеллу о Шекспире – «Смуглую леди», за ней – другие. В шестидесятые – семидесятые он написал два эссе о Шекспире. Шекспировская тема звучит и в его последнем рассказе «Ручка, ножка, огуречик». Его друг Павел Косенко вспоминает:
Он человек не элегии, но трагедии. Причем трагедии шекспировской, с резкими переходами от ужасного и патетического к комическому, буффонному. С предельным напряжением ума и страсти. И с высшим, очищающим жизнеутверждением.
Образ Дон Кихота появляется в «Факультете…» рядом с Шекспиром и Христом и неотделим от них. Крышку чернильницы в виде хохочущего Дон Кихота Корнилов рассматривает перед разговором с отцом Андреем, и через несколько страниц отец Андрей говорит:
Тогда я вспомнил Шекспира! Хроники его! Вот кто мог бы написать трагедию о Христе! И знаете? Почти ничего не пришлось бы присочинять. Все уже есть у евангелистов. Образы, характеры, обстоятельства, бессмертные диалоги, где одной строчкой сказано все.
«Дон Кихотским» называл Домбровского его солагерник Арман Малумян:
Его человечность, целомудрие, его чувствительность были скрыты под маской ворчуна: он обладал глубоким умом, юмором, заостренным, как толедский клинок, благородством и гордостью испанского гранда. А его рост и худоба делали его похожим на ветряную мельницу.
В последней, самой важной реплике своего спора с Вождем Зыбин говорит:
Можно ли осудить еще больнее, выругать хлеще? Да, опасное, опасное слово «добрый»! Недаром им Сервантес окончил «Дон Кихота»!
Именно доброта становится последней твердыней тех, кто, по Зыбину, выиграет войну, то есть войну и с фашистами, и с Вождем.
Самый страшный бред Зыбина, который он успевает прокричать Сталину в последнюю секунду перед пробуждением, о победе в грядущей мировой войне:
Но мне страшно другое: а вдруг вы правы? Мир уцелеет и процветет. Тогда, значит, разум, совесть, добро, гуманность – все, все, что выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества, ровно ничего не стоит. <…> Тогда, чтоб спасти мир, нужно железо и огнеметы, каменные подвалы и в них люди с браунингами. И тогда вы действительно гений, потому что, несмотря на все наши штучки, вы не послушались нас, не дали себя обмануть гуманизмом!
И сам отвечает себе:
Ты же отлично знаешь, что не выиграет ни тот, ни другой, ни третий, выиграем мы с тобой. Страна! Народ! Ты! Директор! Клара! Корнилов! Дед! Даша! Ты же повторяешь это себе каждый день!
Два тома «Дон Кихота»– почти как «Хранитель…» и «Факультет…». Все та же «тыняновская» основа сюжета: несовременность героя. Рыцарский мир Дон Кихота и есть «факультет ненужных вещей», над которым смеются следователи. Зыбин так же прямодушен, как Дон Кихот. Так же бескомпромиссен. Подобно Дон Кихоту, он жалок в глазах своих мучителей. И так же, в конце концов, оказывается хитроумен.
Отец Андрей говорит:
«Трижды и четырежды, – пишет Целий, – переделывали они первую запись Евангелия, чтоб избегнуть изобличенья!» Да! Самого страшного из изобличений – изобличения в правде. <…> Вот вы знаете, почему вся эта печальная история кажется мне совершенно достоверной? Уж слишком все тут по-человечески горько и неприглядно.
Точно тот же критерий убеждает Домбровского и скульптора Иткинда в подлинности Шекспира:
Как из этой разномастной толпы людей с разными характерами и судьбами он выбрал только одного – настоящего? Какое великое чувство достоверности руководит им сейчас? Да, но этот-то, настоящий, выглядит толстым, пожилым, самодовольным, глубоко равнодушным ко всему человеком. Мог ли Шекспир быть таким?
Вот эта-то простота, почти неприглядность, с «современной точки зрения», объединяет высоких героев Домбровского: Шекспира, Дон Кихота и евангельского Христа.
Был ли Домбровский христианином? Я так не думаю. В 1970-е он говорил, что неплохо бы издать в серии «Жизнь замечательных людей» книгу о Христе. Его религиозные друзья и авторы, быть может, лучших эссе о нем, Феликс Светов и Валентин Непомнящий, смеялись. Считали его исследование о Христе, приложенное к «Факультету…», «гениально-наивным», но все-таки наивным. Писали, что душа у Домбровского «христианка»– то есть автор был христианином, сам того не сознавая. Толковали «Факультет…» как роман глубоко религиозный. В результате статья Натальи Ивановой начинается с такой вот характеристики Зыбина: «По образованию – юрист. По убеждениям – христианин». Домбровский подсмеивался над всем этим. Он не верил в личное бессмертие. Он не верил в христианскую мистику. Христос интересовал его как личность.
Но не слишком ли далеко мы зашли в сравнениях? Уж Зыбин прямо не только Дон Кихотом или там Шекспиром, но и Христом может показаться… Не вернуться ли нам на землю? Ведь, несмотря на свою революционность, преданность эпохе, из которой он родом, несмотря на острое чувство справедливости и веру в революционные идеалы, он – почти размазня! И как это чувствуется в его наивной восторженности с первых же страниц «Хранителя…». Как честно, почти исповедально Хранитель говорит о себе:
Я-то стараюсь пройти тихо-тихо, незаметно-незаметно, никого не толкнуть, не задеть, не рассердить, а выходит, что задеваю всех. <…> А что мне доказывать, что мне показывать, меня просто нужно оставить в покое!











