Читать онлайн Твердый сплав
- Автор: Евгений Воеводин, Эдуард Талунтис
- Жанр: Советская литература, Шпионские детективы
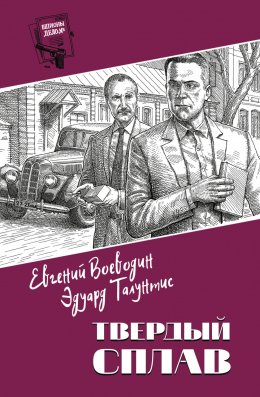
© Воеводин Е.В., наследники, 2024
© Талунтис Э.Р., наследники, 2024
© Хлебников М.В., составление, предисловие, 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
«Операция закончена… Борьба продолжается»
Постоянные читатели нашей серии должны обратить внимание на типическую особенность авторов советских шпионских романов. Их писательские судьбы трудно назвать успешными. Безусловная популярность и востребованность шпионских книг не сопровождались ни официальным признанием их сочинителей со стороны государства, ни вниманием со стороны профессионального литературного сообщества. Впрочем, каждое правило требует исключения. Пришло время рассказать о нем. Говоря о сегодняшнем литературном тандеме – привычном явлении для нашей серии, – следует прежде всего обратить внимание на судьбу Евгения Всеволодовича Воеводина.
Он родился 10 апреля 1928 года в Ленинграде. Семья Воеводиных поколениями была связана с русским театром – еще в 1812 году Парамон Воеводин за «хороший голос» был выкуплен у графа Орлова по недурной цене в 2000 рублей серебром. От него и пошла династия театральных хористов Воеводиных. Дед Евгения – Петр Васильевич (1876–1927) – несколько изменил вектор семейной судьбы, став театральным режиссером и добившись на этом поприще впечатляющих результатов. Об этом свидетельствует его работа на посту главного режиссера сначала Ленинградского театра оперы и балета, а затем и Малого оперного театра. Его сын – Всеволод Петрович Воеводин (1907–1973) – к моменту рождения сына окончил четыре курса Института истории искусств. Но уже в пятнадцать лет Всеволод определился с родом своих занятий, выпустив сборник стихов с несколько преждевременным названием «Расцвет души» тиражом в 25 экземпляров. Через год талант зримо окреп, и поэт выдал второй сборник, «Prima vera», солидным тиражом в 200 экземпляров. Говоря о роде занятий, я имею в виду, что Воеводина-старшего можно назвать литератором – человеком, который свободно, в зависимости от внутреннего желания и внешней необходимости, меняет жанры и формы. Об этом свидетельствует его сотрудничество с Евгением Рыссом. Вместе они писали пьесы, приключенческие повести, сценарии. Любопытный эпизод приводит в «Телефонной книге» Е. Шварц:
«Когда я его встретил в начале тридцатых годов, работал он вместе с Женей Рыссом. Так и спрашивали – это какой Воеводин, который Рысс? И наоборот. Писали они пьесы все больше для Театра сатиры, и пьесы их ставили, что в те дни не являлось такой уж редкостью. Не вызывало шума и в рецензиях принималось легкомысленно. Одни поругивали, другие похваливали – нравы двадцатых годов еще не были выкорчеваны. Из названий пьес запомнил одно: “Сукины дети”. Ударение полагалось тут ставить на конце, описывалось какое-то семейство. Но публика, естественно, читала привычным манером. Кто посмеивался, кто обижался. В Театр сатиры пришло письмо, где предлагались Рыссу и Воеводину названия для новых пьес – сплошные непристойнейшие ругательства».
Писательский дуэт Воеводина и Рысса получился гармоничным. Свидетельство тому факт, что своего сына Воеводин назвал в честь соавтора. Внешне благополучная судьба Воеводина-старшего давала периодические сбои. Во время войны он служил в «Военно-морском издательстве», получая хороший паек. Но публичное выступление против начальства под влиянием спирта привело к тому, что службу пришлось оставить, писатель оказался на грани голодной смерти, чудом выжив после эвакуации из осажденного Ленинграда. В конце сороковых алкоголизм привел к тому, что Воеводина поместили в психиатрическую больницу. Отмечу важный момент. Кризис наступил в тот момент, когда его соавтор переехал на постоянное жительство в Москву. Еще раз обратимся к воспоминаниям Шварца:
«В те годы, в начале тридцатых, Воеводин жил более семейственно, более буржуазно, чем Женя Рысс. И жена его более походила на постоянную, настоящую. И мама, работавшая в Мариинке, жила возле. Но всегда он казался неустроенным и менее благополучным, чем вечно беспечный Женя».
Необходимость работать «сольно» угнетала Воеводина, что и привело к дикому срыву. Но в отличие от многих собратьев по писательскому цеху, Воеводин сумел обуздать пагубную привычку. Как ни смешно сегодня это звучит, признанием решения проблемы стал прием писателя в партию в 1951 году.
Такой подробный рассказ об отце Евгения Воеводина – не просто украшательство текста. Можно уверенно сказать, что сын во многом повторил судьбу отца с естественной поправкой на время. Также рано, как и отец, Евгений начинает печататься. В журнале «Костер» в победном 1945 году помещается его рассказ «Ночью». Затем следуют годы учебы на отделении журналистики филологического факультета ЛГУ. В это время у него выходит рассказ «Беглецы» в престижном и всем известном «Огоньке». В узнаваемо чеховской манере рассказывается о том, как герой в новогоднюю ночь ищет младшего брата, который вместе с другом сбежал в Китай, чтобы сражаться с империализмом. Рассказ заканчивается идиллически:
«Мы с Толей смеялись, глядя, как они встают и смущенно переминаются с ноги на ногу. Толя стащил с Гришки шапку и легонько дернул его за вихор. У Гришки дрогнули губы.
– Я вот маме скажу, что ты дерешься. Небось, когда сами в Испанию бегали, вас не били.
– Не били, – согласился Толя. – Зато мы и писали без ошибок.
– Зато вас и словили на Московском вокзале, – вступился Володька».
После окончания университета в 1953 году Воеводин получает место в «Вечернем Ленинграде», в котором и проработал до 1962 года.
«Звездный час» для Евгения Воеводина настал в 1964 году в связи с делом Иосифа Бродского. Долгое время процесс по делу о тунеядстве будущего нобелевского лауреата считался многими символом расправы системы над Поэтом. Яков Гордин торжественно назвал его «чудовищным судилищем», что явно несоразмерно как самому уголовному делу, так и его последствиям. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что преследование Бродского объясняется во многом внутренними ленинградскими разборками, в том числе между представителями писательских кланов. Большую роль в организации процесса сыграл Даниил Гранин. Во многом благодаря его стараниям «товарищеский суд» перерос в уголовный процесс. Именно он возглавлял комиссию СП по работе с молодежью. Собственно перед самим процессом Гранин технично свалил в сторону, вытолкнув на сцену своего заместителя – Воеводина. Участие последнего имело и значение с учетом национального вопроса. Так как мать Евгения Всеволодовича была из еврейской семьи, то это снимало возможное обвинение в антисемитизме, хотя и не делало его специалистом в поэзии. Некоторая растерянность Воеводина хорошо видна при чтении стенограммы судебного заседания:
«Судья: Свидетель Воеводин. Вы лично Бродского знаете?
Воеводин (член Союза писателей): Нет. Я только полгода работаю в Союзе. Я лично с ним знаком не был. Он мало бывает в Союзе, только на переводческих вечерах. Он, видимо, понимал, как встретят его стихи, и потому не ходил на другие объединения. Я читал его эпиграммы. Вы покраснели бы, товарищи судьи, если бы их прочитали. Здесь говорили о таланте Бродского. Талант измеряется только народным признанием. А этого признания нет и быть не может».
Именно Воеводину пришлось принять на себя вал общественного негодования. Колоритную сцену приводит в мемуарах известный критик и переводчик Виктор Топоров, мать которого была адвокатом Бродского:
«В зале публики было примерно пополам: друзья и поклонники Бродского – и “комсомольцы”, сидели вперемежку. В перерыве вся эта толпа набилась, как сельди в бочку, в маленькую заднюю комнату, в которой стоял бильярд. Друзья Бродского – Эра Коробова (тогда, кажется, еще Эра Найман), Яков Гордин и прочие насели на маленького тучного Воеводина, но он, “опершись жопой о гранит”, то бишь о край бильярдного стола, довольно бойко и даже как-то весело отругивался».
Отругиваться годами Воеводин был не в состоянии. Тем более, что никто особенно и не прислушивался к словам обскуранта и мракобеса. За ним намертво закрепилась сомнительная слава одного из главных гонителей и палачей Бродского. Этому не могли помешать постоянно выходившие книги, фильмы и телеспектакли, снятые по сценариям Воеводина. Учитывая наследственную склонность к алкоголю, неудивительно, что писатель искал утешение привычным для многих писателей способом. Марк Еленин, знавший Воеводина еще со времен учебы в университете, пишет об этом осторожно, но понятно для нас:
«Тут, между прочим, крылось и одно из его грустных заблуждений. Заблуждений всей его уже взрослой жизни. Он был добр, доверчив к людям. К тем, кого почему-то, по каким-то своим критериям, – как сейчас принято говорить – параметрам, – он отличал среди других, приближал к себе, был готов открыть сердце и широко открывал карман… Чувство отбора порой отказывало Воеводину. Его добротой и доверчивостью пользовались и своекорыстные, плохие люди, старающиеся извлечь нечто от близости к преуспевающему писателю».
Внезапный уход Воеводина из жизни в 1981 году остался фактически незамеченным. Долгие годы его книги не переиздавались, а немногочисленные упоминания имени сводились к повторению эпизода из «дела Бродского».
В отличие от своего соавтора Эдуард Ромуальдович Талунтис не обладал столь яркой внешней биографией, что объясняется спецификой его долитературной жизни. Он родился в Ленинграде 9 сентября 1926 года. Несмотря на то что разница в возрасте с Воеводиным составляет менее двух лет, Талунтис относится к военному поколению. В армию он призывается в июле 1943 года – в неполные семнадцать лет. Служил Талунтис в специальных войсках МВД. Учитывая его семейные корни, можно предположить, что он принимал участие в послевоенной ликвидации бандитского подполья в прибалтийских республиках. В 1950 году в звании капитана Эдуард Талунтис выходит в отставку. Начинается журналистский период его жизни. С 1955 по 1963 год Талунтис работает в ленинградской газете «Смена». В 1957-м он оканчивает Литературный институт, что позволяло считаться профессиональным писателем. Долгие годы Талунтис отдал написанию сценариев для документальных и художественных фильмов о войне. Но еще до этого начинается его сотрудничество с Воеводиным. Вместе с ним Талунтис написал ряд книг. Самая объемная из них – роман «Звезды остаются», выпущенный в Ленинграде в 1956 году, также рассказывает о военной поре. Но самое интересное в творческом наследии Воеводина и Талунтиса принадлежит к жанру шпионского романа.
В 1954 году в Ленинграде выходит их повесть «Совсем недавно…». Уже на следующий год книга была переиздана в серии «Фантастика. Приключение», которая выпускалась «Трудрезервиздатом», что свидетельствует об определенном успехе литературного дебюта соавторов. И для того были объективные основания.
Во время заводского воскресника молодой инженер Екатерина Воронина находит в развалинах полевую сумку. Желтые листки приоткрывают одну из тайн начала войны. Тогда немецкая разведка провела хитроумную комбинацию, внедрив в группу советских окруженцев своих агентов. Группа вышла, диверсанты затерялись в хаосе войны…
В это же время на заводе «Электрик» – месте работы Екатерины – произошла серия технических аварий. Предположение читателя, что неполадки – дело рук врага, достаточно быстро подтверждаются. Оказывается, что инженер Козюкин и главный бухгалтер завода Войшвилов, он же Ратенау, стоят за досадными сбоями. Интересно, что Козюкин – непрофессиональный шпион, а один из затаившихся сторонников партийной оппозиции:
«Давно, еще в середине двадцатых годов, Козюкина, в ту пору молодого специалиста, только что кончившего Ленинградский политехнический институт, вызвал к себе в губком один из руководителей оппозиции.
– Мы отправляем вас в Нейск, – услышал Козюкин. – Положение таково, что оппозиция должна затаиться на время. Сигнал будет вам дан».
Может показаться, что неопытные соавторы поторопились и «раскрыли все карты». Но дело в том, что имена остальных «агентов-окруженцев» неизвестны как читателям, так и майору Курбатому и лейтенанту Брянцеву, которым и поручено ведение этого непростого, запутанного дела…
Сюжет следующей повести Воеводина и Талунтиса, «Твердый сплав» (1957), тоже связан с историей войны. Студентка Ася Дробышева во время получения денежного перевода от матери обращает внимание на мужчину, который представился кассиру как Сергей Игнатьевич Дробышев. Но дело в том, что это фамилия, имя и отчество ее отца – инженера-металлурга, погибшего летом сорок первого года. В те дни Сергей Дробышев вместе со своим другом Владимиром Трояновским работали над созданием особо прочного сплава. Мирный труд прерван немецким вторжением. Дробышев погибает в бою с немцами, а Трояновский пропадает без вести. В уже мирные годы труд Владимира продолжает его отец – профессор Трояновский. Вокруг него и начинают плести заговор иностранные агенты. Подполковник Пылаев и капитан Шилкин приступают к расследованию. В повести много примет того времени, включая непременного стилягу – ребенка из обеспеченной семьи, претендующего на особенность и исключительность:
«Похвиснев принадлежал к числу людей, которые считают, что они родились только для радостей и удовольствий. Еще в раннем детстве родители внушили ему: он самый талантливый, красивый и обаятельный. Его зачислили не в обычную школу, а в школу-десятилетку при Академической капелле. Но учиться он не хотел и с первого класса чаще всего получал двойки. Отец приходил в школу, просил, требовал, настаивал, чтобы его сына не исключали, воспитывали, лелеяли. “У Бори гениальные музыкальные способности, абсолютный слух. Поэтому он плохо успевает по общим предметам. А то, что по гармонии и пению у него двойки, – так это ничего, пройдет. Он сейчас еще стесняется своего таланта, ему неловко выделяться”».
Понятно, что от стремления к легкой, беспечной жизни всего лишь один шаг до преступления против своей страны. Сегодня эта вроде бы забытая мысль приобретает особую актуальность…
Далеко не все из наследия Евгения Воеводина и Эдуарда Талаунтиса выдержало испытание временем. Но в представленных повестях имеется свой «твердый сплав». Именно его зримое присутствие позволяет с уверенностью говорить, что книга найдет своего неравнодушного читателя и в наши непростые дни. Думаю, что у многих возникнет странное чувство – события, описанные авторами, произошли не семьдесят тому назад, а «совсем недавно…». И авторское многоточие здесь оказывается исторически правильным.
М.В. Хлебников, канд. философских наук
Совсем недавно…
Повесть
Пролог
Из-за высокого крашеного забора доносились веселые голоса, смех, потом кто-то запел песню, ее подхватили, и прохожие на улице, улыбаясь, смотрели в сторону забора:
– Молодежь работает. Воскресник.
Там разбирали развалины дома, одну из последних руин, оставшихся в городе. Каждые полчаса машина, доверху груженная битым кирпичом, изуродованными взрывом трубами, проржавевшими и погнутыми остовами кроватей, выезжала из ворот в заборе. Звенели ломы и кирки, разрушая остатки стены нижнего этажа, и чем меньше оставалось битого кирпича, кусков известки, тем веселее становились голоса и бодрее песня.
На месте руин предполагалось построить заводский стадион, и молодежь завода «Электрик» уже предвкушала жаркие схватки с футболистами соседнего «Молотовца» или с легкоатлетами «Трудовых резервов» – на своем поле! Парни ожесточенно долбили, отваливая в сторону большие куски стены, а девушки таскали их на носилках к машинам.
– Что я, белоручка какая-нибудь! – расшумелась вдруг одна из них. – Петька две нормы еле-еле дает на производстве, а я – три с половиной, так что я, хуже его, что ли, чтобы кирпич таскать?
Валя взяла лом и встала рядом с парнями. За ней потянулись и другие девушки.
– Ой, – сказала Валя, – Екатерина Павловна, а вы-то зачем…
Екатерина Павловна, а попросту Катя Воронова, инженер с «Электрика», в широченных брюках, – надо полагать, отцовских, – тоже долбила киркой зубчатую стенку. Из-под кирки взметывалось при каждом ударе легкое оранжевое облачко кирпичной пыли. Катя рукой расшатала глыбу слипшихся кирпичей, разогнулась и стерла со лба пот. В это-то время крикнули неподалеку: «Манерка!».
Катя обернулась. Разгребая обломки, двое парней тащили оттуда погнутый, пробитый во многих местах солдатский котелок.
– Екатерина Павловна, я… боюсь, – проговорила Валя и выронила лом.
– Чего ты боишься? – Катя смотрела на девушку, не понимая. Та стояла, приложив ладони к побелевшим щекам, и у нее кривились губы. – Ну, что с тобой?
– А если… не манерка…
Катя догадалась.
– Не бойся, – ответила она. – Людей здесь не было. Их выселили, когда немцы подошли к заводу. Я работала тогда на заводе, знаю: здесь был КП. Может, случайно только… Да и то вряд ли.
Она подняла кирку и начала отваливать кирпичи. Острый клюв кирки легко раскалывал их. Валя, немного успокоившись, тоже принялась долбить слежавшиеся обломки, как вдруг снова отскочила и, споткнувшись, села боком на выступ стены, глядя расширенными от страха глазами на что-то вроде ремешка, выбившегося из-под развалин. Кате стало не по себе. Она нагнулась. Это был, действительно, ремешок – серый, почти истлевший. Концом кирки Катя потянула его, и он лопнул. Тогда Катя начала разгребать осыпь, и Валя, так и застывшая на месте, услышала спокойное:
– Полевая сумка.
Валя осторожно приподнялась, взглянула и попыталась улыбнуться; улыбка вышла кривой и робкой, – девушка все еще боялась.
– У Вороновой тоже трофей, ребята! – крикнул кто-то, и работавшие разогнулись. Катя тем временем осторожно раскрыла сумку – из нее пахнуло сыростью и плесенью.
Уже человек десять с любопытством столпились вокруг:
– Листки какие-то… Да ты осторожней… Может, тебе помочь?..
Из сумки высыпались плотно слежавшиеся, желтые, ломкие листки бумаги. Катя успела подхватить их. И вот уже не десять, а сорок или пятьдесят человек собрались вокруг; задние лезли повыше, опираясь на плечи передних, и кричали:
– Да разверни же, покажи!
Первая бумажка оказалась конвертом. Невозможно было прочесть на нем ни адреса, ни фамилии адресата. Конверт хрустнул и развалился в Катиных руках, когда она попыталась было его раскрыть. Тогда она осторожно положила обрывки между двух кирпичей и начала разворачивать другие листки, очевидно вырванные из блокнота.
Сверху первого листка, блеклыми буквами, смазанными, словно человек, писавший эти строки, провел по невысохшим чернилам пальцем, было написано:
«Рассказ старшины Николая Сергеевича Лаврова о переходе…» – дальше несколько строчек обрывалось, их смыла вода, только сиреневые подтеки виднелись на бумаге.
– Екатерина Павловна, что с вами? – растерянно крикнула одна из девушек.
Теперь уже Катя сидела на груде кирпича, дрожащей рукой проводя по лбу и щеке. Между тонких бровей появилась складка; казалось, Катя вспоминает что-то, но никак не может вспомнить.
– А? – словно очнувшись, она обвела столпившихся каким-то чужим и далеким взглядом. – Нет… Я так…
Она встала и сложила листки. Никто не видел, что написано там, ниже, где вода не смыла строчек, – это видела только одна Катя. Она осторожно положила листки в карман лыжной куртки и протянула вперед руку.
– Пропустите меня… – голос у нее срывался, она сказала это почти шепотом. Парни посторонились. Низко нагнув голову, она прошла по развалинам, спрыгнула с гранитного цоколя и вышла за ворота.
Двенадцать лет назад, в глухую, туманную осеннюю ночь, буксирное судно «Резвый» вышло из маленькой бухточки безымянного скалистого острова и, деловито постукивая машиной, пошло на восток, в сторону города. На буксире находились, кроме команды (капитана буксира старшины Лаврова, кочегара и машиниста), пять раненых и пустые бидоны из-под бензина. Раненые лежали на палубе, укрытые одеялами и брезентом; ночь была сырая, не прекращаясь моросил осенний дождь.
Для прохода мелких судов в минных полях был оставлен в миле от берега узкий фарватер. Однако, когда гитлеровские войска вышли к берегу, этот проход стал не менее опасным, чем прямой путь через минные поля. Редкий рейс буксирам удавалось пройти незамеченными. После того как немецкий катер, погнавшись за буксиром, подорвался на мине и затонул, немцы не рисковали больше своими кораблями. На берегу были установлены орудия и прожектора. За восемь рейсов – туда и обратно – Лавров двенадцать раз попадал под огонь, и буксирчик приходил в город или на базу то с прорешеченными бортами и трубой, то с полусгоревшей палубой, а что касается команды, то на «Резвом» за эти восемь рейсов сменилось два машиниста и один кочегар, – тех троих похоронили на базе.
– Самый малый! – тихо скомандовал Лавров. В тумане не было видно берега, однако по времени Лавров знал: берег здесь, совсем близко, и там уже настороженно повернулись в сторону залива тонкие стволы орудий.
– Братишка, закурить бы… – попросил один из раненых.
– Отставить разговоры, – прошипел вниз, из рубки, Лавров. «Черт! – выругался он про себя. – По своему же морю как контрабандист какой-нибудь пробираешься… Ну уж…» Он не успел додумать: мутная полоса света легла спереди, по курсу буксира, и медленно начала приближаться. Казалось, в тумане кто-то разлил молоко: это включили на берегу прожектор, и он шарил совсем близко.
– Стоп машина! – Лавров вздрогнул, когда за кормой утих винт: словно сердце остановилось. Молочная полоса приближалась, тогда Лавров скомандовал: – Полный! – и налег на рукоятку штурвала. Буксирчик почти повалился на правый борт, уходя к берегу, туда, где не доставал луч прожектора.
Но на этот раз уйти не удалось. Теперь по борту, по трубе, по палубе разлился голубоватый, мутный свет, и Лавров почему-то подумал, как они выглядят сейчас с берега: наверно, немцы видят только темное пятно, впрочем, достаточно большое для того чтобы открыть стрельбу…
Там не ожидали, что буксир подойдет так близко, и первые снаряды легли вдалеке, вздыбив островерхие фонтаны. Немцы стреляли беспорядочно: невозможно было в тумане вести прицельную стрельбу, взять судно в «вилку». «Может, проскочим, – подумалось Лаврову. – Теперь они будут переносить огонь. Значит…» Значит, надо было резко сворачивать влево и идти мористее.
В это время на берегу вспыхнул еще один прожектор и сразу скрестил на буксире свой луч с первым. Словно дожидаясь только этого света, с визгом пронесся снаряд и упал в воду, окатив палубу ледяной водой. Лавров стиснул зубы. Второй и третий снаряд легли совсем у борта, и «Резвый» бросило в сторону. Треска Лавров не слышал, что кричал ему механик, – тоже не было слышно за грохотом. Однако буксир все еще шел, и Лавров даже усмехнулся, меняя курс.
– Да слышишь ты! – потрясли его за плечо. – В воду… В воду, я говорю… тонем.
Механик кричал над самым ухом Лаврова, поворачивая к берегу перекошенное лицо.
– Тонем? – переспросил Лавров.
Механика уже не было в рубке. Лавров выскочил на палубу. Палуба была пуста, механик лежал, крестом разбросав руки. От близкого взрыва «Резвый» совсем лег на борт, и безжизненное тело механика покатилось к борту.
Лавров успел схватиться за пустой бидон из-под бензина. Потом что-то подняло его и швырнуло в воду. Он потерял сознание.
Лавров сразу же очнулся от холода, выплюнул горькую воду и увидел, что держится за ручку бидона. Метрах в десяти от него пылал «Резвый», стрельбы уже не было: немцы ясно видели, что буксир тонет.
На всякий случай Лавров снял ремень и привязал себя к бидону: так было надежнее. Потом Лавров поплыл, гребя одной рукой. Куда он плыл, он, пожалуй, и сам не мог бы сказать. На берегу потухли прожектора, только огонь на палубе «Резвого» робко раздвигал туман, словно плавил его.
Берег был справа. Плыть в залив не имело смысла – это значило бы попросту замерзнуть до рассвета, а там тебя, замерзшего, без сознания, еще неизвестно кто подберет – свои или чужие. Лавров решил плыть вдоль берега, – может, удастся где-нибудь выбраться в пустынном месте и через дюны уйти в лес, – ищи-свищи тогда. При нем был пистолет и две обоймы – это не так уж мало.
Когда Лавров выполз на берег, на песчаную отмель, силы уже покидали его, и перед глазами вспыхивали, мелькали цветные круги. Чем больше он напрягал зрение, чтобы разобраться в кромешной этой тьме, тем гуще, казалось, она становилась.
Лавров полежал на песке минут пять, а может быть и больше – трудно было сказать, сколько он лежал так, с пистолетом в прижатой к груди руке, щекой приложившись к холодному колючему песку. Потом он пополз тихо, благо мокрый от дождя песок не шуршал. Вдоль берега стояли колья, – натянуть проволоку немцы еще, очевидно, не успели. Это была удача; Лавров даже усмехнулся, с болью растягивая онемевшие губы. Все-таки наглецы те, кто пришел сюда: уверены, что все скоро кончится, к чему же тогда им заграждений, от чаек, что ли!
Тихо было кругом, заглох сзади и плеск мелких волн, набегающих на песок. Тогда он решил встать и пойти во весь рост. «Где же дюны, – думал он, – неужели я и ста метров не прошел!»
Но дюн все не было. Под ногами скрипнула какая-то ветка, начался мелкий, по пояс, кустарник. Лавров остановился, – он совсем перестал понимать, где он выбрался на берег. Лавров прошел еще шагов десять и чуть не вскрикнул, выкинув вперед руку с пистолетом.
Перед ним стояла неподвижная белая фигура, смутно виднелись ее обнаженные плечи. «Женщина», – отметил он про себя. Потом, уже без всякого удивления, он добавил: «Статуя», – и снова растянул в улыбке занемевшие губы, смеясь над своим испугом. Да, это была статуя, и он понял, что прополз по пляжу в Солнечных Горках, а сейчас попал в парк. Солнечные Горки, курортное местечко возле большого города, давно были заняты немцами.
Лавров хорошо знал этот парк: в выходные дни не раз приезжал сюда с базы. Неподалеку – вспомнил он – должен стоять грот, сделанный из ракушек, и он пошел по аллее, посередине ее. Если в кустах кто-нибудь прячется, если они все-таки выставили секрет, он успеет выстрелить и броситься в кусты. Но никто не окликнул его, – по видимому, немцы были действительно беспечны.
Грот стоял посреди кустарника. Не имело смысла заходить в него, прятаться там, ждать рассвета. Лавров остановился возле грота, раздумывая, как ему быть дальше. Насколько он помнил, аллея выходила к фонтанам на площадь перед дворцом; там-то уж наверняка стоит часовой. Если же обойти грот и пробиться парком, можно выйти к восточной части Солнечных Горок, где начинаются болота, топь, поросшая камышом.
Внезапно до его настороженного, обостренного ощущением опасности слуха донесся то ли вздох, то ли стон, и явственно зашуршал кустарник. Лавров прижался к стенке грота, но не видел ничего и не мог определить, где шуршат кусты, кто прячется в них. И он сам пошел к кустам, – туда, откуда послышался вздох, – но тут же упал. Чьи-то цепкие пальцы крутили ему руку, в которой был пистолет, другая рука тянулась к горлу. Он услышал сдавленное: «Ах ты… гад…» – и прохрипел в ответ, отрывая от себя чужие руки:
– Я свой… матрос…
Человек отпустил его, и Лавров встал на колени, пошатываясь. Тот, кто несколько секунд назад повалил его на землю, тоже привстал; теперь Лавров чувствовал на себе неровное, свистящее дыхание, и сам выдохнул, наконец-то поняв, что набрел на такого же прячущегося, как и он сам:
– Кто вы?
Молчание было ему ответом. Наконец незнакомец осторожно нащупал его руку, оперся на нее, поднялся и помог подняться Лаврову. Лавров снова ослаб, он еле держался на ногах. Незнакомец, не говоря ни слова, тихонько подтолкнул его к кустам и сам пошел следом. Лавров шел покорно; разом спало с него напряжение последних минут. Его воля теперь была направлена только на то, чтобы механически передвигать ноги. Где и сколько времени они шли, он не помнил. Потом, кажется, он потерял сознание, очнулся, увидел перед собой чье-то лицо, дернулся, но тут же ему зажали рукой рот:
– Свой… свой, братишка. Идем дальше.
Лавров успокоился, услышав то же тяжелое, со свистом дыхание. Ему стало лучше, он приходил в себя, и вместе с тем к нему возвращалось сознание того положения, в которое он попал. Теперь чуть светало, и можно было разглядеть, что перед ним – старик. На нем не было шапки, белые волосы спутались, и безжизненные пряди падали на лоб.
– К нашим идем, – шепнул он Лаврову. – Подержись еще, паря.
Из летучего, низко стелющегося тумана вдруг вынырнули две фигуры, и Лавров услышал резкое:
– Wer ist da?[1]
И тут же – сказанное, очевидно, другим:
– Lass sie gehen![2]
Лавров не знал языка, не понял, что сказали немцы; ему было ясно только одно: это враги, – и он выстрелил наугад в спешке три раза; оттуда тоже раздалась очередь, и немцы исчезли.
Лавров и старик бросились прочь. Отбежав шагов двадцать, они оба повалились в густой кустарник, тяжело переводя дыхание. Лавров не спускал палец с курка, – он понимал, что сейчас начнется погоня, немцы, встревоженные выстрелами, конечно, устроят облаву. Но было тихо, только где-то далеко плескалось море.
– Они не будут искать нас, – тихо и убежденно сказал старик. – Помоги мне встать, паря.
Старик был совсем плох. Едва приподнявшись, он застонал и повис на руке Лаврова. Минуты три лежал с закрытыми глазами, а потом, с усилием подняв руку, вдруг сказал:
– Ты иди, иди… и вот, возьми, передай нашим…
Он совал ему какую-то скомканную бумажку.
– Не потеряй, за нее жизнями заплатить можно… Сегодня… в подвале собираются… наши… Пойдут через фронт. С ними пятеро… немцев… Шпионы, понял? Иди, паря!
Что-то липкое и теплое стекало по руке Лаврова. Он поднес руку к глазам: она показалась ему почти черной от крови. Боли Лавров не ощущал; стало быть, та очередь из автомата задела старика. А он все шептал, быстро, скороговоркой, словно боясь не досказать всего:
– Зареченская, два. Подвал… Передай нашим, пятеро прошли… Ну, иди, иди…
Лавров поднял его; старик уже не мог стоять. Собирая последние силы, Лавров кое-как взвалил его на себя и понес; прошел шагов тридцать и упал сам, поднялся снова, немного пронес старика, все еще не в силах осознать того, что тот ему сказал.
Когда он – в который раз – попробовал взвалить старика снова на себя, то почувствовал, что старик обмяк; приложив ухо к его груди, Лавров не услышал стука сердца. Все-таки он потащил его дальше, не веря тому, что человек, у которого он даже не успел узнать имя, – умер.
Лавров оставил его в небольшой балке, через которую пришлось переползать, уложил его, уже похолодевшего, на холодной сырой земле и, встав, начал карабкаться наверх. Бумажка, сунутая за пазуху, прилипла к телу, он прижимал ее к себе левой рукой, как величайшую драгоценность, не зная, что это за бумажка.
Здесь снова память изменила ему. Лавров не помнил, как очутился в подвале и откуда взялась девушка, давшая ему воды. Ее лицо он не сумел рассмотреть в полумраке. Девушка сказала, тихо и ласково:
– Не бойтесь больше, это я, Катя.
Лавров усмехнулся:
– А я и не боюсь, Катя.
Он огляделся. Здесь, в сыром подвале с тяжелыми сводами, было человек около тридцати, не меньше. Женщины в черных платках и мужчины в штатском, с поднятыми воротниками пиджаков и в кепках; были и в военной форме – без петлиц, небритые, отощавшие, – не иначе, как уходящие из окружения или убежавшие пленные. Молчали все, и поэтому, когда Катя сказала Лаврову: «Не бойтесь», – все поглядели в их сторону с каким-то осуждением, словно их могли услышать враги.
Лавров тоже молчал. Он пытался разглядеть лица. Может, этот седой с усиками и в очках, что сидит, опустив руки между колен, или женщина, до самых глаз закутанная платком, или парень в косоворотке, с тонким изможденным лицом, – может, они из тех, о ком говорил неизвестный старик, жизнь отдавший за то, чтобы враги не прошли. Как бы там ни было, сейчас надо молчать. «Я ничего не знаю. Меня, по-видимому, нашли и принесли сюда. Разговаривать будем, когда перейдем фронт». Он даже успокоился от этих мыслей и задремал, а очнулся оттого, что кто-то наклонился над ним с лампой:
– Что, совсем плох? Эй, товарищ моряк, вы можете идти?
– Идти? – переспросил он. – Куда?
– С нами. К нашим.
– Да… – он попытался подняться. – Могу, ну конечно же, могу. А где мой пистолет?
Кто-то протянул ему пистолет, кто-то взял его под руку. Человек с лампой еще раз осветил его:
– Ну, пошли.
Лавров успел разглядеть и его лицо: неприметное, с толстым носом, с кустиками бровей, под которыми были болезненно опухшие веки. Человек этот, видимо, устал до предела. К плечу у него прилип красный кленовый листок, – стало быть, он пришел сюда, в подвал, из леса.
И вот опять ночь, дождь, – уже не мелкий, холодный осенний дождь, а сильный и шумный ливень, словно нарочно глушащий шаги. Шли гуськом, миновали сначала какие-то заборы, потом началась осыпь и внизу речка, за нею потянулся перелесок, низкий кустарник, исхлестанный дождем. Человек, который их вел, то возвращался назад, в хвост цепочки, то быстро проходил вперед – и все это молча, не вынимая руки из кармана, где было оружие.
Роща кончилась большим болотом, и здесь их заметили. Издалека ударили минометы, и первые разрывы мин повалили несколько стройных тонких березок. Кто-то – очевидно, все тот же вожатый – крикнул: «Не ложиться!» – и первый побежал, прыгая с кочки на кочку. За ним побежали, спотыкаясь и падая на коряги, остальные.
Мины ложились далеко, – немцы, надо полагать, кидали их вслепую. Но все же при выходе из болота несколько мин накрыло колонну: женщина, с платком до глаз, упала, не вскрикнув, лицом вперед, а кто-то, застонав, ткнулся в куст. Раненого понесли, убитую оставили.
К Лаврову снова вернулась необычайная, быть может даже лихорадочная, ясность сознания. Все воспринималось им теперь с какой-то особой отчетливостью; так бывает у альпинистов, когда они, делая над пропастью один шаг, знают, каким будет второй. Лавров остановился, пропуская шедших сзади.
В предрассветных сумерках можно было уже разглядеть лица – он всматривался в них, чтобы потом, у своих, сказать: да, все здесь, и, значит, никто не удрал из тех пятерых, ищите их!
Одной из последних шла Катя, он ее узнал сразу и пошел с ней рядом.
– Вам тяжело? – спросила она.
– Нет, ничего, – Лавров отвел рукой от лица ветку. – Кажется, скоро конец?
– Не знаю… И куда идем – тоже не знаю.
Они пошли молча. Дождь уже перестал, но по лесу шумели, стекая на землю с деревьев, тяжелые капли. Кончилось болото, и теперь люди шли между корабельных сосен, спотыкаясь о корневища, переползали через поваленные бурей или снарядами – не разобрать – мощные стволы деревьев. И чем дальше они уходили, тем больше в воздухе пахло гарью; тяжелый этот запах войны и страдания перемешивался с запахом хвои и грибной плесени – запахом русской осени. Где-то в вышине протянул невидимый косяк диких гусей, и долго еще слышно было призывное: «Гонк-гонк-гонк»… А люди все шли и шли, падали, поднимались и снова шли. Лавров увидел, что упала Катя, и он нагнулся к ней, поднял, понес. А потом и у него вдруг пересохло во рту, закружилась голова, и, кажется, сам он опустился рядом с Катей на землю, окончательно теряя сознание…
Лавров очнулся только через два дня. Первое, что он попросил, – это позвать кого-либо из начальства госпиталя. Комиссару госпиталя он рассказал все и внимательно перечитал запись своего рассказа.
Но комиссар не дошел до кабинета следователя: попав под бомбежку, он спрятался в подворотню дома, бомба угодила в дом, – комиссар был убит, его нашли и похоронили там, где стоит теперь над братской могилой мраморный обелиск.
А сумка с записями рассказа Лаврова была обнаружена двенадцать лет спустя.
Глава первая
По заводу шел нехороший, тревожный слух. Толком пока никто ничего не знал, и поэтому люди тревожились еще больше.
Утром директору «Электрика» позвонили из Москвы, из главка:
– Вы знаете уже, что случилось на Кушминской ГЭС?
– Нет, – встревоженно ответил директор, крепко прижав к уху трубку, чтобы не пропустить ни слова. – Нет, не знаю.
– Авария с генератором. Подробности и нам пока не ясны, но дело серьезное.
Кушминская ГЭС была неподалеку от города и, собственно, одна работала на город. Еще не представляя себе истинных размеров аварии и ее причин, директор быстро понял ее последствия. На ГЭС три генератора. Выход из строя одного заставит все предприятия города опять перейти на самые жесткие лимиты. И так с электроэнергией неладно, а теперь, выходит, будет совсем плохо. Конечно, этим делом займутся не только комиссии опытных инженеров, но и следственные органы.
С давних пор между заводом и ГЭС всегда была самая тесная, самая дружеская связь. Директор помнил, как еще фабзайчишкой он ездил на лето строить ГЭС – рыть котлован, ставить плотину, валить сосны. С годами связь крепла; после войны завод помог поднять полуразрушенную станцию. Совсем недавно там был поставлен новенький, последнего выпуска, генератор.
Он вызвал секретаря и попросил ее созвониться с директором ГЭС. Разговор был в тягость обоим; тот скупо рассказал, что был взрыв, генератор разнесло. Да, он уже осматривал его. Пока трудно сказать что-либо определенное.
Вряд ли кто-нибудь на заводе острее переживал случившееся, чем Воронова. С каким трудом удалось ей добиться почетного права ставить на ГЭС новый генератор! Месяц она провела там и, что греха таить, гордилась тем, что именно ей на прощание рабочие преподнесли красивую хрустальную вазу. Меньше всего она думала сейчас о себе: ошибки в работе при установке быть не могло. В конце концов, все расчеты, все технические дневники сохранились, их нетрудно проверить. Но почему это случилось именно с генератором «Электрика», с тем, который ставила она? Ждать она не могла и пошла к главному инженеру. У того был народ, говорили о текущих делах, но видно было, что у всех на уме одно и то же. Катя вышла оттуда, так ни о чем и не спросив, – от этого стало еще тяжелее.
Наконец, мало-помалу, хотя никто их не созывал, начальники отделов собрались в кабинете директора. Но он, казалось, не замечал, что комната уже полным-полна, что все ждут. Он куда-то еще звонил, говорил что-то; его голоса за шумом не было слышно. Наконец, он оторвался от дел и словно впервые заметил десятки пар глаз, выжидающе смотрящих на него. Шум стих. Слышно было, как гудит на директорском столе маленький пропеллер-вентилятор.
Директор понял, что от него ждут, и начал говорить неторопливо, словно обдумывая каждую фразу. Никого не обманывала эта неторопливость: просто ему было так же тяжело говорить, как собравшимся – слушать. Он кончил, сделал паузу и спросил:
– Обсуждать, я думаю, не будем, еще ведь мало что известно.
– Будем, – отозвался кто-то возле его стола, и Катя приподнялась, чтобы лучше видеть.
Это был начальник конструкторского бюро Козюкин, – он сидел почти рядом с директором, в глубоком, очень удобном кресле (Катя знала: в это кресло не садятся – в него «погружаются») и курил, затягиваясь глубоко, всей грудью, а потом с силой выпускал дым вверх, следя, как прямая его струя клубится и растекается под потолком.
– Да нет, это я вообще сказал – «будем», – повел рукой Козюкин. – На мой непросвещенный взгляд, тут есть что обсудить и есть из чего сделать выводы. Так, быть может, я – напоследок.
Директор кивнул: как хотите.
Первым выступал главный технолог завода; он сказал две-три общие, ничего не значащие фразы. В иное время над ним бы добродушно посмеялись: за ним знали эту болезнь – выступать на любом собрании, по любому вопросу. Теперь все только поморщились, и когда технолог сел, облегченно вздохнули: на сей раз даже он понял, что сейчас не до туманной трескотни.
Выступать, однако, никто не хотел. Козюкин еще разок пустил тонкую, длинную струйку табачного дыма и мягко повернулся в кресле:
– Что ж, разрешите тогда мне.
Говорил он сидя. Он всегда говорил только так и потом подшучивал, что это его привилегия, как у героя Марка Твена – Гордона, который получил это право у короля за свою верную службу.
– Надо сказать, товарищи, – начал он, – что случай этот для нас, как говорится, «чепе» – чрезвычайное происшествие…
Он задумался, аккуратно гася в пепельнице папиросу, стараясь не запачкать пальцы, и все теперь смотрели на его пальцы, словно поторапливая их. Директор что-то чиркал в блокноте и хмурился, а потом невесело ухмыльнулся и сломал грифель карандаша, слишком сильно нажав на бумагу.
– Что же мы знаем? Разве мы знаем все технические причины аварии? – продолжал Козюкин. – Нет. Почему бы нам не предположить, что авария произошла в результате неправильной эксплуатации аппаратуры. Вы говорили, – он опять мягко повернулся в кресле к директору, – вы говорили, что авария, по-видимому, есть результат несоответствия между техническими нормами и напряжением. Так ведь? Но здесь есть опять-таки «но»… Во-первых, это «по-видимому» – точно ведь ничего не известно, а во-вторых… Во-вторых, зачем же вешать головы раньше срока, товарищи. Неприятно, конечно, это так. Но ведь наш завод – один из лучших в стране. Наша продукция всегда пользовалась заслуженной славой. На моей памяти что-то не было случаев, когда нас обвинили бы в бракодельстве. Не было такого случая, кажется?
Катя слушала его, вся подавшись вперед. То, что говорил сейчас Козюкин, отвечало мыслям, которые она хотела высказать здесь. Правда, она высказала бы их сумбурно, несвязно, Козюкин же – он не говорил, он словно бы плавными движениями выносил слова, они были у него ровными, фразы – законченными.
Кате тоже казалось, что авария произошла в результате неумелого обращения с аппаратурой. В самом деле, она ведь видела сама, как генераторы, уже опробованные на заводе, мерно загудели там, на ГЭС. Козюкин, сказавший об этом, только поддержал ее мысли.
– Но может быть и другой, вполне возможный вариант, – доносился ровный баритон Козюкина. – Надо быть самокритичным и не валить все на эксплуатационников. Может быть, при монтаже генератора на месте был допущен какой-либо просчет, не соблюдены до конца указания конструктора; короче говоря, была проявлена халатность. Я говорю – возможно. Возможно, но не факт. Кто у нас был на монтаже?
– Я.
Катя услышала не свой, а какой-то далекий, будто простуженный голос. Во рту у нее мгновенно пересохло, и, сказав это «я», она почувствовала, что больше вообще ничего не сможет сказать.
– Екатерина Павловна? У вас, конечно, сохранилась вся документация?
Она только кивнула в ответ.
– Ну, у меня все, – развел руками Козюкин. – Предлагаю в нашу комиссию включить инженера Воронову…
Когда он кончил, собравшиеся почувствовали, как мало-помалу с плеч их сваливается гора. В тайниках души каждый твердо убеждал себя в том, что завод ни при чем в этой аварии; убеждал, но не хотел высказать вслух, чтобы не получилось печального «Иван кивает на Петра». Действительно, за многие годы это был первый случай. Еще один такой случай – давно, до войны – в счет не шел, там было просто вредительство: облили обмотку кислотой, чтобы она разъела изоляцию. Вредителя тогда поймали сразу же. Это было давно, мало кто помнил об этом.
Единственное, что еще могло тревожить, – это последние слова Козюкина о просчете Вороновой. Она молодой, очень способный инженер, но, конечно, могла ошибиться. Верить этому никто тоже не хотел, но пока причины аварии оставались неясными, это с трудом, с болью, но допускалось.
Катя вышла из директорского кабинета и бегом поднялась к себе. В шкафу, аккуратно сложенные, лежали кипы бумаги. Ключа от шкафа у нее не было, он открывался просто, самым обыкновенным гвоздиком. Она перебрала все чертежи, расчеты. Да, нетрудно будет доказать, что ошибки при сборке не было. Однако волнение не проходило. Когда один из конструкторов – пожилая, полная женщина – вошла в комнату, она увидела, что девушка стоит возле окна и плечи у нее вздрагивают.
Она подошла к Кате и плавным, материнским движением повернула ее к себе лицом.
– Ну что ты, глупая? Ну перестань, девочка, перестань, все уладится. Даже если твоя вина – поймут, простят…
Совсем по-ребячьи уткнувшись в теплое, мягкое плечо женщины, Катя продолжала плакать. И оттого, что та утешала, гладила по спине, целовала в золотистые, венком кос уложенные на голове волосы, она заплакала еще громче и несдержаннее.
Курбатов завязал тесемки у папки и поднялся. Потом, вспомнив, что он сегодня в форме, вернулся к столу и положил дымящуюся папиросу на край пепельницы.
Генерал ожидал его. Залетавший в полуоткрытую форточку мягкий, по-весеннему свежий ветерок перебирал разложенные перед генералом листки. Курбатов узнал свое донесение: страницы были помечены синим карандашом.
– Садитесь, майор. – Генерал, нахмурившись, просматривал последние листки. Неожиданно он взглянул на Курбатова, улыбнулся, и лицо его, в крупных темноватых морщинах, также неожиданно помолодело. – Я с удовольствием прочитал ваш доклад… Действовали смело, решительно и… – здесь генерал сделал паузу, исподлобья глядя на сидевшего перед ним Курбатова. – Да, да, не смущайтесь!.. Отсюда закономерность успешного выполнения задания. Что ж, приятно, Валерий Андреевич, очень приятно…
Курбатов сидел так, что генералу из-за стола была видна только его голова с зачесанными назад светлыми, чуть золотистыми волосами да серые, внимательные, очень серьезные глаза. На маленькое ухо надоедливо спадала упрямая прядь, майор то и дело неловким движением руки прятал ее за ухо.
Генерал собрал листки, провел по сгибу ладонью и отложил их в сторону.
– Что еще новенького у вас?
Майор оживился. Похвалы всегда смущали его; в такие минуты Курбатова охватывало чувство странного беспокойства, неловкости. Теперь он приподнялся в кресле:
– За последние дни ничего особо интересного не случилось. Из управления пограничной охраны сообщают об обычных нарушениях границы. Задержание нарушителей и выяснение их личностей большого труда не представляют.
Курбатов остановился, ожидая, что скажет генерал. Тот достал из ящика светло-зеленую папку и, не развязывая, отдал ее майору:
– Очень трудное задание я вам даю, Валерий Андреевич. Но оно вам по плечу. Познакомьтесь с документами, обмозгуйте. Потом посоветуемся.
Положив папку на сдвинутые колени, Курбатов медленно перелистывал бумаги. С первых же строк, прочитанных им бегло, майор громко чмокнул губами:
– Так это было двенадцать лет назад?
Генерал подошел к креслу и облокотился на спинку:
– Точнее, одиннадцать лет и семь месяцев. Одним словом, очень давно, настолько давно, что… – он не закончил, вернулся к столу и сел, обеими руками поглаживая пролысины высокого, уже слегка загоревшего лба. – Поглядите-ка на последний документ, – посоветовал он. – Это уцелевшее донесение немецкого агента, которое обнаружено в архивах разведки там, в Берлине. Не успели уничтожить.
Курбатов осторожно отодвинул верхние бумажки. Под ними была фотокопия; он прочитал ее в подлиннике, хотя снизу к ней был подклеен перевод. Агент R-354 доносил, что группа, перешедшая линию фронта в районе Солнечных Горок, провалилась в 1942 году, явка разгромлена, людей нет. Теперь Курбатов снова вернулся к первым документам – рассказу старшины Лаврова.
– Разрешите вопрос, товарищ генерал?
– Да?
– Когда найдено сообщение немецкого агента?
– Месяц назад.
– А рассказ старшины?
– Вчера. Вчера их принесла к нам одна девушка. Кстати, она сама шла с этой группой.
– Речь, конечно, идет об одних и тех же людях, – сказал Курбатов. – В октябре сорок первого прошли, в сорок втором провалились…
Генерал кивнул, сильно опираясь на край стола, словно отталкиваясь от него.
– В том-то и дело, что они не провалились в сорок втором году. В указанное время никакая группа нами не разоблачалась. Это точно проверено. Они где-то здесь, у нас… Где сейчас эти пятеро? Что они делают?
Он вопросительно посмотрел на Курбатова. Но взгляд майора выражал такой же немой вопрос, и тогда они оба усмехнулись, сначала с иронией, а потом с горечью.
– Получили нового хозяина. Ведь они потеряли одного хозяина в сорок пятом, – сказал Курбатов.
– Да, но откуда это сообщение, что они уже арестованы?
Собеседники замолчали, каждый раздумывая. Генерал тяжело вздохнул:
– Видите, как много этих «но», «почему», «где»… – Он опять встал и прошелся по кабинету, похрустывая сапогами, потом встал у окна и, не оборачиваясь к Курбатову, сказал сухо и деловито: – Кое-что я уже сделал. Послан вызов Лаврову, он будет завтра. Этот человек вам необходим. Надо позвонить в облисполком, Новикову. Это он был проводником тогда. Наконец, можно связаться с округом – выяснить, какая воинская часть обороняла этот участок фронта. Словом, подумайте пока… – Он поморщился, словно бы вспоминая, о чем он еще не сказал, но так, видно, и не вспомнив, протянул Курбатову руку: – Подумайте. Меня прошу информировать каждую неделю.
И, давая понять, что коротким этим приказанием разговор окончен, нажал на краю стола одну из белых кнопок.
Над городом занимался рассвет. Серый, мутный квадрат окна, всю ночь неподвижно лежавший на полу, начал постепенно светлеть, ожил и пополз в глубь кабинета. Словно на проявляющейся фотобумаге, на полу появились линии, пока еще расплывчатые, незаметно переходившие в белесые пятна. Потом эти линии стали расширяться, их окраска – темнеть. Теперь они отчетливо пересекали квадрат окна, и Курбатов увидел перед собой на полу ясный отпечаток рамы, перекладин и даже маленького форточного крючка.
Был тот утренний час в то удивительное время года, когда весенняя ночь, кажется, не имеет ни начала, ни конца, когда сиреневое блеклое небо, кажется, только приподнимается над домами, пропуская в город бледное нежаркое солнце, и белая ночь становится таким же ласковым, мечтательным, чуть голубеющим днем.
Курбатов потянулся было к окну, чтобы взглянуть в этот час на город, на его матовые крыши, на молочные шары фонарей, на молодую яркую зелень садов, но остался сидеть. Он не хотел расставаться с тем настроением, какое им владело с вечера, с того момента, как он пожал генералу руку и принял новое задание.
Первый час ушел на ознакомление с делом. Документов было совсем немного, и Курбатов просидел над папкой столько времени лишь потому, что перечитал их не один раз. Они запечатлелись в памяти настолько, что можно было уже мысленно переходить от строки к строке, перелистывать страницы и находить то место, которое необходимо. Курбатов спрятал папку в стол. Теперь все дело находилось у него в голове, прочно въелось в какую-то извилину мозга и оттуда направляло все его мысли.
Мало, страшно мало еще для того, чтобы знать, откуда начинать действовать.
О чем рассказал старшина Лавров? О своей встрече с неизвестным патриотом, о словах, сказанных им перед смертью. Быть может, никогда не удастся установить не только имя этого старого человека, но и то, откуда в его руках оказался секретнейший приказ немецкого командования: «…группу, переходящую линию фронта, пропустить… Организовать ложный обстрел… В течение двух дней, предшествующих переброске, воздержаться от арестов, задержаний неизвестных на улице и т. д.» Что ж, приказ этот выполнялся немцами сравнительно точно…
Неважно, откуда пришел этот документ. Он передавался из рук в руки, как эстафета. Быть может, и неизвестному старику его дал вместе с адресом подвала другой, такой же неизвестный, – но не в этом дело. Курбатов взволнованно потер ладонью лоб: теперь эта эстафета перешла к человеку, которому она и предназначалась, пусть фамилия его оказалась – Курбатов, а не какая-либо другая; он бережно принял ее, пусть годы и годы спустя, но с той же силой любви к народу, к стране, с той же заботой о ее безопасности, которая вела неизвестного старика, Лаврова, а может быть, и других через опасности, подчас смертельные. Как никогда Курбатов почувствовал себя преемником всех тех, кто упорно, настойчиво, не боясь за свою жизнь, нес ему эту весть.
О чем еще рассказал в свое время Лавров? В подвале было двадцать шесть человек. Себя он не считал, – всего, значит, двадцать семь. Ну, это надо проверить, позвонить в округ.
Лавров пытался запомнить людей. Трудно, конечно, ему было. Полутемный подвал, затем – ночь, сумерки…
Железнодорожник… Почему железнодорожник? Ах, потому, что на нем была фуражка! Тоже ерунда. Небось, он уже в велюровой шляпе ходит.
Девушка. Ну да, это Катя. Ее, пожалуй, Лавров и сейчас помнит, во сне видит, если не женился. Эх, молодость, – не мог получше запомнить всех!
Нет, надо обязательно расспросить его обо всем. Но воды утекло порядочно, и Лаврову трудно будет вспомнить. Он, пожалуй, ничего не добавит.
Сорок первый год… Вон откуда надо начинать поиски.
А что он, Курбатов, делал в ту пору? Принимал взвод, привинтил первый кубик… Под Новгородом, недалеко от Солнечных Горок, рукой подать; тогда же – и на самолете не долетишь, собьют. Вот было времечко!
Где-то неподалеку от тех же Солнечных Горок, тогда еще ему неизвестных, погибла Женя, – ушла на операцию и не вернулась. Перебежчики рассказывали потом, что девушку схватили эсэсовцы, несколько дней мучили, а потом повесили в какой-то деревне на воротах. Нашлась и табличка, которая была приколота на ее груди: «Это ждет каждого советского разведчика». Как знать, не будь Женя разведчиком, он, майор Курбатов, был бы сейчас тем, кем и до войны – инженером-сталелитейщиком. Но когда Женя погибла, когда оттуда, с той стороны, принесли эту табличку, Курбатов уже не сомневался в своем будущем.
Накануне ухода Жени на операцию они встретились, – девушка пришла к нему.
«Ну, пока?»
Она сама поцеловала его, тихо рассмеявшись его смущению.
«Пока… Я не знаю, когда вернусь…»
«Женя!»
«Не волнуйся за меня. Такая у меня профессия. Я очень люблю родину, Валерий… Больше, чем тебя. Больше, чем себя. Ты понимаешь это».
Она торопливо поцеловала его еще раз.
«Мы не маленькие, Валерий, я могу и не вернуться. Но все равно, я хочу, чтобы ты был счастлив… Ты понял меня? Вы поняли меня, младший лейтенант?» – шутливо переспросила она.
Ее фотография висит у Курбатова дома, и мать иногда, указывая на нее, тихо спрашивает сына: «А Нина Васильевна… понимает тебя?»
«А какие они сейчас, эти пятеро, – вернулся Курбатов к прежним своим мыслям. – Носят, конечно, другие платья, прически, галстуки. Может быть, садятся рядом в трамвае, смотрят из толпы на строящееся здание – ох, как быстро, как прочно! Они, наверное, уже обжились, уверены, что о них никто не знает. Ничего, голубчики, дайте срок, найдем».
Он подвел итоги своих размышлений: план покамест такой – звоню в округ, затем в исполком, договариваюсь с Новиковым, встречаюсь с Лавровым. Надо побеседовать с Вороновой, она ведь пришла в подвал раньше старшины. Это пока все.
Курбатов позвонил в округ, и оттуда ему ответили, что начнут поиски подразделения, переходившего линию фронта в 1941 году, немедленно.
В облисполкоме Курбатов долго не мог разыскать Новикова, – тот куда-то уходил, его искали, затем советовали звонить по другому номеру. Курбатов терпеливо записывал номера телефонов – их накопилось уже с полдюжины, – не кладя трубку, нажимал рычаг, вращал диск и спрашивал Новикова. Наконец, в трубке раздался густой, чуть хриповатый голос: «Да, это я, слушаю!» – и Курбатов договорился встретиться на следующий день вечером, после восьми.
Неожиданно в полдень генерал снова вызвал Курбатова к себе. Майор удивился: «Зачем? Я же ничего не успел сделать». Но, поднимаясь к начальнику, он подумал: наверное, поступили дополнительные сведения, которые, быть может, и наведут сразу на след. Подумав так и сразу по-деловому взволновавшись, майор почти побежал по ступенькам.
Генерал нервно ходил по ковровой дорожке. Как только Курбатов вошел, он повернулся к нему:
– Мне сейчас сообщили, что на Кушминской ГЭС произошла авария. Полетел генератор. Я думаю, что заняться этим должны вы, майор. Быть может, здесь есть связь с вашим заданием.
Курбатов слушал напряженно. Когда генерал сделал продолжительную паузу, видимо, ожидая вопроса, майор спросил:
– Техническое расследование уже было?
– Еще нет, ведь прошло всего два дня. Инженеры «Электрика», правда, винят эксплуатационников. Есть предположение одного инженера, что виноваты монтажники. На монтажников и раньше были жалобы. Но это все требует квалифицированной проверки. Я попросил прекратить временно монтаж остальных генераторов серии. Вы же пока познакомьтесь с людьми. Генератор «Электрика» монтировали его работники. И побеседуйте с Вороновой. Она руководила установкой генератора на станции. Вам нужно увидеть ее сейчас. Вот и начинайте отсюда. А на ГЭС пошлем еще одного сотрудника – он будет держать вас и меня в курсе всех дел.
– Слушаюсь, – ответил Курбатов.
«Начинать отсюда» – значило начинать с аварии, и если это преступление, вылазка невидимого пока врага, – то неизбежно должен оказаться след. Как ловко ни маскировался бы враг, совершивший это, он не в силах предусмотреть всех мелочей, которые, в конце концов, позволят раскрыть всю картину, найти преступника…
На завод Курбатов пришел затем, чтобы подробней узнать, где вся документация, чертежи, дневники монтажа, наконец люди, работавшие над созданием генератора… Если недавно, день назад, майор целиком был связан мыслями с документами, найденными в развалинах, сейчас он пытался представить себе, как, с какой целью могла быть устроена эта вылазка врага – если только это авария умышленная.
Стоя в проходной «Электрика» и ожидая, когда выпишут пропуск, Курбатов чувствовал себя неловко. Мимо него проходила окончившая работу смена, гулко звякали снимаемые с гвоздей номерки. Люди, возбужденные, еще не остывшие от труда, громко разговаривали, перекликаясь во дворе, и внезапно настороженно умолкали, заметив возле окошечка незнакомого человека.
Курбатов слышал, как, приближаясь к проходной, кто-то звонким, задиристым голосом, каким в деревне обычно поют частушки, выкрикнул насмешливые, видимо, очень веселые слова, и майор уже ожидал, что грянет смех. Но девушки вошли друг за дружкой в коридор, почти пробежали, заставив Курбатова прижаться к стене, и засмеялись уже на улице. Ему подумалось: люди вот уже поработали, и на душе у них весело. А я бездельничал… – он забыл, что всю ночь не спал и что раздумье – это тот же труд.
Пока он стоял, в проходную вошли еще двое, продолжая начатую беседу.
– И все же одно из двух, – донеслось до Курбатова, – либо неправильная эксплуатация, либо грубая ошибка Вороновой привела…
Прошли двое: один – высокий, в свободном сером костюме, выбритый до синевы, – разговаривал, сопровождая речь ровными движениями тонких, белых рук, словно пел. Другой шел нахмурившись, глядя себе под ноги.
– …Я всегда говорил, что молодняк надо растить и учить… – еле расслышал Курбатов. – Воронова… без году неделя… ревела вчера, как девчонка…
Курбатов усмехнулся про себя: «Вот, не успел еще познакомиться с инженером Вороновой, а сразу столько знаю. Неплохое начало для знакомства. Судя по всему, она “наломала дров”, и этот, высокий, – надо полагать, один из ведущих работников завода, – говорит так резко не без причины…»
Сразу за углом проходной начинался заводский двор, широкий и просторный. По желтым стенам корпусов карабкался, цепляясь за реечные рамы, чуть зеленеющий плющ, на газонах уже пробивалась трава, и двор был похож на молодой сад, каких много появилось в городе после войны.
Вдоль асфальтовых дорожек белели нарциссы: вероятно, их посадили недавно – земля была еще рыхлая.
На секунду Курбатов задержался возле доски объявлений. Здесь сообщалось о репетиции заводского хора, о футбольном состязании с «Молотовцем», висел график занятий семинаров по изучению истории партии и – чуть пониже – объявление о том, что семинар Р.М. Козюкина переносится на среду.
…Нет, директор завода не много смог рассказать Курбатову: он сам еще знал слишком мало, но Курбатов договорился, что директор будет держать его в курсе всех дел, главное – в курсе работы комиссии на ГЭС. Будто вскользь он спросил, кто устанавливал генератор на ГЭС, и, услышав фамилию Вороновой, кивнул:
– Слышал эту фамилию. Говорят, способный инженер?
– Да, очень способный. Она сейчас подготавливает документацию… Вам позвать ее?
– Нет, нет, спасибо.
Курбатов задумчиво перелистывал лежавший на столе директора технический журнал. «Что прибавилось к материалам следствия? – думал он. – Да ровным счетом пока ничего, и, надо полагать, придется подождать немного… Во всяком случае, встреча с Вороновой и беседа не помешают».
Девушка вошла в кабинет Курбатова торопливо, словно ей не терпелось скорее рассказать о том далеком времени, когда она с группой беженцев переходила фронт – и хоть этим помочь, если только нужна ее помощь. Она волновалась, ей трудно было скрыть волнение, да она и не пыталась скрывать его. Курбатов встретил ее на середине комнаты и, подавая ей руку, назвал себя. Она ответила: «Воронова», – и когда майор пригласил ее сесть, она села, положив сумочку на колени.
Курбатов представлял ее себе именно такой. Простое, очень русское лицо, чистое и открытое. Такое встретишь десять раз на дню и не обратишь внимания. Косы, уложенные венком на голове. Рука – тонкая в кисти, а на сгибе среднего пальца, там, где обычно лежит вставочка, – небольшое чернильное пятнышко…
– Вы уже знаете, почему я вас пригласил?
– Конечно, я ведь ждала…
Катя ожидала, что майор заговорит первым.
Он спросил, давно ли она живет здесь, в этом городе, и Катя ответила – да, давно, двенадцать лет. До войны жила в Солнечных Горках. Когда началась эвакуация, гитлеровцы взорвали мост, сбросили десант, и уйти удалось только через месяц с группой беженцев.
– Мне сказала соседка, – она тоже уходила. Вместе мы и попали в подвал. А откуда она знала, я даже не поинтересовалась… Не до этого было… Теперь она по-прежнему в Солнечных Горках живет… Мария Ильинична Кислякова… на старом месте. Я могу дать адрес… – она назвала улицу и номер дома.
Майор сразу же записал адрес в протокол и снова сцепил пальцы, не выпуская пера:
– Так, так, товарищ Воронова… Кстати, когда вы стали инженером?
– В электротехнический я пошла в год победы… Инженер я пока очень молодой.
Курбатов внимательно слушал Катю. У него складывалось определенное суждение о Вороновой.
– Верно, молодая… А что за цех у вас там в стороне? Я невольно обратил внимание. Корпус большой, а впечатление такое, что там никто не работает.
– Это специальный цех. Совсем недавно открыли, в связи с заказами новостроек, – и Катя рассказала, что там делают.
– «Молодняк», – вдруг улыбнулся Курбатов, вспомнив разговор в проходной. – «Без году неделя». Знаете, что это о вас говорят?
Катя удивленно взглянула на него. Она уже готова была ответить на это чем-нибудь резким, но вовремя вспомнила, что разговор сейчас не о ней, и только пожала плечами.
Курбатов спросил ее:
– Кто это у вас такой высокий, в сером спортивном костюме, руками вот так разговаривает?
Он развел руками, и Катя улыбнулась:
– Наш начальник конструкторского бюро, Козюкин. Очень хороший, старый инженер. Я у него в семинаре…
– В каком семинаре?
– По изучению истории партии…
– Ах да, я и забыл. Он у вас на заводе семинар ведет. И как – интересно?
– Интересно. Очень знающий человек. Так ведь он и в партии давно, так что есть что рассказать, помимо обычных материалов.
– Да, да, – кивнул Курбатов. – Но мы отвлеклись в сторону. Я слышал, у вас сейчас неприятности на заводе?
Рассказ был долгий, но он слушал ее, не перебивая; ему понравилось, что Воронова совсем освоилась и чувствует себя непринужденно. Так и должно быть, – ведь у них беседа, и только…
– В общем, все сразу свалилось… – кончила Катя. – И эта находка… Я как прочла, что рассказ какого-то старшины касается шпионов, так к вам бросилась…
– Сразу и побежали?
– Да, сразу. Ведь шпионы по вашей части?
– Значит, прочитали?
– Сознаюсь, простите уж за любопытство… Но ведь это к лучшему, не правда ли?
Курбатов помолчал, думая. Но Катя, не ожидая вопроса, продолжала:
– Мне в глаза бросилось, что говорится о Солнечных Горках. И я сразу вспомнила тот день. Уж очень он какой-то особенный был.
– Кто же тогда находился в подвале? Кого-нибудь помните? – майор хотел было оборвать ниточку Катиного рассказа, а потом решил, – пусть говорит. Он только сильнее сцепил пальцы и не сводил взгляда с лица девушки. А она опустила глаза и медленно перебирала концы шелковой косынки, накинутой на плечи.
– Кто же там был?.. Кто же?.. Честное слово, не припомнить… Соседка. Какие-то люди. Много людей… Вам ведь надо подробно? Да? – она посмотрела Курбатову в глаза и снова задумалась. – Мне тогда было только шестнадцать лет… Я никого не разглядывала. Мы ждали, с нетерпением ждали, чтобы скорей уйти. Боялись, что немцы найдут нас… Потом пришел моряк, я была около него… Нет, трудно… Сколько лет!.. Я, может, потом вспомню и скажу вам…
Курбатов понял состояние Кати, понял, что она действительно не помнит никого, кто был тогда с нею. Он протянул ей протокол – подписать, отметил пропуск и, встав, протянул на прощанье руку.
Лавров очень давно не был в этом городе. Последние годы он служил в одной из сухопутных частей: на флот из морской пехоты он так и не вернулся. После небольших городов все здесь ему казалось исполинским – и здания, и улицы, и деревья. Он шел по краю тротуара, чтобы никому не мешать своим чемоданом, разглядывал прохожих, объявления, автомашины.
Через полчаса он вошел в дом на Петровском проспекте и, получив у дежурного пропуск, уже догадавшись, куда его вызвали, но не зная – зачем, поднялся на второй этаж, где была комната 39.
На его стук ответили: «Войдите!» – и он толкнул дверь. В кабинете сидел мужчина в штатском. Лавров сначала хотел отдать честь, но передумал и только глухо щелкнул каблуками:
– Старший лейтенант Лавров.
Мужчина в штатском поднялся ему навстречу и, по-штатски же двумя руками пожав протянутую руку Лаврова, сказал:
– Курбатов. Очень хорошо, что вы прямо с поезда пришли сюда. Я вас ждал.
Он провел Лаврова к креслу, где только что сидел сам. Старший лейтенант вопросительно посмотрел на Курбатова.
– А-а! – засмеялся тот. – Сейчас все поймете. – Майор сел за стол. – Вы приехали сюда в связи с делом двенадцатилетней давности. Помните, в октябре сорок первого года вы, старшина Лавров, перешли фронт в Солнечных Горках. Помните? Ну вот и хорошо… Вы сообщили комиссару госпиталя, что вместе с группой советских граждан фронт перешли и пять немецких агентов.
Лавров потер мгновенно вспотевший лоб.
– Разве с этим делом не покончено? – он от волнения не заметил, что выкрикнул эти слова.
– К сожалению, нет. Тот человек, комиссар госпиталя, которому вы передали документы, погиб во время бомбежки, на пути сюда. Бумаги нашли только сейчас, буквально три… нет, уже четыре дня назад.
– А я думал, пойманы… Давно, в первый же… ну во второй месяц… Полная уверенность. И не спрашивал, не интересовался… Потом был эвакуирован, лечился, попал на север.
– Да, это все так. Мы и не виним вас. – Курбатов говорил спокойно, и Лавров тоже начал успокаиваться. – А вот теперь вы нам опять поможете. Ладно?
– Как же, надо обязательно найти! Вот жаль только… Ведь тогда я лучше помнил все. И людей, и вообще…
– Ну, ничего, ничего. Не все сразу. Позже я познакомлю вас с одним человеком, – может быть, вспомните вместе.
Он взглянул на часы, подошел к телефону и спросил в трубку:
– Брянцев еще здесь? Пусть зайдет минут через пять.
Потом майор вернулся к Лаврову:
– Ну, уже поздно. Спать пора. До свиданья. Вам приготовлен номер в гостинице. Это недалеко, рядом. Завтра утром приходите, поговорим. И пока очень много не думайте, спите крепко.
Лавров пошел к дверям. Курбатов проводил его. В коридоре Лаврову уступил дорогу высокий лейтенант с румяным юношеским лицом и черными, слегка вьющимися волосами; открыв дверь, из которой Лавров только что вышел, лейтенант спросил:
– Звали, товарищ майор?
Глава вторая
Авария с генератором «Электрика», казалось, могла дать Курбатову то первое звено, за которым потянулись бы другие.
Разговаривая накануне с Вороновой, майор неотступно думал об аварии. Но техническая комиссия должна была приступить к расследованию только завтра. Не было известно, в чем же истинная причина аварии. Не имея выводов технической комиссии, Курбатов все же решил начать расследование. С ГЭС посланный туда сотрудник сообщал, что нового пока ничего нет, поэтому Курбатов продолжал поиски пятерых.
План, разработанный Курбатовым и лейтенантом Брянцевым, был прост – и вместе с тем труден для исполнения.
Работник облисполкома Новиков, тот самый, который вел группу беженцев через фронт, также не смог вспомнить подробностей. Ценным в его показаниях было то, что среди беженцев был железнодорожник, раненный в руку (о котором сообщал и Лавров), музыкант со скрипкой да поныне живущие в Солнечных Горках жены ответственных работников с детьми. Помимо них, среди двадцати семи было десять военнослужащих красноармейцев во главе с лейтенантом – остатки взвода, выходившего из окружения.
С огромным трудом, после долгих поисков в архиве штаба округа, Курбатову удалось установить, что подразделение, вышедшее из окружения в октябре сорок первого года в районе Солнечных Горок, возглавлялось лейтенантом Седых.
Он отдал Брянцеву листок с фамилией Седых. Надо разыскать его. Потом он спросил у Брянцева – который час? Было уже шесть.
– Нам по пути, – сказал Курбатов, поднимаясь.
– Простите, товарищ майор, – ответил Брянцев. – Я начну розыски… сейчас.
– Сейчас? И сколько, вы думаете, это займет у вас времени?
– Не знаю точно. Ночь, может быть.
– Товарищ Брянцев, по ночам работать запрещаю… кроме исключительных случаев. Одевайтесь, нам по пути.
Они вышли в коридор, и Курбатов продолжал:
– Запрещаю, ничего не попишешь. Вы что сейчас читаете?
Брянцев, явно смущенный, что-то буркнул в ответ.
– Вот видите – и не поймешь толком, что. А читать надо. С женой когда в театре были?
Опять Брянцев буркнул что-то невразумительное.
– А я на днях на «Хованщине» был, – вдруг сказал Курбатов. – Вы слушали «Хованщину»? Нет?.. Ох, позвоню я вашей жене, – погрозил он пальцем, – да и скажу…
– Она не обижается, – сказал Брянцев.
Курбатов накинулся на него:
– Что, что? Вы думаете, ее дело мужу щи варить, воротнички стирать да ждать его? Нет? Ну хорошо, что так не думаете. А другие думают…
– Кто? – поднял голову Брянцев.
– Заглянул я в кой-какие наши книжки. Диву даешься: и личной жизни ни у кого нет, и любить герои не умеют, и, черт побери, рюмки водки не могут выпить. Нельзя так жить, как эти герои книг, – закончил он, дотрагиваясь до рукава Брянцева. – А вы почему-то захотели им подражать…
– Нет, – сказал Брянцев, – мне просто кажется, что есть дела, не терпящие отлагательства. Мы же – не завод…
Курбатов качнул головой:
– Помните у Маяковского: «Я чувствую себя заводом, вырабатывающим счастье». Мы особый завод, товарищ лейтенант. Ну, до завтра.
Утром Брянцев заказал разговор с Москвой и, на всякий случай, со штабом округа. Через три часа ему сообщили, что гвардии подполковник Седых, Герой Советского Союза, служит в тридцать шестой дивизии. Брянцев знал: дивизия эта сейчас недалеко, в Бережанском районе. Он позвонил туда по прямому проводу. Подполковник Седых был на месте.
– Позвать его к телефону?
– Нет, не надо звать, благодарю вас.
Брянцев положил трубку и пошел к Курбатову.
– Отсюда и начнем тогда, – сказал майор, выслушав Брянцева. – Седых в части, говорите? Что ж, поехали знакомиться.
Брянцев позвонил и вызвал машину, а Курбатов подошел к карте, отыскал Бережанский район и берег озера, где стояла на летних квартирах дивизия. «Далековато, дома будем, стало быть, только под вечер». Курбатов спустился в столовую и взял несколько бутербродов себе и Брянцеву.
Кончились низенькие домики пригорода, потянулись поля, по которым шагали к горизонту стальные линии высоковольтной передачи. Началась роща. Дорога пересекала ее, и по бокам колыхалась свежая, словно промытая до блеска, зелень берез. Шофер, знавший нрав Курбатова, дал газ, и машина вскоре выскочила на бережанское шоссе, широкое и пустынное. Тут шофер мог выжать все восемьдесят, не спрашивая. Брянцев заулыбался, – он тоже любил быструю езду.
В лагерь они вошли пешком, оставив машину на шоссе. Сержант с контрольно-пропускного пункта объяснил им, как найти Седых:
– Он сейчас, наверно, отдыхает уже. Вон его дом, у озера. А нет, так в штабе.
По узкой дорожке они подошли к маленькому домику, стоявшему в глубине сада. Внезапно Курбатов остановился возле забора, вглядываясь, что происходит там, за густо разросшимися кустами акаций и жимолости.
Двое детей с радостным визгом носились за высоким мужчиной в майке. Старшая девочка бежала, высоко подбрасывая острые коленки, а младшая отставала и забегала сбоку, потешно разводя руками: «Ага, поймался!» Потом мужчина, схватив обеих девочек в охапку, повалился на траву, и они барахтались в его сильных руках, все повторяя: «Ага, поймался!» – хотя неизвестно было, кто из них «поймался».
Быть может, потому, что майор Курбатов в свое время потерял любимую девушку, а новое чувство, пусть не менее сильное, владевшее им уже не один год, было более мужественным, более строгим, – он испытывал каждый раз странное смущение перед чужим семейным счастьем. Так и теперь у него защемило в груди, – не зависть, а скорее легкая грусть по тому, чего у него пока еще нет.
Минуту спустя они входили в калитку.
Седых быстро поднялся с земли, снял с ветки китель и, застегнувшись на все пуговицы, протянул руку:
– Седых.
Девочки стояли позади, недовольные, что их игру прервали, и ожидая, что сейчас эти двое уйдут, папа снимет китель и снова начнется возня.
– Нам нужно с вами поговорить.
Седых жестом пригласил пройти дальше.
Там, под деревьями, стоял стол, врытый в землю, и две скамейки. Солнце, пробиваясь сквозь густую листву, бросало на доски стола матовые блики.
Разговор начался как обычно. Помнит ли подполковник тот день, вернее, ту ночь? Ну, конечно, разве это забудешь. А тех, кто с ним шел? Да, тоже, хотя многих уже нет, погибли в боях. Брянцев предложил бумагу и карандаш. Седых начал писать столбиком фамилии, морщился, припоминая, но писал, делая сбоку пометки:
– Пятеро, стало быть, погибли. Один из моих, узбек, сейчас на родине, пишет мне, не забывает, растит хлопок. Трое… точно вот не могу сказать, где они сейчас, – Коршунов, Головлев и Морозов. До войны двое из них были токарями, а Морозов – фрезеровщик.
– Девять, – сказал Брянцев. – Десятый вы. А еще один?
– Задуйвитер служит на Украине, офицер. Я с ним до Берлина дошел.
Брянцев сиял, а Курбатов хмурился. Все шло ровно, слишком ровно. И, вместе с тем, – ничего определенного, точного, с чего бы можно было начать розыск. Он взял у подполковника его записи и попытался представить себе всех этих людей. Среди них не должно было быть тех.
– Вы все время были вместе? – спросил Курбатов. – Из десяти человек никто не отлучался тогда, в окружении?
– Н-нет… Мы шли километров полтораста, больше лесами.
– Куда?
– На восток. К Солнечным Горкам. Правда, за две недели до Солнечных Горок мы встретились с партизанами…
Курбатов сел поудобней, словно собираясь выслушать долгий рассказ.
– В операциях мы участия не принимали, так как были измучены переходами. А партизаны при нас собирались взорвать водокачку…
– Хорошо, – сказал Брянцев, – а в лесу из ваших никто не уходил, никого вы никуда не посылали?
– Я ведь еще не кончил, – ответил подполковник, и Курбатов лукаво взглянул на Брянцева: то-то, учись терпению! Подполковник тут же добавил: – Посылал. Трое пошли с одним человеком, кажется, с председателем райисполкома, к Солнечным Горкам на рекогносцировку. Тогда мы уже думали о том, как бы перейти линию фронта. Они наскочили на отряд немцев и приняли бой. В бою все рассеялись и собрались по одиночке дней через пять-шесть.
Курбатов подался вперед:
– Кто это?
Брянцев увидел, как в зрачках у Курбатова появились злые огоньки.
– Коршунов, Головлев, Морозов.
– Больше никто никуда не отлучался?
– Нет, остальные были со мной.
Брянцев понял: эти трое, или хотя бы один из них, могли за эти дни попасть в плен, быть завербованными… Проверка здесь нужна обязательно. Курбатов думал о том же.
Наступил вечер, когда они сели в машину; шофер включил свет.
– Ну, что вы скажете, Константин Георгиевич? – спросил Курбатов.
– Черт ногу сломит, – ответил Брянцев. – Может, эти трое тогда попросту уходили от преследования.
– Посмотрим, – Курбатов закрыл глаза. – Вы завтра же займетесь розысками музыканта. Никаких данных о нем пока нет. – Откинувшись на сидении, он смотрел в окно и мысленно подводил итоги.
Было двадцать шесть. Десять – военнослужащие. Среди них нужно проверить троих. Да вот еще женщина, Кислякова, – она разошлась с мужем, живет в Солнечных Горках одна, работает в райконторе связи.
О чем еще говорил подполковник Седых?
В операциях партизан они участия не принимали, да и сами партизаны еще не наладили как следует свою борьбу в ту пору. Только взорвали водокачку…
Брянцев вздрогнул от неожиданности, когда майор резко повернулся и, дотронувшись до плеча шофера, приказал:
– Назад в дивизию.
Отыскав подполковника, Курбатов спросил:
– Те, кто взрывал водокачку, – вернулись?
– Не все, при нас вернулся только один, – кажется, железнодорожник, раненный в руку.
– А где во время взрыва был Новиков, председатель райисполкома?
– В Солнечных Горках. Ну да, он нас привел в подвал, и примерно в это же время туда пришел этот железнодорожник.
– Спасибо. Извините, что побеспокоили.
И вот снова дорога, но ночь уже сгустилась, и шофер вел машину осторожней.
– Вы поняли? – тихо спросил Курбатов у Брянцева.
– Я понял, что вы хотели узнать, но не понял еще, что мы узнали. Если этот железнодорожник пришел в подвал один, стало быть, он знал адрес.
Примерно за неделю до того как генерал передал Курбатову новое задание, на «Электрик» приехал Позднышев – видный инженер-энергетик. Здесь налаживали производство выключателей для высоковольтной сети, сконструированных им, и работники завода нуждались в его помощи.
Позднышев снял номер в гостинице, но, казалось, жил на заводе. Там ему отвели кабинет – маленькую комнатку, единственным своим окном выходившую на крыши сборочных цехов, а дверью – в коридор. В кабинете он бывал редко и всегда с новыми друзьями – инженерами, большей частью молодыми.
Молодежь к нему льнула. Позднышев обладал неистощимым запасом добродушия и веселья и был очень талантлив, а молодежь всегда тянется ко всему талантливому.
Тем временем на ГЭС шло расследование аварии генератора. Позднышев не состоял в комиссии, но не мог не заинтересоваться делом, тем более что обследовавшие так и не могли сказать последнего слова: генератор разбит, а в документации никакой ошибки нет. Сошлись только на одном: инженер Воронова вела монтаж генератора правильно. Катя вздохнула с облегчением, но на душе у нее – и не только у нее – остался неприятный осадок. Кто же все-таки виноват в аварии?
Козюкин – тот лишь снисходительно улыбался:
– Заседали, заседали… Чаи гоняли, бумагу портили и нервы себе и другим, а результатов нет?
Встретив Воронову, Козюкин еще издали протянул ей обе руки:
– Здравствуйте, племя младое, – раздавался сверху его баритон: он был выше Кати чуть не на две головы. – Вас-то, во всяком случае, можно поздравить, и… простите мне, Христа ради, мои мыслишки, что это вы напартачили. Каюсь, каюсь, Екатерина Павловна.
Катя освободила свою руку из его двух: рукопожатие оказалось чересчур долгим.
– Вы так убедительно говорили тогда, на летучке, – ответила она, – что я даже сама готова была поверить…
– И плакали, Екатерина Павловна, знаю… Ну, виноват, виноват, еще раз простите… Вы куда? К себе? – Он собирался взять ее под руку.
– Нет, в цех.
– A-а, ну, нам не по пути. Кланяюсь, Екатерина Павловна.
По дороге в цех Катя снова заглянула к Позднышеву: взять сделанные в синьке чертежи. Позднышев обрадовался ее приходу:
– Ну что, Катюша, у вас сегодня гора с плеч свалилась?
– Все равно с завода пятно не смыто. Все равно, быть может, кто-то из нас виноват.
Дверь тихонько отворилась. Вошел главный бухгалтер Войшвилов, седеющий, чуть сутулый старик. Он спросил насчет какой-то накладной, потом, взглянув на оживленное лицо Кати, с улыбкой спросил:
– Радуетесь?
Катя смутилась. Позднышев сунул трубку в карман и вышел в коридор, сказав Кате:
– Я в цех, скоро вернусь.
Бухгалтера он пропустил вперед. В коридоре старик обернулся к Позднышеву:
– Что, довольна дивчина?
– А как же ей не быть довольной?
Бухгалтер потер переносицу:
– Да, комиссии проверяли тщательно. Ошибки быть не может.
Позднышев замедлил шаг, громко хрустнул пальцами:
– Я, по правде, недоволен расследованием. Слишком поверхностно все-таки.
Старик тревожно заглянул Позднышеву в лицо. Инженер продолжал:
– Конечно, поверхностно. Как-никак, этот генератор – вещь новая, сложная. Тем более, скоро на крупнейшие стройки будем работать. Вдруг чего-нибудь недоучли, не научились. Расчеты надо посмотреть. Хоть Козюкин и большой авторитет, но…
При упоминании имени Козюкина лицо бухгалтера внезапно побелело. Но Позднышев не искал глазами собеседника. Он смотрел на свои похрустывающие пальцы, погруженный в размышления.
– Вы не видели Козюкина? Где он? Хочу сам разобраться, что к чему… Да я, собственно-то говоря, уже начал.
Бухгалтер вдруг заспешил:
– Мне – в отдел. До свидания, Никита Кузьмич.
Семенящими, частыми шажками он пошел по коридору, поглаживая на ходу седой «ежик».
В цехе Позднышев был недолго, около часа, и когда вернулся, Катя сказала ему, что его спрашивали по телефону. Кто? Она не знает. Позднышев пожал плечами и сел за чертежный стол.
– Глядите, Катюша, товарищи, подите сюда! Прессы мы будем устанавливать так, чтобы…
Его оборвал телефонный звонок. Еще продолжая объяснять, как будут установлены прессы, Позднышев снял трубку и кивнул инженерам, – обождите.
– Да? Да, я… Кто? Василий? Не может быть!
Он ругнулся, что плохо слышно: «Что это у тебя телефон позапрошлого века?» – спрашивал, как Василий очутился в городе и когда они встретятся.
– Сегодня?.. Хорошо. Где?.. – Тот что-то говорил, и Позднышев кивал: – Да, знаю, знаю… Через час?.. Ладно, отдохну сегодня. – Он положил трубку и, улыбаясь, обернулся к инженерам:
– Друг звонил, – тоже электрик, уралец, замечательный человек. Ну, я поехал веселиться. Чтоб вы сегодня на заводе не торчали! Суббота, надо отдыхать и веселиться.
Но Катя ушла поздно. Она поднялась в конструкторское бюро, прошла к «рабочему месту», как любила она называть свой столик, и по пути закрыла дверцы шкафа. «Почему он открыт?» – на секунду удивилась она и тотчас забыла об этом, зажигая лампу.
Забыла потому, что увидела из окна: перед воротами, на улице, стоит Лавров.
Курбатов познакомил их неделю назад, они поначалу не узнали друг друга, а потом Лавров, узнав Катю первым, почему-то смутился, даже порозовел:
– Это вы!
Что ж, они были давними знакомыми, и ничего удивительного не было в том, что Лавров ждал теперь Катю на улице.
В эту же субботу вечером Козюкин пришел в старый серый дом, фасадом выходивший не на улицу, а во двор, где один возле другого теснились сарайчики, поленницы дров, а над ними – ржавые голубятни. Нужная ему квартира была на шестом этаже, под самой крышей; на площадке было темно, и Козюкин, чертыхаясь про себя, долго чиркал спички, отыскивая кнопку звонка.
– Кто там? – спросили из-за двери.
– Я пришел по просьбе товарища Крупкина, – ответил Козюкин. – Это вы просили поставить вам телефон?
И хотя Козюкин, в габардиновом плаще и зеленой шляпе с витой тесемкой, меньше всего походил на монтера, там, за дверью, звякнула цепочка и петли скрипнули.
Раздевшись не в прихожей, а в комнате, Козюкин поежился. Ему было холодно здесь, в неуютной, необжитой квартире. У него же дома кабинет был отделан под мореный дуб и висело несколько пейзажей, показывая которые он любил небрежно кинуть гостю: «Куинджи»…
Человек, впустивший его, сидел теперь молча возле открытого окна и, казалось, наслаждался тишиной вечера. Козюкин усмехнулся и спросил иронически:
– Любуетесь?
– А что ж, – ответил Ратенау – он же Войшвилов, главный бухгалтер завода «Электрик». – Любуюсь. Разве не красиво?
Козюкин тоже подошел к окну. Прямо под ним начинались крыши соседних домов – море крыш, с трубами, флюгарками, антеннами.
– Да, действительно, пейзаж. Вы знаете, как об этом писал Блок?
– Надеюсь, вы пришли ко мне не затем, чтобы цитировать Блока?
– Почему же, – несколько обиженно произнес Козюкин. – Как говорят французы, каждый овощ подается в свое время.
Ратенау молчал.
– И все-таки я вам процитирую: «Что на свете выше светлых чердаков, вижу трубы, крыши дальних кабаков».
Теперь усмехнулся Ратенау:
– Это верно: только кабаки вы и видите. Хотите самую что ни на есть российскую, а не французскую поговорку: кто о чем, а шелудивый – о бане.
Он с удовольствием увидел, как этот длинный, элегантный мужчина вдруг сделался словно ниже ростом, куда-то пропали мягкие плавные движения рук, рассчитанная улыбка. Ратенау даже показалось, что у гостя дрогнули и поползли вниз кончики губ, точь-в-точь как у обиженного подростка. Ратенау встал и закрыл окно. Шум города, звонки трамваев, музыка в парке – все осталось по ту сторону окна; здесь, в комнате, стало совсем тихо, и слышно было, как на кухне урчит в плохо завернутом кране вода.
– Итак, зачем вы пришли? Я же говорил вам – только в крайних случаях!
Козюкин вдруг обозлился:
– Откуда вы знаете, что сейчас – не крайний случай? В конце концов, мы оба делаем одно дело – вы и я. Не надо этой иерархии, начальников и подчиненных: если нас поймают, так поставят к одной стенке.
– Боитесь? – прищурился Ратенау. Козюкин только плечами пожал в ответ, – жест, обозначавший: бросьте валять дурака, вы сами боитесь. Ратенау догадался, смолчал, и тогда уже Козюкин понял, что молчание было здесь воистину знаком согласия.
На самом деле никакой особой крайности не было, – просто Козюкин обнаружил, что денег у него уже нет. Должны же они платить – не только за дело, а хотя бы за эту вечную угрозу оказаться там, где нет ни кабинетов мореного дуба, ни картин Куинджи.
Первым нарушил молчание Ратенау. Он спросил так, словно у него болели зубы, а тут еще пришел назойливый проситель:
– Ну, что там у вас?
Из кармашка для часов Козюкин вытащил во много раз сложенную бумажку и протянул ее, зажатую между большим и указательным пальцами. Ратенау и здесь помедлил, прежде чем взять ее; взял, наконец, развернул, пробежал глазами несколько строчек напечатанного на пишущей машинке текста и небрежно сунул себе в карман. Потом так же медленно достал из другого кармана пачку денег и, не глядя, протянул Козюкину. Тот взял их с усмешкой. «Пачка двадцатипятирублевых, начатая, – отметил он про себя, – рублей четыреста, не больше».
– Это, однако, пустяковые сведения… – по-прежнему не глядя на него, сказал Ратенау. – Я, не выходя из бухгалтерии завода, могу знать о том, что творится в главке. У вас колокольня повыше. Мне кажется, вы получаете много, а даете мало.
– Три года назад… – начал было Козюкин.
Ратенау перебил его:
– Забудьте о том, что вы делали три года назад. Мы должны жить сегодняшним днем.
– Вы знаете, что попытка с генератором удалась? – спросил Козюкин. – Это сегодняшний день.
Ратенау кивнул:
– Да, слышал.
– Пока вышел из строя один, комиссия сбилась с ног в поисках причин аварии. В течение месяца выйдут из строя все двенадцать, и тогда…
– И тогда, – подхватил Ратенау, – этим займутся чекисты. Они придут на завод, перевернут все вверх дном и обнаружат, что начальник конструкторского бюро Козюкин вовсе не такой уж честный человек, как это казалось. Кандидат наук… член партии… воплощение критики и самокритики… Об этом вы подумали? Я предупреждал вас: портить один, а не всю серию.
– Я все обдумал, – кротко улыбнулся Козюкин. – Во-первых, серия пошла в производство по чертежам, где нет моей подписи. Я был всего лишь консультантом, и расчет обмотки… ну да эти технические подробности не для бухгалтерского уха… я писал расчет, я диктовал его соплякам-мальчишкам, а когда почтенный профессор Суровцев, мой дражайший учитель, узнал, что консультантом был я, он в порядке творческого содружества даже не стал проверять их, а подмахнул своим вечным пером. Вот и все… Что?
– Я ничего не говорил. Что дальше?
К Козюкину вновь вернулось самообладание. Он снова не говорил, а пел:
– Что еще? Еще я, на всякий пожарный случай, добрался до дневников монтажа этой тупицы Вороновой – знаете ее? Я осторожненько стер пару цифирей и… что я написал там? Те же самые цифири и положил все это дерьмо назад в шкаф. – Он даже рассмеялся, довольный. – Вы понимаете меня? Кое-кто пошлет кое-куда письмо. Кое-кто ринется исследовать эти расчеты и найдет надпись на стертом. Ясно: верные цифирьки взамен неверных. И кое-кто третий – эта бедная очаровательная девица – отправится кое-куда, а потом на нее свалятся в придачу двенадцать других генераторов, потому что она делала для них ряд работ. А?
Он ждал одобрения, ждал мучительно; Ратенау склонил голову:
– А дальше что?
– Что дальше? – Козюкин даже привстал от волнения. – Дальше я критикую директора. Я веду семинар по политическим дисциплинам. Дальше я превозношу великолепное изобретение инженера Позднышева.
– И пишете некролог.
– Некролог? – удивился Козюкин. – Я видел его…
– Я тоже видел его. Еще сегодня и много раньше. И мне этот Позднышев никогда не нравился. – Ратенау смотрел на Козюкина злобно. – А вы знаете, что через пару дней провалитесь? Этот Позднышев намерен просмотреть все расчеты. Уж от него-то, будьте уверены, ничего не скроется. Я его слишком хорошо знаю. Ну, Позднышева я возьму на себя… Что еще вы собираетесь делать? Ну, не бойтесь, мы все-таки вас достаточно ценим и так просто не отдадим.
Но Козюкин кончил свой отчет вяло:
– Заодно делаю пару нормальных работ. Кстати, чертежи генераторов для новостроек, посланные в Москву, безупречны.
– Почему? – насторожился Ратенау.
– Это надо понять. В Москве сидят люди не лыком шитые, они увидят, что к чему.
– Вы не выполняете приказ. – Он с особой силой подчеркнул это – «приказ». – Не надо было тогда фокусничать с этими генераторами, надо было начинать сразу с тех.
Козюкин досадливо махнул рукой:
– Что я, сопляк, что ли? Все сделаем после.
Ратенау ответил на это: «Смотрите же», – встал и начал надевать шуршащий макинтош.
– Вы уходите? Куда? – удивился Козюкин. Ратенау не ответил; вопрос был задан напрасно. Козюкин взялся за шляпу и помял поля, опустив глаза.
– Слушайте, а что же с Позднышевым? – не утерпел он.
– Вы… – Ратенау не мог надеть макинтош, рукав где-то запутался, и старик покраснел от усилий. – Вы… задаете… много вопросов. Выходите на улицу и не ждите меня.
Он пошел закрывать за Козюкиным дверь и сказал:
– Вы сегодня были неподражаемы. Почему вы не актер, а? И скажите, вы в самом деле так обозлены на них или тоже играете?
Козюкин вздрогнул. В последних словах ему почудилась откровенная угроза. Он ответил поспешно, пожалуй, даже чересчур уж поспешно, пытаясь скрыть внезапный страх:
– Я очень зол.
Ратенау ушел несколькими минутами позже – сухонький, безобидный на вид старичок в старомодной шляпе и в макинтоше.
Козюкин оказался прав: в пачке было четыреста рублей с небольшим, – сумма не очень-то значительная, особенно если учесть, что она была получена за три недели работы. За генераторы ему еще не заплатили. Он прикинул: в августе можно будет съездить в Сочи, обязательно одному. Нервы начинают сдавать. И все требуют денег. Накануне звонила теща, мать покойной жены. Асенька выросла из своего драпового пальтишки, оно у нее и на рукавах прохудилось. Девочка должна ехать в пионерский лагерь, а белье у нее старенькое, так не могли бы вы… Он ответил, что с деньгами у него сейчас туго, живо перевел разговор на другое и попросил к телефону Асю. Говорил с ней, как со взрослой, чуть покровительственно, справился об успеваемости, а когда кончился разговор, трубку бросил с раздражением. Да, шалят нервы…
Сейчас он вспомнил вопрос, заданный ему Ратенау: «В самом деле вы озлоблены, или это тоже игра», – вспомнил и усмехнулся. Уж кто-кто, а Ратенау мог и не спрашивать его об этом.
…Давно, еще в середине двадцатых годов, Козюкина, в ту пору молодого специалиста, только что кончившего Ленинградский политехнический институт, вызвал к себе в губком один из руководителей оппозиции.
– Мы отправляем вас в Нейск, – услышал Козюкин. – Положение таково, что оппозиция должна затаиться на время. Сигнал будет вам дан.
В Нейске на заводе проходили собрания. Директор завода, бывший рабочий Голованов, огромный, угрюмый, в гимнастерке, подпоясанной ремнем, говорил, поднимая тяжелый кулак:
– Громить их! Всю эту погань, этих господ из вчерашних с партийными билетами. Говорят – авторитеты, личности выдающиеся! А если личность загнивает – вон ее! Правильно я говорю? Партия – вот авторитет…
– Верно!
Козюкин хлопал вместе с другими, а в душе у него все росла и росла злоба к этому могучему человеку, к этим людям в зале, у которых тоже руки были грубыми и сердца непримиримыми к врагам.
Случайно познакомившись с учителем музыки в темных очках, Козюкин почувствовал своего человека и выложил ему все. Учитель кивал, поддакивал, а потом однажды спросил в упор:
– Будете работать со мной? Здесь есть организация… Платим пока немного.
Козюкин согласился. Комната в Ленинграде с окнами на Неву, деньги, обстановка, женщины – все это стало вдруг близким и потому еще более желанным.
Однако человек этот исчез из города через два дня после того как был убит директор завода. Козюкин озлобился еще больше, замкнулся.
Он слышал о провале целых организаций то там, то здесь, и глубже, как можно глубже, залезал в свою скорлупу. Он уже начал бояться того, что в один прекрасный день к нему кто-нибудь придет и скажет: действуйте. Он переменил жилье. Переехал в другой город. Ожидая, пока буря утихнет, подлаживался, приспосабливался – и после чистки рядов партии Козюкин с облегчением понял, что буря прошла мимо. Никто не узнал, что он состоял в оппозиции.
В сорок шестом году, осенью, он шел с работы и заметил человека в плаще и кепке, надвинутой на лоб. Незнакомец явно преследовал Козюкина. Он остановился и стал читать газету. Человек подошел и встал рядом.
– Вы меня не узнаете? – спросил он, не отрываясь от газетных строк. – А я вас сразу узнал. Помните Нейск?
Это был Ратенау.
Сидя в кожаном кресле в своем кабинете, Козюкин вспомнил все это почти с фотографической отчетливостью. Он уже не молод – ему за пятьдесят. У него спокойная жизнь – спокойная квартира, спокойные зеленоватые обои, даже радио нет. У него степень кандидата наук. Дочь, которую он не знает и не любит, как не любил жену – одну из многих женщин, которые у него были и которых он тоже не любил.
Повторилось в памяти и сегодняшнее свидание с Ратенау. Он прав: Позднышев, этот крупнейший советский инженер-энергетик, действительно упорен, может докопаться до корня. Но Ратенау недвусмысленно дал понять, что Позднышева больше опасаться нечего. Почему?
Козюкин завидовал Позднышеву. Порой к этой зависти примешивалось и уважение – особенно после того как он прочел статью о Позднышеве в американском журнале «Электри джорнал». Все, что писалось в Америке о советской науке, было для Козюкина откровением. Достаточно было ему прочесть в американском журнале, что Позднышев «звезда первой величины», чтобы потянуться к этой «звезде». Ведь его похвалили в Америке!
Америка была для Козюкина мечтой. Незадолго до войны он встречался с американскими журналистами. Они восторгались заводом и говорили: да, хозяину такое предприятие принесло бы не один миллион. И Козюкин подумал – вот бы иметь свой завод! Он гнал от себя эту мысль, но она возвращалась. Свой завод! Свои прибыли! Свой пакет акций!
Глава третья
Когда они лежали на пляже, Лавров видел залив, уходящий к сиреневой дымке горизонта, и чуть наклоненный, скользящий по заливу легкий парус.
Катя лежала рядом на песке, локоть к локтю, и ему подчас неловко становилось от этой близости. Он видел, как песчинки прилипали к ее порозовевшей на солнце коже, и чувство, похожее на восторг, охватывало его всякий раз, когда она поворачивала к нему лицо и они встречались глазами. Она вскакивала и бежала в воду, сначала с опаской вступая в белые пенки на отмели, а потом бросаясь вперед, поднимая радужные брызги. Тогда он вставал и шел следом за нею.
На пляже они были вдвоем. Курбатов и его знакомая, Нина Васильевна, оставили их, сказав: «Мы пройдемся по парку», – потом вернулись – и снова ушли. Лавров спросил Катю:
– Они нас оставили нарочно, как вы думаете?
– Я в этом уверена, – улыбнулась Катя. – Не надо было отпускать их, если уж вместе приехали.
Лаврову хотелось сказать: «Все-таки хорошо, что мы одни. Я вас люблю, Катя». Но он смолчал, задумчиво пересыпая с руки на руку песок.
Ему было трудно выговорить эти древние, но вечно новые слова. Если бы он наконец-то решился, он не смог бы ограничиться только ими, только тремя. Он говорил бы о всем, что его волновало, тревожило и мучило…
Вечером они встретились с Курбатовым и его знакомой и пообедали, слушая музыку, лившуюся из парка.
– Просто не верится, что все это было здесь, – сказал Лавров.
– И тем не менее… – Курбатов сидел, сжимая бокал в ладонях. – Я только что был в том подвале.
– Где? – Катя и Лавров взглянули на него с недоумением.
– В том подвале, откуда вы ушли двенадцать лет назад. Мерзкое помещение. Холодно, сырость на стенах. Ничего, конечно, не нашел.
Катя не выдержала:
– Сами привезли нас отдыхать, мы валялись там на песочке, а вы – на другой конец города! И Нину Васильевну с собой потащили. Это… это нечестно.
– Ну, вот уж и нечестно, – рассмеялся Курбатов. – Зато теперь я совершенно точно представил себе, как все это выглядело. Даже нарисовать могу.
Они еще гуляли по парку и вспоминали – аллеи, статуя, грот… Потом прошлись по Солнечным Горкам. Действительно, Горки были солнечные в этот вечерний час: солнце спускалось, и косые его лучи заливали прямые улицы. Катя нашла место, где раньше был ее дом. Теперь там стоял другой, трехэтажный, – санаторий Министерства связи.
На закате они собрались в город. Народу уезжало много, вокруг них пела, смеялась веселая, многоликая толпа.
Но этим не кончился выходной день. С вокзала Лавров и Катя пошли по затихающим улицам и попали на набережную.
Тиха белая ночь. Небо – беззвездно, на нем тают розовые облачка, во всем воздухе разлито удивительное, величавое спокойствие. Все кажется четким, словно нарисованным – и буксиры, причаленные прямо к парапетам, и далекие заводские трубы, черные на заре, так всю ночь не сходящие с неба.
Кончилась ночь, и ничего не было сказано о том, что хотел Лавров произнести, а Катя – услышать. Лавров довел Катю до ее парадной, – путь снова прошел в молчанье. Но он не мог уйти не сказав:
– Ну вот, мы и пришли.
Глаза у Кати блестели, когда она подняла их на Лаврова.
– Катя!
Девушка вздрогнула:
– Что?
Она смотрела на него долгим и, как показалось Лаврову, тревожным взглядом, будто видела его впервые и пыталась понять, что же все-таки происходит…
Через минуту она бегом поднималась по лестнице. Лавров остался у парадной один.
Он вытащил папиросы и стоял, шаря по карманам за спичками, но их не было, – кончились, стало быть. Тут вспыхнул перед ним розоватый огонек и знакомый голос проговорил:
– Пожалуйста, Николай Сергеевич.
Лавров отпрянул. Против него стоял Брянцев, держа зажженную спичку.
– Вы?
– Да. – Брянцев не замечал смущения Лаврова, он был хмур, и под глазами у него лежали глубокие тени. – Майор просил вас немедленно пройти к нему. Вас и Воронову.
С Лаврова словно хмель слетел:
– Что случилось?
– Поднимемся за ней, – вместо ответа предложил Брянцев.
Но Катя уже спускалась, по лестнице дробно стучали ее каблуки.
Когда она побежала наверх, у нее было одно желание: скорее к себе, в комнату, раздеться, юркнуть под одеяло и, накрывшись с головой, подумать о том, что сегодня было. Она не утерпела и выглянула в лестничное окно; Лавров был не один. Второй – она знала его – был помощник Курбатова, значит надо бежать вниз, он там неспроста.
– Что случилось? – крикнула она из дверей.
– Когда Позднышев ушел с работы? – спросил ее Брянцев.
– В пять, нет, в половине шестого. Да, в половине шестого, это я точно помню. Я ушла в восьмом, два часа спустя.
– Куда? Куда он пошел?
– Его вызвал друг. Они собирались где-то встретиться.
– Где?
– Я не знаю. Что же случилось все-таки, скажите ради бога?
Брянцев отвернулся:
– Позднышева пытались убить. Он в больнице.
В субботу, под выходной, Брянцев, уходя с работы, столкнулся у входа с музыкантом Головановым. Брянцев узнал его сразу по фотографиям, которые приходилось видеть на афишах и в журналах. Высокий, худой, чуть сутулый, словно стеснявшийся своего роста, Голованов стоял перед дежурным и говорил, волнуясь:
– Простите, мне надо видеть… срочно видеть кого-нибудь из следователей. По очень важному вопросу. Сегодня, сейчас.
Дежурный взглянул на Брянцева – тот кивнул; тогда дежурный попросил у Голованова документы и выписал пропуск:
– Комната шесть.
Рассказ был не длинен, музыкант очень нервничал и говорил поэтому сбивчиво, однако все, что он говорил, складывалось в стройный рассказ о судьбе человека его, Брянцева, поколения. Но если Брянцев рос, как большинство советских детей, в семье, в школе, в пионерском отряде, – то у Голованова была совсем иная судьба. Брянцев пошел на фронт, Голованова не брали – слаб здоровьем. И если для Голованова война кончилась в тот самый день, когда об этом сообщили по радио, для Брянцева она продолжалась до сих пор.
Слушая Голованова, Брянцев видел не только то, что тот хотел рассказать. Жизнь человека талантливого, сильного в своем таланте, вставала перед Брянцевым.
…Голованов помнит себя лет с пяти, – помнит комнату, единственным своим окном выходившую на двор, со всех сторон стиснутый дровяными сараями. За двором и сараями начиналась пригородная равнина, безлюдная, изрытая окопами и воронками, – там ребятишки подбирали позеленевшие стреляные гильзы, части сломанных винтовок и иногда – латунные пуговицы с тиснеными орлами.
Семья жила в Нейске, небольшом промышленном городке, и занимала комнату бывшей конторы завода. Отец рассказывал, что в этой комнате был кабинет управляющего заводом фирмы «Сименс-Шуккерт», герра Ратенау.
По утрам мальчика будил заводский гудок. Глухой, он то повисал в воздухе, то, словно прижатый ветром к земле, растекался по сторонам, чтобы где-то снова взмыть вверх и оттуда прислушаться к собственному эху.
Он вставал вместе с отцом; мать вставала раньше. Она ходила по комнате и кашляла, запахивая на груди серый штопаный-перештопанный платок. Когда она кашляла, отец тревожно поднимал от тарелки голову, а потом опускал ее еще ниже, чем раньше, словно чего-то стыдясь. Однажды мать уехала в деревню к своей родне; мальчик помнит вокзал, сутолоку, мелькающие тюки и корзины, помнит мать, стоявшую в дверях товарного вагона. Поезд тронулся, она что-то крикнула, запахивая платок привычным движением, – и навсегда ушла из его жизни.
Через год он пошел в школу, и отец, дневавший и ночевавший на заводе, облегченно вздохнул: школа смотрела за мальчиком, кормила его.
Хорошо было после занятий не идти домой, в холодную пустую комнату, а забраться в каморку школьного сторожа Федосеича и читать ему по складам книгу. Старик вертел от удивления бородой, восклицая: «Ах ты, елки-березки!» – а потом засыпал под чтение.
Однажды, забравшись по привычке к сторожу, мальчик увидел, что старик, ворча себе под нос, перебирает связку ключей:
– Рояля ей понадобилась. Достань ей роялю, а если она вовсе даже сломанная?..
Кряхтя, он вышел в коридор; мальчик пошел за ним. Все еще не успокаиваясь: «Рояля ей понадобилась!» – сторож остановился у дверей, которые обычно никогда не бывали открытыми. Замок долго не поддавался. Наконец, ключ в скважине заскрипел, заскрежетал, и на мальчика пахнуло пылью, плесенью и гниющим деревом.
Их тени ходили по голым стенам с ободранными обоями. Масленка светила еле-еле, и приходилось то широко раскрывать глаза, то щуриться, чтобы разглядеть комнату.
– Вот она, – кивнул старик на что-то густо обросшее пылью. Тряпкою он провел по ровной поверхности, и вдруг из-под тряпки вырвалась и заблестела черная полоска.
– Роялью называется. Не знаешь? Играют на ней. Вот, глянь-ко.
Он откинул крышку.
– Ткни пальцем-то. Да не бойся, не кусается. Смотри.
Своими короткими, распухшими от ревматизма, скрюченными пальцами он ударил по клавишам, и пыль на крышке дрогнула от раздавшихся звуков.
– Тут, слышишь, ровно вода звенит, ручеек – жур-жур-жур, а здесь вот солнышко светит, а тут гром. А? чего рот-то раскрыл? Не видал? Хитрая, брат, штука, люди на ней десять лет учатся играть.
Это был первый урок музыки.
«Рояля» понадобилась учительнице: та на уроке сказала ребятам, что у них будет пение. Скоро пришел и учитель – долговязый с рыжими усиками, в дымчатых очках, замотавший шею зеленым шарфом:
– Это – до, это ре, дальше ми, фа, соль… поняли? Начали – до, ре, ми, ми, ми…
Поначалу от этого «ми» все прыснули, но потом привыкли и тянули «ми» уже с удовольствием.
Мальчик как-то подошел к учителю пения и сказал, что ему бы хотелось научиться играть. «Играть? Ты – чей? Головановский? Это что ж – заводского Голованова, да? Ну, тогда можно. Оставайся после уроков».
Потом учитель шипел: «Дурень, тупица, тебе бы только в обоз идти, ассенизаторский». Мальчик плакал, не понимая, почему он тупица, но, раз заболев музыкой, он уже не мог вылечиться.
Что было дальше? Отец пошел на завод и не вернулся, его нашли на дороге мертвым, а неподалеку валялись дымчатые очки. В карман отца была всунута записка: «Красному директору от истинных хозяев завода». А учитель музыки исчез, как сквозь землю провалился, но потом кто-то портил станки, а в мешке муки на общественной кухне нашли однажды толченое стекло…
И вот – детдом. Уже другие преподаватели, люди ласковые и внимательные. Год мальчик прожил там, учась, помимо прочего, играть на скрипке, которую ему подарил завод. И, как знать, может, совсем иначе сложилась бы его судьба, если б не один – смешной теперь, а тогда грустный случай.
Кто-то принес в школу мяч. С гиком и визгом ребята гоняли его на перемене по коридору, и, забыв обо всем на свете, Сережа Голованов бросился в эту азартную игру, пиная мяч ногами, кричал и пел, как вдруг наткнулся на фарфоровую вазу, стоявшую на тумбочке возле окна, и прежде чем он успел вытянуть руки, ваза упала и разбилась вдребезги.
В коридоре сразу же стало тихо, только мяч шуршал, откатываясь в угол. Мальчик еще не понимал, что случилось, и недоуменно смотрел на осколок, с которого маслянистыми глазами улыбалась розовая рожица амура. Он уже не помнит, кто из ребят подошел к нему и сказал, тоже глядя на осколки:
– Дорогая штука. Попух ты, Серега.
Один из закадычных дружков по школе дернул его сзади за куртку:
– Хочешь, я скажу, что я это разбил, а? Мой батька заплатит.
– Не надо. Я сейчас домой пойду.
И, схватив в классе свой ранец и шапку, он выскочил на улицу, трясясь от страха.
Тихо и протяжно, словно котенок, пропищала дверь в комнату. Там никого не было. Скрипка лежала на табуретке возле кровати; когда он откинул тряпку, закрывавшую ее, и тронул струну, одинокий звук долго ныл в воздухе, будто жалуясь на боль и не находя себе выхода. Не все ли было равно, куда идти. Он взял скрипку и осторожно, стараясь не шуметь, вышел, осторожно закрыв за собой дверь, и осторожно спустился по лестнице.
…На одной из станций, названия которой он уже не помнит, где-то между Москвой и Ленинградом, он решил сыграть в зале ожиданий, благо не было видно милиционера, а народ собрался подходящий, большей частью женщины, – эти всегда что-нибудь дадут.
Он сыграл «польку», потом «жалостливую» песню и увидел, что кто-то краешком платка уже вытирает глаза и лезет в корзину. Он начал еще одну «жалостливую», но, сразу заслонив свет в окнах и мельтеша, подошел поезд, и, кое-как собрав куски пирогов и яйца, он выскочил на платформу: поезд был попутный, на Ленинград. По перрону прогуливались двое бойцов железнодорожной охраны. Он шмыгнул вдоль стены, дошел до угла и спрятался за ним, надеясь пойти в обратную сторону, когда эти двое пройдут мимо. Все было бы хорошо, если б один из них случайно не обернулся. Бежать было бессмысленно; боец схватил мальчика за плечо, и тот вскрикнул.
– Чего орешь?
– Отпустите! – вдруг услышал он. – Слышите, товарищ боец!
Из окна вагона, стоявшего как раз перед ними, высовывался широкоплечий человек в военной гимнастерке. Голос у него был властный, и боец нехотя убрал руку. Человек в гимнастерке увидел у мальчика скрипку и сказал:
– А ну-ка подойди сюда, скрипач!
Из-за его спины показалось другое лицо, узкое, с большими черными глазами.
– Ты чего здесь делаешь?
– Я… я здесь играл.
– Что играл?
Мальчик ответил, и широкоплечий улыбнулся.
– Небось сбежал из дома? Только правду говори – сбежал?
К чему было врать этому человеку? Ну, сбежал, только не из дома.
Широкоплечий вдруг задумался:
– Знаешь что, лезь-ка ты сюда. Вон в те двери. – И крикнул какому-то военному, стоявшему у подножек вагона: – Товарищ Быстров, пропустите мальчика.
Прошел час, прежде чем Сергей рассказал им о себе, а человек в гимнастерке все расспрашивал его и наконец попросил что-нибудь сыграть. Сергей развернул свою скрипку.
– Чайковского можешь?
– Могу.
Широко расставив ноги, стал посредине купе и сыграл «Тройку». Они – черноглазый и другой, в гимнастерке, – переглянулись:
– Еще что-нибудь…
Стараясь не сбиться, он начал играть песенку, дней пять назад услышанную в зале ожиданий от крестьянина, но песня была короткой, а ему не хотелось кончать, и он продолжал ее, чуть прикрыв глаза, и, собрав в себе все силы, играл дальше, придумывая на ходу.
– Я не знаю этого, – сказал человек в гимнастерке. – Что ты играл?
– Не знаю, – ответил он.
– Как так – не знаю?
– Начало не мое, а середина и конец – мои.
Они снова переглянулись. И вдруг человек в гимнастерке звонко рассмеялся:
– А помните наш спор, Валериан Павлович? Вы говорили, что десятилетия пройдут, прежде чем из нашего народа выйдут в мир таланты. А вот прошло пятнадцать лет – и пожалуйте. Нет, Валериан Павлович, в нашем народе таланты растут, как грибы в дождик, надо их только собирать умело. – Все еще смеясь, он потрепал мальчика по голове. – А покормить-то тебя я забыл. Нечего сказать, гостеприимный хозяин. Садись и ешь. Вот тебе бутерброды.
Ради приличия он отнекивался, а потом решил, что стесняться нечего, и поел с удовольствием. Еда клонила ко сну, и он задремал, свернувшись на диване, сквозь полусон слушая речи двух пассажиров.
– Вот вам совершенно новый человек, – говорил черноглазому главный, как он определил его. – Он городового в глаза не видел и не увидит. Пареньку, конечно, не сладко жилось, так ведь мы только в начале пути. Сын токаря, красного директора. Я верю в него, ей-ей верю… Вы говорите – наследственность, культура в крови, а мы сами вложим ему в кровь нашу культуру…
Больше мальчик ничего не слышал. Когда его разбудили, в купе уже было темно и черноглазого не было. Тот, который взял мальчика в поезд, стоял одетый, в кожаном пальто и фуражке:
– Вставай, тезка, приехали.
Они вышли на перрон. Там стояло несколько военных, они козырнули и вытянулись, увидев их. На привокзальной площади стояли две машины, в одну из них они влезли, «главный» поздоровался за руку с шофером и сказал:
– А ну, Вася, в первый детдом, и домой.
– И всегда вы каких-то мальчишек да девчонок возите, Сергей Миронович, – заворчал шофер. – Небось, как резину менять – доставай, брат, как знаешь…
Тот захохотал:
– Чего ты ругаешься! Погоди, эти мальчишки да девчонки еще нас возить будут. Вот увидишь: состаримся, и будут нас возить.
Впервые в жизни мальчик ехал на автомобиле. За стеклом мелькали витрины, люди – он ничего не мог разобрать толком. Наконец, они приехали, и шофер помог открыть дверцу.
– Вылезай, будущий шофер.
– Будущий музыкант, – поправил его новый дорожный знакомый. – Погоди, погоди, еще хвастать будешь, что возил его. Пошли, музыкант, в детдом, только условимся: не убегать.
Внизу их встретила пожилая красивая женщина; Сергей Миронович поздоровался с ней и назвал по имени-отчеству. Разговаривали они тихо, отойдя в сторону; единственное, что донеслось до мальчика: «определить его в школу художественного воспитания»; потом Сергей Миронович подошел к Сергею и протянул руку:
– До свиданья, герой. Скучно будет – звони по телефону. Эх ты, Паганини…
А через полтора года этого невысокого, с ясной улыбкой человека не стало. Была площадь, и толпа, и в морозном декабрьском воздухе сухо звучали трубы. Толпа захлестнула мальчика и понесла к широким ступенькам вокзала. Мальчик плакал. И то ли слезы помешали ему разглядеть подробнее, то ли сгустившаяся темнота – но показалось ему, что мелькнуло где-то рядом знакомое лицо учителя пения, уже без дымчатых очков, но с тем же зеленым шарфом. Они встретились взглядами. С этим человеком в сознании Сергея была связана и смерть отца, и все плохое, страшное. Почему он оказался здесь? Изо всех сил мальчик начал протискиваться к нему – какое-то огромное, сильное в ненависти чувство вело его тогда, желание схватить за руку, крикнуть что-нибудь обидное, – но нет, того уже не было, исчез, словно растворился в толпе.
Что было потом? Комсомол, школа, консерватория. Ему было двадцать лет, когда началась война. Голованов рассказал и о той ночи, когда он перешел фронт у Солнечных Горок. Кто с ним шел? Он не помнит. Лида? Нет, лиц он не видел тогда, – он еле шагал, у него мутилось в глазах. Глаза у него плохие – он начал терять зрение еще в детстве – от коптилок и недоедания.
Брянцев, наконец, записал последние слова показаний Голованова: «Я, Сергей Гаврилович Голованов, работник Филармонии, живу в настоящее время на даче в Замошье». Дальше Голованов говорил, что вечером, в пятницу, он ловил на речке рыбу, в месте, скрытом кустами, но ловил не удочкой, а на донку, так что удилище не высовывалось из-за кустов.
Часов в девять мимо кустов медленно прошли двое: их не было видно, Голованов слышал только их голоса. По-видимому, они продолжали начатую беседу:
– … но я же вам говорю, он может докопаться до причин аварии, и тогда все эти годы – кошке под хвост. Нет, нет, пусть четвертый его уберет.
– Если вы уберете Позднышева, я не уверен, что это… понравится. В конце концов, следы…
– Подите вы к черту с вашей трусостью, а я не желаю класть свою голову, – взвизгнул один из них, и Голованов вздрогнул: в интонации ему послышалось что-то очень знакомое. Те двое, все еще споря, прошли; Голованов осторожно раздвинул кусты и выглянул.
Пожилой человек, отчаянно жестикулируя, продолжал доказывать своему собеседнику, что он не намерен рисковать своей головой, а тот, военный, по-видимому офицер, долговязый, с тонкой как у осы талией, шел молча, прутиком сбивая разросшуюся вдоль тропинки пышную поросль. Как только они скрылись, Голованов, забыв про снасть, бросился в поселок, переоделся и минут за двадцать до прибытия поезда, шедшего в город, был уже на станции.
Пожилой пришел один. Мелко семеня, он пробежал по перрону, выпил газированной воды, купил газету. Он никого не замечал, сел на скамейку и успел просмотреть всю газету – от передовой до объявлений на четвертой странице. Наконец, поезд подошел, и Голованов оказался рядом с этим пожилым; в отделении вагона было пусто.
Коротки дорожные встречи! А когда поезд идет, мерно постукивая на рельсах, и делать ровным счетом нечего, люди становятся словоохотливыми.
Самое любопытное, что разговор начал не Голованов, а тот, пожилой:
– Вы не знаете, когда мы будем в городе?
– В первом часу. А вы разве не из Замошья, не с дачи?
– Нет, ездил к знакомым. Ужасно неудобное расписание для дачных мужей и… работающих гостей.
Он сам засмеялся своей шутке, и Голованов поддержал этот смех. Дальше разговор пошел как по маслу, и, подъезжая к городу, Голованов уже знал, что этот пожилой – бухгалтер с «Электрика», и что завтра ему на работу, и что он не успеет выспаться – к старости началась бессонница, – знаете, очень мучительная штука…
В конце головановских показаний было написано:
«Этого человека я знал много лет назад. В моей памяти он связан с убийством моего отца, директора завода в Нейске. Он исчез из Нейска после убийства. Последний раз я видел его в Ленинграде на похоронах С.М. Кирова, но задержать его тогда мне не удалось…»
– Ну что? – спросил Бондаренко, присутствовавший при беседе, когда Голованов ушел. – Что ты думаешь?
– Надо ехать на завод, Павел.
– Предупредить Позднышева? Я узнавал, такой там работает.
– Взять бухгалтера. Он может наделать дел, если его не изолировать сейчас.
Но они опоздали. В коридоре заводоуправления, несмотря на поздний час, было людно, но тихо, все говорили шепотом, оборачиваясь к двери директорского кабинета. Санитары и врач поднимались по лестнице вместе с Брянцевым и Бондаренко, и поэтому неловко было входить в кабинет вместе с ними; офицеры остались в коридоре, и Брянцев шепотом спросил одного из рабочих, что случилось.
– Позднышев…
– Да что вы? – Брянцев сделал вид, что Позднышева он, разумеется, знает. – Что такое?
– Не знаю. Пришел часов в семь в цех, ходил грустный, пил воду, а потом – упал, судороги…
Санитары вынесли Позднышева на носилках. Он был без сознания. Брянцев на секунду увидел высокий лоб неестественной, мраморной белизны и губы, искривленные от боли. Потом он взглянул на Бондаренко. Тот указал ему глазами на дверь директорского кабинета, и они вошли, не постучавшись.
Директор не обернулся. Он стоял возле врача, складывавшего в чемоданчик шприцы и коробки с ампулами.
– Вы уверены в этом?
– Да, симптомы совершенно точные.
– Это смертельно, доктор?
– В зависимости от дозы, общего состояния организма… Да мало ли еще от каких причин.
Теперь уже Бондаренко подошел к врачу:
– Что вы установили?
Врач поднял глаза и, увидев офицера, ответил так же лаконично и, как показалось, устало:
– Отравление птомаином… рыбным ядом. Я… нужен вам еще?
– Нет, нет, спасибо.
Врач ушел. Директор, Бондаренко и Брянцев остались одни.
Брянцев молчал, вопросы задавал Бондаренко. Бухгалтера, конечно, уже нет на заводе? Где был Позднышев сегодня? Кто это может сказать? Да, позовите, пожалуйста, его помощников.
Бондаренко выяснил, что Позднышеву позвонил друг, они договорились встретиться в шесть. Звонок был в пятом часу, до этого Позднышев выходил из цеха один. Кто этот друг? Уралец, электрик, Василий. Все. Больше ничего узнать не удалось. Бондаренко шепнул Брянцеву: «Узнай адрес бухгалтера», – и тот тихо вышел из кабинета.
В отделе кадров народ еще был, и Брянцеву быстро дали адрес Войшвилова. Когда Брянцев снова подошел к директорскому кабинету, Бондаренко уже выходил оттуда.
…Перед Брянцевым лежали материалы обыска, произведенного в квартире Войшвилова. Самого его дома не оказалось.
Под железным листом возле плиты на кухне был обнаружен коленкоровый сверток. Там были аккуратно сложены паспорта – пять штук! Брянцев листал их. Со всех пяти фотографий глядело одно и то же лицо: фамилии, даты и места рождения, словом, все остальное – было разным.
В один из паспортов, выданный Солнечногорским отделением милиции гражданину Дьякову Аполлону Марковичу, была вложена справка о том, что гр. Дьяков А.М. 27 октября 1941 года действительно был направлен в эвакогоспиталь, как пострадавший при переходе через линию фронта.
Судя по всему, незадолго до обыска в квартире было двое: в пепельнице лежали окурки «Казбека» и «Беломора» – ясно, что их курили разные люди. Сидели недолго, от силы час, выкурили три папиросы. Тот, что курил «Казбек», нервничал и выкурил две штуки.
Но основной находкой были все-таки бумажки, которые теперь Брянцев брал в руки особенно осторожно. Там была таблица с боевыми данными новой скорострельной пушки, крохотный чертеж, при первом взгляде на который не трудно было отгадать замок этой же самой пушки, и отпечатанные на машинке сведения о количестве электрооборудования, изготовленного на заводах министерства за год для армии. «Ну, ладно, – подумал Брянцев, – я еще могу допустить, что скромный бухгалтер в конце концов мог как-то узнать об электрооборудовании. Но откуда у него эти сведения о пушке?»
Впрочем, сопоставляя рассказ Голованова и результаты обыска, Брянцев понимал, что «скромный бухгалтер» – вовсе не Войшвилов, Дьяков или кто-либо еще, а матерый разведчик, пойманный на месте преступления.
Курбатов все еще не возвращался, и Брянцев был даже рад этому. Он работал с лихорадочной поспешностью, закуривал папиросу и бросал ее, потом вытаскивал из пачки и закуривал новую. Уже было воскресенье, но Брянцев не знал, что Курбатов договорился с Лавровым и Катей ехать в Солнечные Горки, и потому спешил сделать как можно больше до его приезда, чтобы Курбатов мог сразу же начать расследование.
Прежде всего Брянцев позвонил в управление милиции. Не подавали ли за последние шесть-семь лет заявления о пропаже паспортов – номера такие-то, фамилии такие-то, в том числе и на фамилию Войшвилова в раймилицию Солнечных Горок он звонить не стал: паспорт может быть фальшивым – это во-первых, архивы же, надо думать, были давным-давно уничтожены. Он позвонил в Москву, в центральное бюро справок: «Мне нужен домашний телефон Позднышева Никиты Кузьмича. Да, я подожду. Какой номер? Спасибо».
Через десять минут он говорил с женой Позднышева, она уже знала все и утром собиралась вылететь.
– Простите, один вопрос. У вашего мужа есть друг на Урале, Василий?
– Да, Василий Павлович Коростылев. Они вместе учились, вместе работали. Были вместе в Германии.
– Его телефон и адрес вы знаете?
– Телефона у него нет. – И она продиктовала Брянцеву адрес.
Через несколько минут в Свердловск уже шла телеграмма Коростылеву и фотография Дьякова-Войшвилова по фототелеграфу.
Лихорадочность внезапно сменилась усталостью. Когда Брянцев сел и начал писать доклад, у него задрожали пальцы. Он стиснул ручку и заставил себя писать; строчки, однако, получались корявыми, буквы так и прыгали у него в глазах.
Доклад Курбатову был окончен.
В воскресенье вечером приехал сам Курбатов.
– Ну как дела? – пожал он руку Брянцева и продолжал сам, не дожидаясь ответа: – Кое-что мне удалось установить.
Водокачка была взорвана двадцать девятого октября, иными словами, через два дня после того как группа перешла фронт. Стало быть, железнодорожник-подрывник был липовый. Что с вами, Брянцев?
Прочтя доклад, Курбатов откинулся в кресле.
– Это – удача, лейтенант. Но как Позднышев?
Брянцев вспыхнул. Он попросту забыл позвонить в больницу и сейчас, рдея как маков цвет, слушал, что говорит в трубку Курбатов.
– Состояние тяжелое?.. Температура?.. Благодарю вас.
Курбатов расстегнул верхнюю пуговку рубашки и ослабил галстук:
– Да, жаль старика. Однако будем работать. Поезжайте за Лавровым и Вороновой.
Он остался один. Перед ним лежали паспорта, и он вглядывался в лицо человека на фотографиях. Вот он какой, первый! Военные сведения, без сомнения, получены им со стороны, возможно, от того офицера, которого видел Голованов. Что ж, пока не найден Войшвилов, искать этого офицера рано.
Другая бумажка – сведения экономического характера; ее принес другой человек. Бухгалтеру, пожалуй, не под силу собрать так много и с таким знанием дела, хотя нет правил без исключения. Сообщение напечатано на машинке, шрифт мелкий, значит, портативка, буква «о» сбилась. Ничего удивительного: это наиболее часто употребляемая в русском языке буква. А вот «ч» поднимается над строкой, Это важнее – это уже «почерк» машинки, потому что во всем мире нет такой другой машинки, у которой бы рисунок шрифта, потертость, еле различимые простым глазом особенности совпадали бы так с этой.
Потом Курбатов задумчиво снял трубку и позвонил; ему не ответили. Тогда – очевидно, найдя какое-то единственное решение, – он встал, вызвал машину, спустился вниз и, сев рядом с шофером, приказал:
– В Сеченовскую больницу.
Его сразу окружила больничная тишина, запахи лекарств, ослепительная белизна стен и та тревога, которая всегда овладевает здоровыми людьми в таком месте от сознания того, что где-то рядом находятся страдающие люди. В маленьком окошечке отдела справок пожилая женщина ответила уклончиво: сведений о состоянии здоровья Позднышева вторично не поступало. Врач Макарьева? Да, она здесь, ее срочно вызвали из дому. («С корабля на бал, – грустно подумал Курбатов. – Вот почему она не подошла, когда я ей звонил».) И он попросил вызвать ее сюда, в вестибюль.
Ждать пришлось долго, минут сорок. Наконец, Нина Васильевна показалась наверху широкой мраморной лестницы – одинокая женская фигурка в белоснежном халате и шапочке; такой ее Курбатов видел впервые. Он пошел к ней навстречу и на середине лестницы остановился; впрочем, Нина Васильевна тоже видела Курбатова таким впервые, – никогда прежде она не замечала на этом дорогом для нее лице жестких складок в углах рта и холодного выражения обычно веселых глаз.
– Вас вызвали к Позднышеву? – спросил он.
– Да.
– Как его состояние?
– Плохо, – тихо сказала Нина Васильевна. Она усталым движением провела по глазам, словно снимая невидимую паутину. – Очень плохо, я буду здесь всю ночь. У него началась интоксикация мозга. Его нельзя оставить ни на секунду.
– Мне нужно поговорить с ним, Нина.
– Это невозможно. – Она близко придвинулась к нему, снизу вверх заглядывая в глаза, и по той тоске, которую Курбатов уловил в самой глубине зрачков, он понял, что это действительно невозможно.
– Тебе сейчас… трудно? – шепотом спросила она, за все время в первый раз называя его так – на «ты». Он даже не заметил этого и кивнул:
– Да, трудно.
– Мне тоже очень трудно, – Нина Васильевна осторожно взяла его под руку. – Он очень плох сейчас, сознание так и не возвращается…
Курбатов думал, опустив глаза. Нина Васильевна была права: действительно, ей сейчас еще труднее. Он поглядел на нее и медленно сказал:
– Иди… Идите к нему.
Женщина приподнялась на ступеньку выше, теперь они стояли вровень. Плавным, мягким движением руки она провела по плечу Курбатова, тонкие пальцы на секунду дотронулись до его щеки, будто невзначай. Все было в этом жесте: и тревога, и любовь, и беспокойство за него – все, что словами подчас трудно, а то и невозможно выразить, вылилось в этот короткий порыв. Курбатов еще постоял немного, прислушиваясь, как по кафелю постукивают ее удаляющиеся шаги, а потом, поправив надоедливо сползавшую на лицо прядь, начал спускаться вниз, к выходу.
Дальше он начал рассуждать. Позднышев ничем не мог помочь ему, а так надо было представить себе целиком все то, что произошло и, главное, как это должно было происходить, – пусть без подробностей, без мелочей, но хотя бы приблизительно верно.
…Значит, действительно, на заводе был один из пятерых. Значит, действительно, авария была не случайной, – это диверсия. Бухгалтер испугался, что Позднышев догадается об истинных причинах аварии. Но почему – бухгалтер? Что он мог сделать с генератором? Ведь он никакого отношения к монтажу не имел. Значит, дело не в монтаже, тем более что Позднышев тоже монтажом не интересовался.
О чем же знает или может знать Позднышев? И сейчас не спросишь у него об этом…
Вот еще одно: если бухгалтер испугался разоблачения, почему он тогда попросту не удрал, не скрылся? Может быть, вот сейчас он и скрылся? Вряд ли. Он тогда бы взял все свои бумаги…
Да, многое еще совершенно неясно. Можно только предполагать. Например, бухгалтер не бросился бежать с завода потому, что его там что-то держало. Что? Предположим, новые диверсии… или люди. Люди? Неужели все-таки Воронова?
Но бухгалтера тем не менее нет. Может, он и удрал, не взяв документы и сведения. Документов у него может быть много, а сведения давно переданы – это копии. А покушение на Позднышева? Что это – месть? Необдуманный шаг?
Поехать на «Электрик»? Но с какого конца там начинать, Курбатов еще не знал. Нет, там пока делать нечего, в электротехнике он не силен.
Сейчас Курбатов ощущал какую-то боль оттого, что, казалось ему, было сделано не все и, главное, не предупреждено покушение на Позднышева. Генерал, конечно, заметит это ему. Но промах ли это? Враг опасен, его засылают сюда гадить, и ему подчас удается это сделать прежде чем его обезвредишь. Такова логика борьбы…
Позднышев появился на заводе, и бухгалтер испугался, что тот узнает правду об аварии, – думалось Курбатову. Войшвилов встретился с одним из своих, он доказывал, что Позднышева надо убрать, иначе все погибнет. Наконец, бухгалтер или кто-нибудь другой – возможно, из тех пяти, – звонит Позднышеву и, прикрывая трубку (Позднышев ругался: «Что это у тебя телефон позапрошлого века!»), выдает себя за Василия. Бухгалтер, без сомнения, знал и Коростылева.
Войшвилов договорился с Позднышевым о встрече. Где? К Позднышеву пустят разве только через неделю, он ничего не может рассказать сейчас… Там, где свидание было назначено, Позднышев что-то съел: ему дали яд. «По-моему, пока в рассуждениях все верно… Где это могло быть? Ну, предположим, ты, майор Курбатов, приезжаешь в город, где живет твой друг, – где ты назначишь ему свидание? В номере гостиницы, или придешь домой к другу, или – в ресторане: посидеть, быть может – выпить и за стопкой вспомнить старину. Да, ресторан – это скорее всего. В ресторане может быть свой человек. Бухгалтер звонит ему. Позднышев приходит в ресторан, садится, ждет, а Василия все нет и нет, тогда он вспоминает, что голоден, и заказывает что-нибудь. Остальное ясно…»
Ясно было одно: эту рабочую гипотезу, это предположение надо было проверять завтра же, с утра.
Брянцев назвал Войшвилова убийцей интуитивно, руководствуясь первым, наиболее сильным впечатлением. Курбатов внутренне целиком соглашался с ним. Но как бы там ни было, требовалась проверка. Было ли отравление Позднышева преднамеренным? Сразу ответить на это нельзя. Птомаин, рыбный яд, – бытовой яд, он может содержаться в недоброкачественных продуктах, даже в сыре. Как правило, – в недоброкачественной рыбе высших сортов. И отравление энергетика могло быть случайным.
Курбатов позвонил в ближайшие от «Электрика» больницы и поликлиники. Не поступало ли к вам больных с признаками отравления рыбным ядом? Не поступало? Хорошо. Спасибо. Курбатов решил позвонить во все больницы города: ведь человек мог уехать хоть на окраину, а потом почувствовать себя плохо.
Но отовсюду ответ был один: нет, не поступали. Разговоры по телефону заняли много времени, и когда майор зачеркнул последний пятизначный номер, выписанный на листке, он вздохнул с облегчением. Значит, действительно, – это покушение. Блюда в ресторанах порционные, и недоброкачественная рыба, если такая существовала, попала бы не одному посетителю.
Теперь оставалось проверить причастность Войшвилова к покушению. Это сделать удалось легко. Подошедший к телефону служащий сказал, что Войшвилов ушел с завода перед самым возвращением Позднышева. Выходит, Войшвилов не был в ресторане? Но… значит, здесь замешан третий… И, значит, поиски офицера, – того, которого с Войшвиловым видел Голованов и который, надо думать, передал Войшвилову секретные сведения о новом вооружении, – поиски эти откладываются еще дальше. Найти третьего, затем – Войшвилова и затем – офицера, одного за другим, так, пожалуй, верней.
Это предположение о существовании третьего обрадовало Курбатова. Обрадовало потому, что таким образом нашелся еще один след, след третьего, о котором тоже пока не было ничего известно, но, из сопоставления фактов, его жизненность стала для Курбатова несомненной.
Почему и куда исчез Войшвилов? Неужели его кто-нибудь предупредил, что он узнан Головановым? Нет, этого нельзя предположить. На этот вопрос пока не ответить.
Надо искать третьего. Как бы там ни было, этот неожиданно появившийся третий имел уже какой-то заметный след. Конечно, третий, может быть, и не переходил тогда фронт, но ясно, что он отравил Позднышева по чьему-то приказу, скорее всего по приказу Войшвилова. А раз так, то именно третий приведет к бухгалтеру-оборотню, который скрывается сейчас неизвестно где.
Прежде чем начинать поиски третьего, Курбатов попытался представить себе этого человека. Кто он? Кем служит? Каким образом ему удалось подсыпать яд? Пожалуй, третий – официант. Почему? Да потому, что если он за стойкой, посетитель к нему не подойдет. Кроме того, там продается только вино и прочее. На кухне работать третий тоже не может! Что ж, выходит – все ясно. Третий – официант. Возвращаясь с кухни, где-нибудь в коридоре он положил яд в тарелку Позднышева. Это, без сомнения, верное предположение.
Теперь… в каком ресторане произошла встреча?
Вблизи завода несколько ресторанов – «Приморский», «Северный», «Радуга»… Какой из них? Курбатов достал план города. Вот завод… Позднышев отсутствовал в тот день примерно полтора часа. Где он успел побывать за это время? В ресторане энергетик сидел, возможно, тридцать – сорок минут. А не мало ли? Что если, не застав друга, он решил его подождать: может, опаздывает? Нет, и Позднышев и уралец, наверное, ценят время. Ведь они недаром работники точных наук. Это писатель или художник мог опоздать, а инженеры всю жизнь связаны с минутами и секундами. Так что Позднышеву опоздание даже на тридцать минут показалось достаточным для того, чтобы решить: друг не придет, ждать нечего.
Ну что ж, тридцать так тридцать. Остается час на дорогу, туда и – обратно; полчаса в один конец. Позднышев договорился о встрече через час… Ушел через полчаса… «Значит, я рассчитал правильно. Позднышев, видимо, этот ресторан знал. Может, и не знал. А как было бы все просто, будь Позднышев в сознании, найди он силы для того, чтобы рассказать все».
Брянцев тем временем ждал на улице Лаврова и Катю. Когда они все трое вошли к Курбатову, тот поднялся навстречу и показал фотографию:
– Не узнаете?
Катя долго всматривалась в лицо Ратенау, потом кивнула:
– Да, знаю, это наш бухгалтер, Войшвилов.
Фотографию взял Лавров. Он поднес ее к свету, взглянул мельком и положил на стол:
– Нет, я ничего не могу сказать.
Курбатов сгреб все бумаги в стол и достал чистый лист:
– Давайте опять займемся нелюбимым делом, Екатерина Павловна, – воспоминаниями. Я попрошу вас вспомнить, о чем говорил по телефону Позднышев, в котором часу это было, когда он ушел?
На столе Курбатова продолжительно зазвонил телефон.
Вызывал Свердловск. В трубке послышался далекий, приглушенный расстоянием голос Коростылева:
– Вы хорошо слышите меня? Вы прислали мне фотографию… Я знаю этого человека… Да, я узнал. В тридцать шестом году он служил у фирмы Сименс-Шуккерт, когда мы с Позднышевым были в Германии. Его фамилия Ратенау.
Вешая трубку, Курбатов сказал:
– Конечно, Коростылев никуда из Свердловска и не думал выезжать. Позднышеву звонил кто-то другой… Войшвилов или… или еще кто-нибудь, третий.
Утром Курбатов докладывал о результатах следствия генералу. При этом присутствовал полковник Ярош и еще несколько сотрудников: в «сложных», как говорил генерал, случаях он приглашал в свой кабинет опытных чекистов и после доклада они обменивались мнениями. В ходе обсуждения возникал ряд мыслей, деталей, ранее не замеченных, следователю указывались другие, быть может более удачные и короткие пути к обнаружению врага. Творчество – это было как раз тем словом, которое генерал так любил и без которого не мыслил другого слова – коллектив.
Так и теперь, окончив рассказ о сделанном и о том, что он собирался делать, Курбатов сел и взял блокнот, оглядывая собравшихся: кто начнет первым? Но сначала полковник Ярош задал ему несколько вопросов, потом сам припомнил подробности покушения на Позднышева и только после этого посоветовал:
– Надо попытаться найти официанта. В ваших рассуждениях пока все верно, однако я более чем уверен, что официанта в ресторане не окажется.
– Это верно, – подтвердил генерал. – Но если он удрал, то приметы, мелочи… Учитывайте также, что имя он носил, разумеется, не свое. Как ваше мнение, товарищи?
Один из следователей поинтересовался, видел ли Курбатов ту женщину, о которой говорила Воронова, – Кислякову, жительницу Солнечных Горок.
– Нет, – ответил Курбатов. – Она пока еще не проверена. Я наводил, правда, справки.
– И что же?
– Женщина живет бездумно, легко, с мужем разошлась…
Генерал прошелся по кабинету.
– Бездумно, вы говорите?.. Вот таких бездумных и надо проверить в первую очередь. – Он повернулся, и Курбатов увидел его раздосадованное лицо. – Есть, есть такие! Что ж, думают они, войны нет, в мире тишь-гладь – божья благодать, в газетах читают, что идет в театрах и кино. Они да «пей-гуляй, один раз живем» становятся опорой для врага.
Ярош кивнул. Курбатов знал: он только недавно окончил одно дело о таком любителе «легкой» жизни, ставшем агентом иностранной разведки.
– Так что учтите замечание, товарищ майор: проверить Кислякову. Пошлите к ней Брянцева. Кстати, ваше о нем мнение?
– Работник способный, только горяч. Готов все на свете делать сам.
– Охлаждайте, – сказал генерал; глаза у него потеплели, он улыбнулся доброй улыбкой. – Как я вас охлаждал в свое время и как меня – железный Феликс. Ну, кончим на этом, товарищи? Я думаю, все ясно? А вы останьтесь, товарищ майор.
И когда все, попрощавшись, вышли, генерал еще раз повторил Курбатову все предположения о дальнейших путях розыска… Нет, эго был не только совет старшего начальника; это был приказ.
Глава четвертая
Козюкин ходил по заводу в новом костюме, жал руки и, скромно склонив голову, выслушивал поздравления.
Проект генераторов для новостроек закончен. В отделе лежат свернутые рулонами десятки чертежей, схем, машинистки спешно перепечатывают документацию и сопроводительное письмо в главк, конструкторы долгими часами изучают проект и готовятся обсуждать его на техническом совете. Директор дал жесткие сроки: техсовет должен быть проведен через день. Козюкин воспротивился: «Зачем так скоро, время есть, проект кончили за две недели до срока. Дайте людям ознакомиться подробней». – «Нет, нет, как можно скорее. Я понимаю, вы хотите лавры и барабанный бой, – смеялся директор. – Будет тебе белка, будет и свисток».
Обсуждение проекта превратилось в сплошной триумф для Козюкина. Оппоненты подготовились серьезно и все-таки не могли высказать ни одного критического замечания, если не считать придирки одного чересчур привередливого конструктора. Козюкин сидел, низко нагнув голову, и рисовал в своем блокноте что-то замысловатое; он слышал одни похвалы и чувствовал, как в висках мерными толчками пульсирует кровь: «Вот – оно, вот – оно, вот – оно»…
Так бы и кончился этот техсовет – не техсовет, а чествование юбиляра, если б не заключительное слово главного инженера завода. Он, видно было по всему, волновался, – работал он здесь недавно, но знал, что Козюкина ценят, что это действительно человек опытный и знающий.
– Ну что ж, – сказал главный инженер. – Успех заслуженный, творческая удача.
– Еще бы, – поддакнули ему с места.
– Но это удача не одного товарища Козюкина, а большого, сильного коллектива, удача не изобретателя-одиночки – таких у нас нет и быть не может, – а результат направленного усилия многих людей, среди которых, конечно, занимает свое место и труд товарища Козюкина. Об этом мы сегодня забыли.
Козюкин поднял голову: он слушал, будто недоумевая, а потом, широко разводя руки, захлопал, улыбаясь, и главный инженер, словно ободренный этим, продолжал говорить уже свободней и куда более веско, чем говорили до него. Под конец он заметил, что не все в проекте так совершенно и законченно.
Теперь все смотрели на Козюкина; он понял, что от него ждут, и попросил слова.
– Главный инженер прав, – улыбался он. – Нет предела развитию науки, и то, что сделал я… – он запнулся и быстро поправился: —…со своими друзьями, то, что мы сделали, это еще не совершенство, но это то, что от нас требовалось. Мы учтем замечания, высказанные здесь, и пока проект в данном варианте рассматривается в Москве, поищем, подумаем…
На этом техсовет и кончился.
Катя вышла в коридор с двумя инженерами из группы Позднышева. Сзади раздавался бархатный баритон Козюкина:
– Да, дичайшая история. Я был у него в больнице, не пускают, состояние тяжелое. Вот, воистину, не знаешь, где упадешь, подстелил бы… Кто же теперь будет вместо него?
Катя поняла, что речь идет о Позднышеве.
– Дичь, дичь какая-то. Меня прямо обухом по голове. Как это все получилось, вы не знаете?..
Козюкин вышел из заводских ворот один и пошел к автобусной остановке. Потом он обернулся. Многоэтажные корпуса уходили один за другим, окна были освещены – или это пылал в них закат? Он долго смотрел на окна, на антенны телевизоров на крышах, на деревья, высаженные вдоль ограды, на людей, одиночками или парами выходящих из ворот.
«Это будет мое».
И оглянулся. Ему показалось, что он сказал это вслух, задумавшись. Нет, он был один. Только какой-то мальчуган, проходя мимо, взглянув на него, увидел в глазах высокого человека столько неприкрытой ярости, что не выдержал и поглядел на него второй раз.
Что же стало известно, что прояснилось к концу первой недели, с тех пор как начались поиски пятерых, и о чем Курбатов докладывал генералу?
Известен один, Ратенау. Для чекистов он уже не Войшвилов, не кто-нибудь другой, а именно Ратенау – старый, матерый волк, неистовый, закоренелый враг всего, что дорого каждому советскому человеку. И пусть этот враг обнаружен в результате стечения обстоятельств, – генерал не называл это случайностью. Рано или поздно, но Ратенау был бы найден среди двадцати шести, перешедших когда-то фронт, все равно их дороги скрестились бы, а на чьей стороне победа – ответ может быть один. Курбатов не огорчался, не сожалел, что Ратенау нашли, опознали Голованов и далекий уралец, а не он сам. Агент обнаружен – и это главное.
Известен второй, железнодорожник. Правда, на этом все сведения о нем исчерпываются, но второй агент обретает плоть и кровь, перестал быть абстрактным понятием… Да, значит, два икса известны, остается их найти.
Как вести поиски этих двух? С чего начать? Пока ясно одно, что железнодорожника – будем его до поры до времени так называть – искать сегодня негде. Следов еще никаких нет. Ратенау тоже исчез.
Ратенау носит фамилию Войшвилова, и его можно искать по этой фамилии. Но почему он должен быть Войшвиловым? Наверняка паспорт у него уже другой. Нет, это надо отставить… Есть его фотография… Годится!.. Но где все-таки искать?
А почему Ратенау был там, где Голованов ловил рыбу? Может, у него там есть квартира, дача или еще что-нибудь? Что ж, неплохо. Стоит послать туда людей.
Во второй половине дня двое сотрудников выехали в Замошье. Курбатов дал им фотографии Ратенау, со слов Кати обрисовал его внешность. Никогда не видя бывшего бухгалтера в глаза, майор отчетливо представлял его, и описание получилось подробным. Но посылал он сотрудников в Замошье скорее для обычной в его работе профилактики, – не было уверенности в том, что они вернутся с какими-нибудь сведениями о Ратенау. Даже можно было заранее сказать, что он туда не поехал.
Хотя события разворачивались стремительно, Курбатов не забывал приказ генерала – собирать как можно больше фактов, – они были необходимы сейчас. Поэтому, выполняя распоряжение, Курбатов сказал Брянцеву:
– Поедете в Солнечные Горки, познакомитесь с Кисляковой. Кое-что я о ней уже узнал. Женщина излишне веселая… кажется, вторично замужем. Проверите ее знакомства, личную жизнь и так далее. Ну, как действовать – выбор ваш.
Дав задание Брянцеву, Курбатов поехал к заводу. У ворот он остановился, потом, повернувшись, быстро пошел прочь. «Я – Позднышев. Спешу к другу. Предположим, в ресторан “Московский”. Спешу не потому, что времени в обрез, а по привычке. Позднышев быстро ходит».
Свернув на набережную канала, Курбатов взглянул на часы. Прошло десять минут. Хорошо, пока все правильно.
Но, подойдя ближе к мосту, Курбатов замедлил шаг. Там, где всегда был вход на мост, стоял, захватив полукругом часть набережной, высокий забор. Бумажный плакат с надписью «Мост закрыт» пожелтел от солнца, – значит, ремонтируют давно. Курбатов подошел к парапету и перегнулся через него. Настил был разобран, над водой висели две тонкие, выкрашенные суриком балки. Обходить далеко. Надо отставить «Московский» и идти назад.
Вернувшись к заводу, Курбатов направился в ресторан «Приморский». Издали он увидел, что у подъезда стоят три голубых автобуса экскурсионного бюро. Швейцар с окладистой бородой сказал:
– Уважаемый, сегодня нельзя, занято. Вот вчера бы пришли – пожалуйста.
– А в субботу? – поинтересовался Курбатов.
– В субботу зал тоже арендовали. Справлял юбилей «Инкоопчас».
Швейцар радовался разговору, но Курбатов спешил: осталось еще три ресторана.
«Бристоль» был открыт. Курбатов спросил севрюгу в томате с шампиньонами. Это блюдо, как установили врачи, и ел Позднышев в тот вечер.
Директор ресторана, тучный, низенький, с маленькими бегающими глазками, заговорил бойко и словно извиняясь:
– Да, да, я понимаю. Шампиньоны – это… Вы должны требовать шампиньоны, вы правы, вы правы. Но разве я все могу? Нет, я не все могу. Знаете, с утра до ночи бегаю, устраиваю, договариваюсь. Поверите, на заводе лучше, спокойнее. Жена и так уже говорит: ты худеешь. Но как уйти? Надо же питать людей, надо, чтобы они удовольствие имели…
Он, забегая вперед, проводил Курбатова до выхода, сам открыл дверь и долго смотрел ему вслед, пытаясь, видимо, догадаться, какие неприятности последуют за таким посещением, – ведь директор не сомневался, что к нему приходил ревизор из торговой комиссии.
В ресторане «Радуга» Курбатова приняла строгая, деловитая женщина-калькулятор; директора не было. Она объяснила, что рыба у них есть любая, а с грибами туго. Вот в «Северном» – там все проще: есть договор с одним совхозом, имеющим шампиньонницу.
Курбатов шел в «Северный» не торопясь, на ходу обдумывая, как найти официанта. «Посижу за столиком, осмотрюсь. Там виднее станет». Он посмотрел, сколько у него с собой денег, и, согнав с лица озабоченное выражение, направился к услужливо раскрытому подъезду.
Уже второй день Брянцев жил в Солнечных Горках. Он приехал сюда в понедельник, быстро нашел нужную ему улицу и, только выйдя на нее, пошел медленно, через забор окликая хозяев, переговариваясь с ними о цене комнат. Начинался дачный сезон, у многих уже все было сдано, и Брянцев сильно беспокоился, что в доме Кисляковой ему тоже могут отказать. «Все равно сниму, переплачу в крайнем случае».
Застекленная веранда, именно такая, какие любят дачники, была еще закрыта, в углу, через стекло, видны доски, лопата, грабли. Двустворчатое окошко под крышей было настолько запылено, что в нем не отражались ни деревья, вытянувшиеся вдоль забора, ни яркое бездонное небо.
Брянцев обошел дом, поднялся на крыльцо. Ему открыла высокая светловолосая женщина в цветастом халате и домашних туфлях на босу ногу. Увидев незнакомого офицера, она смущенно стала застегивать верхние пуговицы халата. Брянцев, не зная, куда отвести взгляд, смотрел ей прямо в глаза, и она улыбнулась ему:
– Вы ко мне? Наверное, комната нужна? Проходите, пожалуйста.
Она провела Брянцева в коридор, потом попросила его минутку обождать, а когда позвала в комнату, там было уже кое-как прибрано, пахло крепкими духами и в углу урчал пузатый чайник на плитке.
– Простите, что у меня такой беспорядок. Ночью дежурила, – я работаю телефонисткой. Пришла, сразу легла и вот только встала. И вдруг – вы. У меня обычно постоянные дачники, семья одного врача, но в этом году они уехали куда-то на юг, и я могу сдать другим. Приходило уже много желающих, но все с детьми, а я, знаете, не очень люблю ребятишек, хлопотно с ними.
Она не любит детей. Брянцева удивило это признание.
– Вы ведь один жить у меня будете? Пойдемте, покажу. Вам, наверное, наверху больше понравится?
Они поднялись по узкой, скрипучей лестнице. Комната была маленькая, с низким потолком, и Брянцев с радостью подумал, что жить здесь ему придется не так уж долго. Зато обзор из окна широкий: видна и калитка, и двор, и улица. Он согласился.
– Убрать и помыть я не смогу. Некогда, и вообще терпеть не могу возиться с тряпкой. Вы соседку попросите, она все сделает.
Потом они снова сидели внизу, и Брянцев рассказал о себе: он офицер, приехал поступать в академию. До экзаменов еще далеко, но в большом городе есть библиотеки, можно заниматься. Там, где стоит его часть, трудно достать нужные книги. А учился он давно, забыл многое, и теперь придется засесть за учебники. Здесь, в Солнечных Горках, ему, наверное, никто мешать не будет.
Кислякова не спросила, где стоит его часть, и Брянцеву это понравилось. Видимо, она не думала об этом и не заметила, что можно было спросить будто бы просто так, невзначай, по ходу разговора.
Расспрашивать в свою очередь Брянцев не торопился, боясь насторожить Кислякову. Он видел, что говорит она охотно и свободно, не задумываясь, и если что-нибудь надо будет у нее узнать, то большого труда на это, наверное, не потребуется.
Вскоре Кислякова собралась уходить: ей надо в магазин, за штапельным полотном. Брянцев сказал, что не знает, как быть с пропиской, он впервые станет жить на частной квартире. Наверное, придется съездить в академию, взять какую-нибудь справочку.
Нет, она тоже не знает, как прописывают военных, но по пути зайдет в милицию и спросит. Кстати, если он хочет есть, то в шкафу найдет хлеб, ветчину, на плитке можно приготовить пельмени, они в погребе. В общем, пусть чувствует себя хозяином. Вот ключи.
У калитки она обернулась:
– Константин Георгиевич, я вернусь в двенадцать. Надеюсь, вы еще не будете спать?
«Птичка божья», – подумал Брянцев, глядя, как Кислякова выпорхнула на улицу и за кустами несколько раз мелькнуло яркое платье.
Он сходил на вокзал за чемоданом и нарочно оставил его в прихожей, чтобы видны были наклейки. Потом попросил соседку убрать в комнате.
Засучив рукава, пожилая полная женщина мыла окно, протирала стекло мелом, и Брянцев, сняв китель, несколько раз ходил к колодцу за водой. Женщина ворчала: «Столько грязи накопилось», – а потом в сердцах махнула рукой:
– Не пойму я ее, Марию. Ведь уже не молодая, тридцать два года скоро, пора бы и о семье подумать. Ан нет. Все у нее несерьезно как-то получается. Первый-то муж хороший человек был, на войне погиб.
– Она, кажется, второй раз замуж вышла?
– Тоже мужчина видный был, степенный. В железнодорожниках служил. Но, кто знает, что у них там получилось, – трах-бах, развелась. А потом оказывается: сбежал муженек, даже на суд не явился. Только объявление в газете дал. Так вот и ходит она сейчас, не то замужняя, не то холостая.
Кончив уборку, соседка ушла, сказав, что если понадобится еще что-нибудь, она всегда сделает:
– На Марию не надейтесь, она и о себе-то не позаботится.
Под вечер Брянцев поехал в город. Он рассказал Курбатову, как устроился и что успел узнать. Майор был задумчив и немногословен:
– С вашей характеристикой Кисляковой я согласен. Именно такой ее и представлял. Да, пожалуй, она не из пятерых. Но вот на второй странный брак обратите внимание. Что-то в нем есть. Завтра посмотрите объявление в газете, думаю – пригодится. А пока живите там, понадобитесь – позову.
В Солнечные Горки Брянцев вернулся часов в десять. К себе наверх он подниматься не стал, зажег свет в комнате хозяйки, сел на диван и закурил.
Несмотря на сумеречный час, на бледный свет лампы, смягченный матовым абажуром, и тонкий запах каких-то ранних цветов, струившийся в полураскрытое окно, Брянцеву было неуютно и почему-то зябко. Он подумал о хозяйке, подумал с неприязнью, что вот живет она без забот, без прочных привязанностей.
И Брянцев с неожиданной для самого себя нежностью и теплотой вспомнил другую женщину, совсем не похожую на Кислякову, ту женщину, которая стала единственной, родной, любимой.
«Милая, милая моя Танюша… Помнишь, мы встретились впервые в поезде, нам ехать было далеко, и те несколько дней мы то ссорились, то мирились; да и знакомство наше началось как-то необычно. Рядом с тобой сидела какая-то бабушка с внучатами, младший капризничал, просил сахару, и старушка лезла в мешок, доставала потертую, мятую пачку рафинада, брала кусок и клала его в рот мальчонке. Старший сидел насупясь; он, видно, тоже хотел сахару, но не просил. А бабушка клала и клала в рот младшего кусок за куском и, виновато поглядывая на соседей, объясняла: “Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало”. Женщина, сидевшая напротив, вздохнула и задумчиво проговорила, что уж это, дескать, всегда так, что младший – самый любимый.
Когда они вышли, ты сердито посмотрела на всех и сказала: “Никого она из них не любит. Кто любит, тот не потакает”. Не все с тобой согласились. Мы долго спорили, спор вырос, перекинулся на большую тему, и я до сих пор помню твои слова о том, что любить людей – значит бороться за то лучшее, что в них есть. Мне пришла тогда на память жизнь Дзержинского, его борьба с беспризорничеством – это ведь тоже была борьба за человека. Вспомнил, как он ловил на Лубянке карманников и они считали его бессердечным человеком, – его, который отдал серебряную чернильницу, единственную свою драгоценность, подарок сына, чтобы они не голодали… Да, человека надо любить, ты права.
Милая, помнишь, много времени спустя мы сидели в тесной узкой комнате, где стоял только стол, покрытый газетами, да два табурета. Ты приехала тогда ко мне навсегда, и я был рад, что у нас есть дом и мы с тобой – маленькая, но семья. Был Новый год, и мы тогда купили немного вина и любимую твою баклажанную икру. Уже было почти двенадцать, как вдруг ты спросила, почему у соседки тихо. Я ответил, что она одна, ей не выплатили вовремя пенсию и она постеснялась идти к знакомым, у которых была складчина. Ты тогда встала и пошла за соседкой. Ты сказала, что не можешь быть счастливой, если у соседей плохо, тебе не нужно счастья в одиночку. И мы встретили Новый год втроем, и, честное слово, я был счастлив в тот вечер.
Потом нам приходилось часто ездить, служба не давала засиживаться, но ты не огорчалась. Ты говорила мне, что быть нужным – это счастье. Да, это огромное счастье, родная, – быть нужным народу.
Хорошая моя, вот и сейчас, наверное, ты ждешь меня, как ожидаешь всегда.
Но ты не одна, перед тобой тетради твоих учениц, которых ты любишь не меньше, чем меня и нашу дочку, но другой любовью. Ведь у человека должна быть не одна любовь, правда? Любовь к Родине, к ребенку, к своему делу, – и каждая не меньше другой. И только когда человек любит так много, он живет большой жизнью…»
Брянцев потрогал папиросу, – она потухла. Он, улыбнувшись уголком губ, посмотрел на почерневший кончик и подумал: «Скучает, родная… Говорят – примета, а мне хочется верить ей, примете».
Он оглядел комнату, потом обошел вокруг стола; ему захотелось посмотреть, полистать какую-нибудь книгу, но он ничего не нашел. Очевидно, хозяйка не читала книг. Тогда Брянцев взял с этажерки альбом, положил его на колени и раскрыл.
На первом листе были аккуратно, уголками, врезаны фотографии родителей Кисляковой, – их можно было легко узнать: у матери такие же глаза и губы, а у отца – небольшой нос с горбинкой. Потом – Кислякова-школьница, все взрослее и взрослее… Подруги… На оборотах смешные надписи, крупный, по-детски одинаковый почерк… Первый паренек, – он выглядит моложе, чем Кислякова. Она уже девушка, лет семнадцати… Сидит на камне, обхватив колени. Снято здесь, в Солнечных Горках, надо думать… Лейтенант, в необновленной еще форме. Это ее муж. Подпись, дата, – июнь, сорок первый.
А дальше другие мужчины – военные, штатские… и подписи нехорошие, нескромные… Который же из них второй муж?
Кислякова вошла стремительно и рывком бросила сумочку на стол:
– Фу, еле отстояла очередь. Вы, я думала, не дождетесь.
– Нет, почему же, вот сижу, коротаю время.
– Ну и хорошо. Чайку выпьем? У меня и еще кое-что найдется. – Она лукаво подмигнула и рассмеялась. – Люблю, знаете, на ночь чего-нибудь выпить, вина хорошего, например. Спится крепче.
Кислякова поставила на плитку чайник, потом открыла буфет:
– Что же это вы ничего не ели? Не хотели? Бросьте, пожалуйста. А я думала, что военные нигде не теряются…
Она быстро сделала два бутерброда и один протянула Брянцеву. Он взял и взглядом пригласил ее сесть рядом. Кислякова откинулась на подушки, и Брянцев искоса поглядывал на нее.
– Лейтенант, вы альбом смотрели, скажите, когда я лучше была, сейчас или двенадцать лет назад?
Брянцев недоуменно пожал плечами.
– Трудно сказать; тогда вы, конечно, были моложе. Но дело не в этом, каждый возраст по-своему хорош.
– А вот еще одна, последняя… Я ее в альбом не вложила, фотография с браком.
Она вынула из ящика фотографию и протянула Брянцеву:
– Ну, как?
Фотография была аккуратно склеена из четырех обрывков, снимок сделан умело. Кислякова в летнем платье стоит у воды, спиной к заливу. Дальше какие-то строения. Интересно, где это? Это не дома, не сараи… Форты! Ну да, форты!
Брянцев вернул Кисляковой снимок и сказал:
– Хорошая фотография. А чего ж вы ее порвали?
– Да не я, муж. Я тоже ему говорила – хорошая, а он заартачился и порвал. Потом пошел пива выпить, а я собрала… Да, вы правы, здесь я действительно хорошо вышла.
«Ловко придумано, – заметил про себя Брянцев. – Снято почти все, что требуется опытному разведчику. Но Кислякова, разумеется, и не догадывается ни о чем».
– Совсем недавно снималась, какой-нибудь месяц назад, – щебетала Кислякова, заваривая чай.
– А где же? Вид очень красивый…
– Не знаю. Ездили мы на машине, купались, загорали. Далеко отсюда, на побережье. Потом еще пароходом как-то ехали, он тоже снимал. Но и те карточки не вышли. Качка помешала. У мужа аппарат с длинной трубкой был, знаете? Никак он меня в какой-то фокус поймать не мог.
Перед чаем Кислякова немного выпила, раскраснелась и добавила еще вина в чашки. Брянцев старался поддержать ее веселое настроение, пошутил насчет того, что нежданно-негаданно попал на выпивку, что у него хозяйка – дай бог каждому и он теперь живет, как на даче. Потом осторожно спросил:
– У вас, Мария Ильинична, своя фамилия или мужа?
– Мужа. Первого мужа.
– А у второго какая?
– Никодимов, Сергей Борисович… Да что вы, Константин Георгиевич, спрашиваете. Я теперь незамужняя, свободная. Пожалуйста, – влюбляйтесь.
– Куда уж мне. Экзамены сдавать нужно… А вы что, развелись?
– Кто его знает, – в ее смехе прозвучала горечь. – Объявление дали, а суда не было. Муж куда-то пропал, может, несчастье какое-нибудь случилось. Там-то, в суде, его искали. Адрес, говорят, неверный. Не знаю, что и подумать…
Кажется, уже все ясно. Брак этот – неспроста. Какая же цель? Неужели – объявление?..
А Кислякова продолжала:
– Недели две прожили хорошо. А затем стал скандалить. Это ему не нравится, другое… В общем, развелись.
– Ну, ничего, ничего, Мария Ильинична. Может, и найдется…
– Я бы снова его приняла, лишь бы цел вернулся.
Брянцев взял альбом и, показав на первую же попавшуюся ему фотографию мужчины, спросил:
– Это он?
– Нет… Обещал, но так и не дал своей фотографии. Ничего у меня после него не осталось.
– Да… Вам утром опять на дежурство? – перевел разговор Брянцев. Он снова заговорил о другом, пошутил, что скоро уже соловьи запоют и что от слез цвет лица портится, и, видя, как Кислякова снова повеселела, через некоторое время встал – ему завтра надо заниматься, а от вина в голове шумит. Пожелав хозяйке спокойной ночи, Брянцев поднялся к себе.
На другой день он зашел в редакцию районной газеты, попросил подшивку, отыскал номер с объявлением и списал его.
В поезде, на пути в город, Брянцев внимательно перечитал объявление, но ничего особенного не заметил: «Никодимов Сергей Борисович, прож. Столбовая ул., 16, кв. 5, возбуждает дело о разводе с Кисляковой Марией Ильиничной… Дело подлежит рассмотрению в нарсуде 2-го участка Солнечногорского района».
До Столбовой улицы Брянцев доехал в такси, – ему не терпелось узнать, кто там живет: может, удастся найти этого проклятого железнодорожника. Брянцев был уверен, что это тот железнодорожник, который пришел в подвал с перевязанной рукой и сказал, что взорвал водокачку.
Пятая квартира в первом этаже. Брянцев увидел сперва потускневший, погнутый жестяной номер, а потом, ниже, возле самой ручки, длинную, поперек всей двери, скобу и замок. Он в недоумении постоял, затем спросил вышедшего из соседней двери мужчину в белом колпачке и переднике:
– Скажите, в пятой квартире… уехал жилец?
– Нет, тут никто не живет. Здесь кладовая нашего ресторана.
Брянцев вернулся на улицу растерянный. Из вестибюля ресторана он позвонил майору, но там никто не поднял трубку; позвонил дежурному, тот ответил, что майора нет, ушел с утра. Брянцев сдал гардеробщику фуражку и направился в зал. На повороте, там, где во всю стену вставлено зеркало, он остановился, оправляя китель, взглянул на свое отражение и… обомлел. К нему спиной стоял Курбатов и, смеясь в зеркало, смотрел на Брянцева.
– Товарищ лейтенант, как вы думаете, почему мы с вами здесь встретились? – тихо спросил майор, причесывая светлые волосы.
Они сидели за столиком, и Брянцеву казалось неправильным, что они вместе. Когда Курбатов вошел в зал, лейтенант еще немного задержался у зеркала, чтобы войти позже и сесть в другом конце, подальше от начальника. Но, проходя между колонн, он встретился взглядом с майором и понял: надо занять место рядом. Брянцев вежливо поклонился Курбатову и нарочито громко спросил:
– Здесь свободно?
И вот теперь они сидели вместе. Курбатов взял меню и внимательно его рассматривал. Брянцев закурил, все еще пытаясь понять, почему, действительно, они встретились в этом ресторане и почему, спрашивая об этом, майор так загадочно улыбался.
В этот ранний час в ресторане было тихо. У буфета два официанта разговаривали с третьим, стоявшим за стойкой, и поглядывали на немногочисленных посетителей.
Брянцев начал вполголоса рассказывать о Кисляковой, но Курбатов прервал его и сказал: «Дальше! Почему вы пришли сюда?» – Брянцев объяснил, что он шел по адресу, указанному в объявлении, адрес неверный, и ему захотелось подумать о случившемся.
– Как фамилия мужа? Сергей Никодимов? Хорошо. Что еще в объявлении?
Курбатов, с видом завсегдатая этого ресторана, поводил пальцем по меню, потом, повернувшись к официантам, крикнул:
– Сергей!
Один из официантов обернулся на зов, поправил на руке салфетку и подошел к столику.
– Простите, вы меня звали?
– Да, Сергей, дайте нам, пожалуйста… – Курбатов поглаживал подбородок, словно раздумывая, затем поднял голову. Но официант опередил его:
– Простите, но я не Сергей.
– Разве? Вы не Сергей Никодимов?
– К сожалению, нет. Несколько дней назад у нас работал Никодим Сергеев, эти столики как раз обслуживал, но его уже нет. Вы ошиблись, уважаемый.
– Ах да, совершенно верно. Никодим! Правильно, Никодим! – будто бы вспоминая, воскликнул Курбатов и рассмеялся. – И как это я забыл? Такой симпатичный товарищ был. Где же он?
– Не знаю. Уволился. Что прикажете?
Курбатов снова наклонился к меню и как бы невзначай задел Брянцева:
– Нам севрюгу в томате с грибами, а? Для начала…
– Пожалуйста. Две? – официант записывал. – Замечательная закуска, да мало кто берет, не знают, наверное. Деликатес!
Когда он отошел, Курбатов взглянул на Брянцева и подмигнул:
– Не боитесь, что отравят?
Они ели медленно. Подцепив на вилку упругий, хрупкий, словно из фарфора, гриб, Курбатов протянул:
– Да-а! Хороши!
Затем майор поднялся и пошел к двери, спрятанной за колоннами. Брянцев остался. Курбатов, уходя, приказал ему ждать, и он, подозвав официанта, заказал пива.
Директор был один, и Курбатов, предъявив удостоверение, начал расспрашивать о Сергееве.
– Работник хороший, вежливый, старательный. Жалоб на него никогда не поступало.
Работал в ресторане давно, года три. Это легко уточнить по анкете. Уволился в субботу вечером. Получил телеграмму, где-то у него мать заболела, надо было срочно ехать. Я предложил отпуск, но он сказал, что отпуска ему, возможно, не хватит. Умрет мать – плоха уж больно, – надо будет продать дом, а это нелегко. Уехал, наверное, в воскресенье. При мне по телефону билет заказывал.
– Ему в тот вечер никто не звонил?
– Вот этого не могу сказать. У нас два телефона – один у меня, другой – где официанты переодеваются. А что случилось?
– Так, ничего особенного. Вы не проведете меня в ту комнату?
Там стояли высокие шкафчики для верхней одежды, столик, диван. Курбатов попросил показать ему блокноты, куда официанты записывают заказы, и директор, порывшись в столе, достал их.
– Который Никодима Сергеева?
Директор подал один:
– Кажется, этот. – Курбатов вопросительно поднял бровь, и директор поправился: – Да, да, этот. Точно. Видите – последний, половина только исписана.
Курбатов листал блокнот. Нет, севрюги с грибами не видно. Он снова перелистал блокнот. Один листок вырван… Да, в самом конце… Что ж, все равно прочтем. Оттиск от карандаша остался на соседнем листке. Видно, дрожь взяла негодяя, не учел.
Брянцев вышел вслед за Курбатовым и на улице догнал его. Майор улыбнулся:
– Ну вот, кажется, нашли след одного. Да, не сомневаюсь, что нашли…
– Да ведь ничего не известно, товарищ майор. Чего радоваться?
– А вы думали, все будет просто, раскрой ладонь и бери? Нет, брат, не все сразу.
– Ну что мы знаем? Так… фигуры в белом… привидения.
– Что вы? Много знаем, дорогой! Во-первых, знаем, что Позднышева отравил Никодим Сергеев, официант. Уверен, экспертиза прочтет, что было записано на вырванном листке, и подтвердит мои предположения. Во-вторых… вы думаете, объявление им в самом деле для развода было нужно? Нет, конечно! Адрес фальшивый. Неспроста мужа Кисляковой звали Сергеем Никодимовым, а официанта – Никодимом Сергеевым. Это все неспроста, дорогой Константин Георгиевич. Здесь – шифр. Ресторан – место явки. Для кого? Еще неизвестно, и об этом я в первую очередь доложу генералу. Но мне ясно, что кто-то должен прийти к официанту, связаться с ним. Вы говорите, может, уже приходили? Не думаю. Сигнал дан не для того, кому можно в любой момент позвонить, написать, телеграфировать. Не правильней ли предположить, что этот сигнал для того, кто далеко, возможно – за пределами нашей страны? И фотографии фортов, снятых с парохода, тоже предназначаются ему. Переходил такой человек границу? Если нет, то должен… Пожалуй, он сюда и явится. Вот видите! А вы говорите – мало!
Он помолчал и прибавил:
– Съездите-ка в последний раз к Кисляковой, скажите, что встретили в городе приятеля и будете жить у него. Знаю, знаю, – вам домой хочется, но надо считаться с людьми. Кислякова все-таки неплохой человек? Пусть сдаст вашу комнату другому… Ничего, обернетесь быстро. А завтра вы мне будете нужны.
Из кабинета Курбатов позвонил в больницу.
– Позднышев? – переспросили в справочном столе. – Состояние плохое, в сознание не приходит.
Он осторожно, будто боясь нечаянным стуком потревожить больного, положил трубку на место и взглянул на Брянцева:
– А впрочем, вы мне уже сегодня будете нужны. Вот, поглядите-ка, – он протянул Брянцеву синий конверт. Адрес был отпечатан на машинке, так же как и письмо.
«Уважаемые товарищи!
Считаю своим гражданским долгом сообщить Вам нижеследующее. На заводе “Электрик” творятся нехорошие вещи. Так, некая Воронова Е.П., по своему положению инженер, использовала свое это положение, чтобы неправильно смонтировать генератор на Кушминской ГЭС и тем самым совершить аварию. Обращаю Ваше внимание также на то, что человек этот не заслуживает политического доверия, так как, по моим сведениям, была у немцев и как попала через фронт, остается фактической загадкой.











