Читать онлайн Кинжал для левой руки
- Автор: Николай Черкашин
- Жанр: Боевики, Исторические приключения, Книги о войне
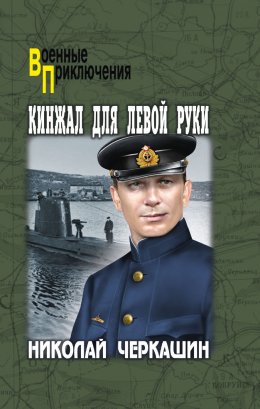
© Черкашин Н.А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
Кинжал для левой руки
Часть первая. Торпеда для «Авроры»
Петроград. 25 октября 1917 года, 3 часа ночи
Капитан 2-го ранга Николай Михайлович Грессер-третий проснулся оттого, что над ухом щелкнул взведенный курок. Рука молниеносно выдернула из-под подушки наган… Николай Михайлович тихо выругался. Щелкнул открывшийся сам собой замок стоявшего в головах чемодана. Жена недовольно заворочалась.
– Опять ты вскакиваешь посреди ночи… Бож-же, что за наказание…
После Кронштадта Грессер спал с наганом под подушкой. После Крон-штад-та… Отныне и навсегда в этом слове будет слышаться ему клацанье затвора, шорох матросских клешей, метущих ступени лестницы, удары прикладов в дверь…
Ему всегда казалось, что самое страшное из того, что может с ним случиться, – это смерть от удушья в заживо погребенной подводной лодке. Всю войну в сейфе своей командирской каюты он держал изрядную дозу морфия на тот самый страшный, безысходный случай. Но судьба пощадила его «Тигрицу», и в феврале семнадцатого он благополучно сдал ее своему однокашнику по Морскому корпусу. А спустя неделю случилось то, что не примерещилось бы ему и в самом нелепом кошмаре. Его пришли убивать свои, русские матросы. Они пришли ночью. В ту самую первую весеннюю ночь, когда до острова Котлин доползли слухи об отречении императора, о революции, о свободе…
Грессер жил в третьем этаже доходного дома на Господской улице. Весь день первого марта он просидел в квартире, леча ангинозное горло всевозможными полосканиями. Он не знал о митинге на Якорной, не знал, что военный губернатор Кронштадта адмирал Вирен поднят матросами на штыки, что весь день взбудораженные толпы балтийцев ходили по кораблям, где им выдавали «драконов», и желтоватый кронштадтский лед становился красным там, где вершился суд скорый и беспощадный… Ничего этого он не знал, хотя и догадывался, что в городе неладно…
А в полночь винтовочные приклады заколотили в дверь и его квартиры. Он успел набросить на плечи китель и, поразмыслив с минуту, все же открыл дверь. Сильные руки выдернули его на площадку.
– Во каку цацу выудили! – по-рыбацки обрадовался рябой широкоскулый матрос. – Сыпься вниз, гнида! Смертушка твоя пришла!
Какое счастье, что Ирина с Надин остались в Петрограде…
Своих, с «Тигрицы», в толпе взбулгаченных матросов он не разглядел. Был бы кто из них – любой бы воспротивился столь вопиющей несправедливости: капитан 2-го ранга Грессер никогда не был «драконом». За всю войну он ни разу никого не ударил.
Ударил.
Но только один раз и то за дело – сигнальщика Землянухина. «Тигрица» шла ночью в надводном положении. Поход предстоял опасный, Грессер нервничал, ибо лучше других знал, куда и на что они идут. Он первый заметил веху, обозначавшую скальную банку, и вовремя успел отдать команду на руль. Но первым заметить веху должен был сигнальщик – она была в его секторе. И Грессер ткнул Землянухина биноклем в лицо:
– Плохо смотришь, чучело!
Эбонитовый наглазник рассек матросу бровь, но Землянухин снес тычок как должное:
– Виноват, вашсокродь, прозевал…
– Смотри в оба! Лодку загубишь!
На том все и кончилось. И знали об этом случае только они двое – матрос и офицер. Землянухина давно уже нет в Кронштадте – его перевели на лодку-новостройку, так что никто не мог припомнить кавторангу ничего дурного. Но никто и не собирался ему ничего припоминать. Ночным пришельцам достаточно было того, что его выудили.
Николай Михайлович видел, как вниз по лестнице гнали в шею соседа – старшего лейтенанта Паньшина. Во дворе – Грессер успел заметить в лестничное окно – жались перед матросскими штыками пятеро полуодетых офицеров.
– Дайте хоть шинель набросить! – взмолился кавторанг. – У меня ангина.
– Глотошная, что ль?! Иди, иди, щас мы тебя вылечим! – пообещал рябой и поддернул ружейный погон.
Жизнь подводника приучила Грессера искать выход в секунды. И он, как всегда, нашел его, обведя затравленным, но цепким взглядом лестницу, окно, площадку второго этажа… Дверь в квартиру Паньшина оставалась полуоткрытой. Поравнявшись с ней, Грессер метнулся в сторону и тут же захлопнул тяжелую дубовую створку, набросил крюк, задвинул засов. Он успел проделать все это в считанные мгновенья, успел отскочить в сторону – от пуль, дырявивших дверь. В квартире никого не было. Расположение комнат Грессер знал прекрасно, так как жил в точно таких же, только этажом выше, поэтому, прикинув на бегу, что выбираться в окна, выходящие во двор и на улицу, равно опасно, он ринулся в чулан, распахнул узкую раму и очутился на крыше чайной, пристроенной к торцу дома. Скатившись по обледеневшей кровле в задний палисадник, Грессер дворами и глухими проулками выбрался на северную окраину Кронштадта. Страх – смертный страх гонимого зверя – выгнал его на лед Финского залива, и он трусцой двинулся по санному пути в Териокки. Он обходил фортовые островки с глубокого тыла, опасаясь выстрела в спину. В одном кителе, без фуражки, в тонких хромовых ботинках он пробежал по заснеженному льду верст десять, пока, вконец окоченевшего, его не подобрали финские рыбаки. Они отвезли его на санях в ближайший поселок. Дней десять он прометался в бреду жестокой простуды. Старуха-финка выходила больного брусничным листом, клюквенными чаями, козьим молоком. Грессер оставил ей свои золотые наградные часы, полученные за потопление германского крейсера, и отправился в Питер с пригородным поездом.
В столице ликовала «великая и бескровная» революция. Извозчик с красным бантом и с красной лентой, вплетенной в гриву лошади, с трудом пробился на Английскую набережную.
В доме жены – особняке генерал-лейтенанта Берха – Николая Михайловича встретили, как выходца с того света. Из Морского корпуса – через мост – примчался отпущенный до утра Вадик, кадет старшей роты. Когда все домашние вдоволь нарыдались и нарадовались, когда, отойдя душой и телом от кронштадтского бега, Николай Михайлович появился в Адмиралтействе, то и там его приняли, как воскресшего из мертвых. Ему были рады, его расспрашивали, ему называли имена погибших в Кронштадте офицеров, и в тот же день у Грессера стала дергаться правая щека – то ли от всего пережитого, то ли от застуженного во льдах залива лицевого нерва.
– Послушайте, правда ли, что они обезоружили даже памятники? – приставал к нему лейтенант Дитрих, офицер из ГУЛИСО[1]. – У Беллинсгаузена отобрали кортик, а у Петра – шпагу?
– Правда, – отвечал Грессер, испытывая некоторое удовлетворение от того, что отголоски кронштадтских событий взволновали тихую заводь Морского генштаба.
Его принял новый морской министр, никогда не бывавший в морях, – Александр Иванович Гучков – и нашел ему место под Шпицем[2]: Грессера назначили старшим офицером в отдел подводного плавания. Казалось, жизнь снова налаживается, и притом в лучшем качестве: ни выходов в море, ни нервотрепки с матросами, от дома до службы – променадная прогулка в четверть часа, в просторных коридорах и высокооконных кабинетах – привычное золото погон, холеные лица сослуживцев, знакомых и по гардемаринским ротам, и по кают-компаниям, и по морским собраниям… Но горький дым кронштадтских труб – корабельных и заводских – докатывал и сюда, под Шпиц. И с каждым месяцем он ощущался все горше, все ядовитей, все убийственней… В октябре Генмор работал как машина, разобщенная с гребными валами, – сам по себе. Маховики флота вращал Центробалт[3] – странное новообразование на теле российского флота. О нем говорили с той болезненной гримасой, с какой говорят о раковых больных – с состраданием, страхом и отвращением. Для Николая Михайловича Центробалт был скопищем краснобаев и прочих говорунов, которые мнили себя новыми флотоначальниками. И хотя эти «парламентарии» в бушлатах и в мичманках уверяли, что они не будут вмешиваться в планирование военных операций, тем не менее вмешивались, пытаясь управлять ходом Моонзундского сражения.
Грессер готовил бумаги для министра и для председателя Центробалта, относил их на подпись, писал проекты приказов – с глухой тоской человека, вынужденного верить в платье голого короля…
25 октября 1917 года, 3 часа 20 минут
Тот дурацкий щелчок чемоданного замка начисто лишил сна, и Николай Михайлович долго прислушивался к ночным звукам взбудораженного города. Откуда-то с Галерной осенний ветер принес глухие хлопки винтовочных выстрелов – необъяснимых и потому зловещих. Пробухали под окнами чьи-то сапоги, и долетел торопливый говорок.
Каменная раковина петербургского двора втягивала в себя все шумы бессонной столицы. Но пуще всего шумел ветер с залива. Мерзкий проволочный свист проникал сквозь двойные стекла. Стекла дрожали, дребезжали и, казалась, трепетали, словно листы пергамента.
Как и всем морякам, Грессеру не спалось в сильный ветер. С мичманских времен приобрел «штормовую бессонницу». Даже если вахту несешь не ты, без толку спать – в любую минуту тебя поднимет аврал: лопнул швартов, не держит якорь, навалило соседний корабль…
Старый настенный «Мозер» пробил в гостиной третий час ночи. Дребезжащий бой напоминал взвизги диванных пружин, вырвавшихся на свободу.
Свобода… Это заветное когда-то слово звучало теперь угрожающе. Свобода весной 1917 года – это своеволие, разнузданность, безнаказанность, дурная вольница – все, что угодно, только не благородное «либерте». Словесная конструкция «революционная свобода» всего-навсего, полагал кавторанг, прикрывает анархию черни и матросских бунтарей.
Грессер сделал отчаянную попытку уснуть, прибегнув к испытанному средству: представил себя летучей мышью, висящей вниз головой в темном теплом дупле. При этом он грел затылок ладонью. Прием подействовал: сердце отпустило, голова приятно отяжелела, оставалось только вспомнить обрывок сна, прерванного щелчком чемоданного замка… Но тут за окном раздался протяжный грохот железа по железу. Так грохотать – раскатисто, звонко, сыпуче – могла только якорь-цепь.
Грессер выбрался из-под уютного одеяла, приоткрыл штору.
«Диана»?» – спросил он себя, увидев посреди Невы частокол крейсерских труб и мачт. «Диана» стояла в Гельсингфорсе. С какой стати она в Петрограде?
Приглядевшись, Грессер точно определил корабль – «Аврора». Он и забыл о ее существовании. Весь семнадцатый год крейсер проторчал у стенки Франко-Русского завода.
«Аврора» открыла прожектор, и дымчатый в дождливой мгле луч, недобро мазнув по окнам Английской набережной, запрыгал по разведенным пролетам Николаевского моста. У баковой шестидюймовки суетились комендоры.
У Грессера дернулась и запрыгала щека. Похолодевшая грудь ощутила металл нательного крестика. Это не «Аврора». Мрачный призрак кронштадтской Вандеи вошел в Неву, в Петроград, подступил к самым окнам его дома. Грессер затравленно оглянулся, ища, как тогда, на Господской, путь к отчаянному спасению, но взгляд увяз в уютном сумраке спальни, едва рассеянном зеленой лампадой под фамильной иконой.
Шальной свет корабельного прожектора вымертвил лики святых, круглое женино плечо, фотопортреты в резных овалах… Это беспощадный Кронштадт рвался в окно – страшный в своей слепой ярости. Нет-нет, неспроста они осветили именно его окно, ужаснулся мгновенной догадке Грессер. Они пришли за ним, они вот-вот застучат прикладами в высокие двери берховских апартаментов. Надо будить Ирину, дочь, надо бежать, ехать, мчаться прочь, прочь, прочь от этого проклятого города!
Грессер с трудом взял себя в руки и унял дрожь в щеке. «Значит, “Аврора”», – произнес он вслух. Он вспомнил, что крейсером в последнее время командует его тезка и сын отцовского приятеля лейтенант Эриксон, потомок того самого Эриксона, что построил в Америке первый бронированный корабль «Монитор». Неужели это Эрик привел «Аврору»? Или его, как и бывшего командира, пристрелили на трапе? Бедный Йорик! Даже если он жив, ему все равно придется сегодня не сладко. «День славы настает…» Николай Михайлович накинул японский халат, прошел на кухню. Горничная Стеша, прикрывая вырез ночной рубахи, испуганно выглянула из своей комнатки.
– Чтой-то вы в такую рань, Николай Михалыч?!
– Приготовь бритье, Стеша, и крепкий чай, – распорядился Грессер и уточнил: – Бритье в ванную, чай в кабинет. Барыню не буди. Мне на службу надо.
Горничная поспешно затворилась и зашуршала юбками.
«Дура, – усмехнулся Грессер, – решила, что к ней пробираюсь… Интересно, закричала бы или тихо впустила?»
Он тут же рассердился на себя за эти плебейские мысли, недостойные великого дня.
«День славы настает…» Эта строчка из «Марсельезы» припомнилась еще там, у окна, когда он глядел на угрюмую глыбу крейсера, и теперь он без тени иронии повторял ее. Да, сегодня или никогда… Сегодня он, капитан 2-го ранга Николай Грессер, потомок петровского адмирала-шведа, военный моряк в восьмом колене, свершит то, что назначено ему судьбой и историей. Он вырвет из рук «революционеров» их главный меч в Петрограде – крейсер «Аврору». Он хорошо представлял себе, каких бед мог натворить в миллионном городе крейсер, попади он в руки кронштадтских «братишек». Но он предотвратит кровавую бойню, даже если для этого придется пролить свою кровь…
Возвышенные мысли одолевали его всегда почему-то во время бритья.
Грессер был третьим офицером на флоте – после старшего лейтенанта Павлинова и вице-адмирала Колчака, – который брил и бороду, и усы. Это требовало известной смелости, ибо император не благоволил к бритолицым офицерам. А вместе с императором и адмиралы смотрели на «бритоусцев», как на вольнодумцев, как на опасную фронду.
На сей раз пальцы слегка дрожали, плохо слушались, и Грессер дважды порезался своим насмерть отточенным лезвием, чего с ним давно не случалось. Замазав порезы квасцами и растерев щеки одеколоном, Николай Михайлович заглянул в зеркальце «жокей-клуб». В такой день он хотел запомнить свое лицо. Кто знает, быть может, он видит себя в последний раз. В серых нордических глазах застыл странный сплав тоски и безверия, страха и злой решимости. Но тонкий хищный нос и по-прежнему волевые губы ему понравились.
Грессер переоделся в чистое белье, надел новый китель, пошитый у самого модного в Кронштадте портного. Китель был заказан еще до проклятого Февраля и потому злато сверкал упраздненными погонами. Поразмыслив секунду, он не стал их снимать. В такой день он может себе это позволить. И кавторанг с презрением покосился на повседневную тужурку с нарукавными галунами «а ля бритиш нэйви», введенными Керенским в угоду взбаламученной матросне. Эти шевроны с завитушками флотские остряки прозвали «бубликами». Бублики они и есть.
Николай Михайлович стянул с пальца массивное обручальное кольцо и придавил им записку на столе: «Ирина! День, о котором я тебе говорил, настал. Возьмите с Надин в дорогу самое необходимое. Ждите нас с Вадимом вечером в Териоках по известному тебе адресу. Мы должны срочно оставить Питер. Не волнуйся, родная, все будет хорошо. Твой капитан Немо».
Он окинул свой кабинет тем особым – цепким – взглядом, каким всегда прощался с кронштадтской квартирой перед выходом в море. Запомнить и унести с собой, быть может навсегда, и этот секретер с перламутровыми вставками, и настольную министерскую лампу, чей керосиновый фитиль он собственноручно переделал под электрический патрон, и чернокожие с золотом корешки «Военной энциклопедии», и портрет отца в рамке из обгорелых палубных «паркетин» с броненосца, погибшего в Желтом море, и висящий под портретом кинжал для левой руки…
Кто-то из знатоков холодного оружия уверял его, что это – дага или «каульбарс» («ерш»), как называли эту штуку в средневековой Германии. Он снял клинок со стены. То была самая ценная реликвия дома. Она передавалась в роду Грессеров от деда к старшему внуку и служила зримым, но – увы! – единственным свидетельством причастности родоначальника к рыцарскому клану. Лет триста назад именно этот кинжал помог достославному мужу одержать победу в фехтовальной дуэли. Левая рука пращура, вооруженная коротким клинком, нанесла разящий удар неожиданно и точно…
Может, взять на удачу с собой? Быть может, счастливая сила прадедовского «каульбарса» не иссякла в веках?
Поразмыслив, он вернул дагу на место. Его «кинжал для левой руки» выкован из другого металла. У каждого должен быть свой «каульбарс». У каждого должен быть свой «ерш», улыбнулся он неожиданному каламбуру. В конце концов, под один и тот же вексель дважды в долг не берут.
Заспанная Стеша принесла чай.
– И кудай-то вы ни свет ни заря?!
– Война, Стеша, война! Грешно спать в такое время… – торопливо отхлебывал чай Грессер. – Передай Ирине Сергеевне мой наказ: уезжать из города не мешкая. Я пришлю верного человека, он вам поможет.
Чай, подернутый ароматным парком, был хорош – вишнево-красен, в меру горяч и терпок. Кавторанг допил залпом, не слушая озабоченных причитаний горничной. Глянув в зеркало, как сидит новый китель, он решительно направился в прихожую. Стеша не успела даже подать шинель. Грессер облачился сам, пробежался пальцами по золоченым пуговицам, привычным жестом проверил, как сидит фуражка, но вместо кокарды ребро ладони укололось о шитье непривычного «краба», учрежденного все тем же адвокатишкой Керенским на потребу Центробалта.
Переложил наган в карман шинели без погон, предварительно осмотрев барабан – все ли патроны на месте? Все.
Стеша при виде оружия жеманно ойкнула.
– Подай дождевик, – оборвал ее девичьи страхи Грессер.
Нахлобучив на фуражку просторный капюшон и убедившись, что «краб» не виден, Николай Михайлович вышел из квартиры.
25 октября 1917 года, 4 часа утра
Матрос 1-й статьи Никодим Землянухин проснулся от того, что гадюка, увиденная во сне, цапнула его за ногу. Нога загорелась, заныла. Но то уже было не во сне, а наяву. Вчера царапнула лодыжку юнкерская пуля в перестрелке у Николаевского кавалерийского училища. Вроде пустяк, весь день ходил с перевязкой, к утру же вишь как взяло, задергало… А тут еще и змея приснилась…
Аспида во сне видеть, известное дело, хитреца встретить. Но хитрецов Никодим среди своих корешей не числил, а иных встреч не предвиделось. Кряхтя и охая, Землянухин сел на скрипучую экипажную койку.
Матросы с подводного минного заградителя «Ерш», намаявшись за день, храпели во все завертки. Никодим достал из-под подушки бинт и отковылял в коридор на свет – рану посмотреть да свежей марлей замотать. У питьевого бачка гремел кружкой Митрохин, минный боцманмат и председатель лодочного судкома. Был он в тельнике полосатом, в исподнем и сапогах на босу ногу.
– Охромел, братец? – участливо поинтересовался Митрохин. – Эк тебя не ко времени клюнуло! Нынче контру вышибать пойдем, а ты обезножил…
– Юнкера подковали…
– Вот что, – председательским баском распорядился Митрохин. – Все одно ты не ходок пока. А у меня каждый боец на счету. Заступай-ка ты на весь день в караул «Ерша» охранять. Не ровен час кака стерва залезет. Лодку, сам знаешь, в момент затопить можно.
– И то жалко – новехонька, – соглашался Землянухин, перетягивая лодыжку. – В море еще не ходила. Как девка исцелована… Не робь, догляжу.
– Скажи баталеру, чтоб цельных две селедки тебе выдал, буханку хлеба и шматок сала как пострадавшему от наемных псов капитала.
– Ишь ты, – усмехнулся Никодим. – Складно как: «сала – капитала». Стихами заговорил.
– Мы, земелюшка, еще не так заговорим! Вот «Аврора»-матушка слово скажет – это будет дело. Слышь – аккурат против Зимнего стала! Уж точно не промахнется.
25 октября 1917 года, 4 часа утра. Крейсер «Аврора»
Как ни хотелось завалиться на койку – прямо так, в синем рабочем кителе, скинув лишь ботинки, – и рухнуть ничком поверх верблюжьего одеяла (мамин подарок к выпуску), мичман Демидов присел к каютному секретеру, откинул доску и, повернув бронзовый ключик, открыл свой ящичек, где хранилась заветная – гардемаринская еще – тетрадь. Он не притрагивался к ней с июля – с самого выпуска.
Страница, отведенная для описания торжеств производства, была перечеркнута «ступенькой» с восторгом девятнадцати лет:
У!
УРА!
ВЫПУСК!!
УРА! УРА! УРА!
Ошеломительно новая – офицерская! – жизнь, перенасыщенная событиями революционного года, прервала хронику последних трех почти взрослых демидовских лет, но вчера он поклялся себе продолжить дневник и не бросать его до тех пор, пока будет длиться их прекрасный и теперь уже не платонический роман с Надин Грессер, пленительной богиней Северной Пальмиры, Авророй с Английской набережной, невской наядой и прочая, прочая, прочая… Именно вчера произошло то, что доселе казалось немыслимым, несбыточным, о чем он вспоминал сегодня с легкой краской счастливого стыда и восторженным благодарением… Боже! Как доверить это бумаге так, чтобы никто не прочел?! Каким шифром записать этот восхитительный день?!
Может быть, писать по-французски? Но здесь, на «Авроре», по-французски читал каждый второй офицер. И если в грядущем морском бою осколок немецкого снаряда пробьет ему грудь и черная тетрадь вместе с другими его бумагами ляжет на стол старшего офицера или, быть может, самого командира… О нет! Чести Надин Грессер, дочери честного моряка и возлюбленной морского офицера, ничто не должно угрожать!
После долгих раздумий Демидов решил писать самое сокровенное арабской вязью, которую уж точно никто на корабле прочесть не сможет и которой он с грехом пополам овладел на первом курсе Петроградского университета – за год до поступления на отдельные гардемаринские классы.
События первой половины дня можно было доверить любому глазу, и мичман Демидов торопливо набросал по-русски:
«24 октября 1917 года. У стенки Франко-Русского завода.
Этот великий День моей жизни, который я могу уподобить по значению лишь Дню ангела или Дню производства, начался столь же обыденно и серо, сколь и все предыдущие недели и месяцы нашего ремонта: подъем флага, развод на работы и т. п. Правда, за завтраком в кают-компании наш командир (выборный) милый добрый Эрик – да простит он мне эту фамильярность! – прервал наше заводское прозябание долгожданной вестью: “Аврора” свертывает ремонт и в самые кратчайшие сроки уходит в Гельсингфорс. А это значит, что мы успеем еще хлебнуть настоящей боевой жизни, пока не замерзнет Балтика. И если Бог будет милостив к моей морской судьбе, он ниспошлет “Авроре” славное дело. Ведь случился же Моонзунд, а это значит, что настоящая морская война для Балтийского флота только начинается. Как мудро заметил старший офицер Борис Францевич Винтер, “и наш Ютландский бой – впереди”. (Ютландский или Цусимский? Прочь, прочь унылые мысли!) Петроград еще воздаст тем, кто прикроет его у ворот Финского залива, огнем и броней, преградив путь кайзеровским дредноутам. А впрочем – не слишком ли выспренне я выражаюсь?! Такой стиль простителен гардемарину, но не мичману. Но День-то какой – День! Право, он стоит и “высокого штиля”, и белых стихов.
Итак, за утренней трапезой лейтенант Николай Адольфович Эриксон, высокий, сутуловатый, с серыми чуть навыкате глазами, привыкшими разглядывать море скорее на штурманской карте, чем в прорези боевой рубки, дал понять весьма недвусмысленно, что крейсер идет в боевые порядки и посему свободные от службы офицеры могут покончить со всеми своими личными делами в городе до самого ужина. Подтекст этого необычного разрешения был откровенно ясен: “Господа офицеры, прощайтесь с Питером. Мы уходим на войну”.
Я отпросился на берег тут же после обеда. Сменив китель на вицмундир и подвязав черный галстук, я сбежал по трапу на стенку, а затем скорым шагом, миновав проходную завода, вышел к Цусимской церкви. Отсюда до дома Грессеров – рукой подать. Собственно, в этом и заключался весь мой план прощания с Питером – нанести последний визит Надин, как звали ее домашние, Наденьке, как звал я ее про себя.
Оставив Цусимскую церковь[4] за спиной, я вдруг сообразил, что не худо бы поставить свечу Николе Морскому. Он один лишь знает, что ждет “Аврору” завтра. Я вернулся. В Царских вратах алтаря вместо занавеси висел шелковый Андреевский флаг. Стены храма украшали мраморные доски с именами кораблей мучеников: “Ослябя”, “Бородино”, “Суворов”… Я любил эту церковь и до флота… Зажег свечу Николаю Чудотворцу, попросил его об удаче па море и вышел с легким сердцем.
На Галерной в кондитерской я попросил положить в коробку полдюжины птифуров.
С замиранием сердца я поднялся на ее этаж. Дверь открыла она сама…»
Далее арабской вязью:
«Надин была в длинной черной, высоко запоясанной юбке и в пепельной шемизетке[5], заправленной за широкую атласную ленту, стянутую на узкой талии большим бантом. Она провела меня в гостиную, где никого, как, впрочем, и во всем доме, не было. Николай Михайлович ушел на службу, а Ирина Сергеевна со Стешей отправились на Щукин рынок. Признаюсь, я не придал этому никакого значения. Я надеялся лишь на прощальный поцелуй, как тогда, летом, в Териоках.
Мы сидели на широком подоконнике в гостиной и смотрели на сумрачную Неву, всю в острых всплесках под осенним ветром. Надин была грустна. Она сказала, что утром разложила пасьянс на нас, и вышло очень нехорошо. И что вообще жизнь нависла над всеми нами и вот-вот опрокинется, и мы все вместе с нею. Все полетит в бездну, в пропасть…
Бедняжка! Кажется, она очень верила своим предсказаниям, в уголках ее огромных глаз блестели слезы.
Я позволил себе слегка обнять ее, и она не отстранилась, а припала к плечу моему со следами свежеспоротого погона. Пушистые волосы ее нежно защекотали щеку и шею. Она всхлипывала, шептала мне в ухо:
– Папа увозит нас всех в этот противный Гельсингфорс. Мы теперь увидимся очень не скоро… Если вообще увидимся…
– Но ведь это же замечательно! – вскричал я. – Ведь и мы уходим в Гельсингфорс! Мы обязательно увидимся… Там чудные кондитерские и великолепные цветочные магазины…
Я нес всю эту чушь, а перед глазами вставали страшные мартовские дни, гельсингфорсский морг, набитый телами растерзанных офицеров…
Я сцеловывал ее слезы, я покрывал поцелуями ее бледные щеки, виски, лоб, переносицу, пока наши губы, наконец, не встретились, не раскрылись, не слились…
Я вдруг вспомнил. Перед глазами против воли встала ужасная картина: март, Гельсингфорс, порт, гудящая матросня… У входа в мертвецкую стоял замерзший труп адмирала Непенина в лихо заломленной бескозырке. В уголок рта была вставлена дымящаяся папироса… И это был командующий флотом Балтийского моря!
…Надин бессильно сползла с подоконника на мои руки, и я унес свою драгоценную ношу в комнату…
…Вокруг адмирала приплясывали пьяные матросы: “Мы перед тобой тянулись. Теперь ты перед нами постой!” Я держал под руку вдову лейтенанта Ефимова, командира “Куницы”, на которой проходил практику. Они покосились на горжетку Лилии Николаевны, на мои якорьки на гардемаринских, по счастью, черных погонах, и пропустили нас под своды морга…
…Пальцы мои что-то расстегивали и что-то развязывали на безжизненном теле Надин, ни в чем не встречая преграды. Меня охватывал сладостный ужас от их дерзостной, преступной свободы. О, если бы ты хоть раз остановила мои руки, я ничего бы не посмел. Но ты не остановила их даже тогда, когда они вторглись и в вовсе запретные пределы… Они двигались, как обезумевшие матросы…
…Прости меня! В тот день я был влюблен в Лилию Николаевну. Но только в тот день – страшный скорбный день. Она была неотразимо хороша в своем трауре, в своем горе. Знаю, что признаваться в этом кощунственно, но в любой миг того дня я мог разделить судьбу ее мужа. Я исподволь любовался ею, обожал ее, потому что не знал еще толком тебя, потому что та внезапная любовь придавала мне храбрость вести ее сквозь толпы опьяненных кровью матросов, вести под своды подвала смерти, где на столах и в проходах были свалены пробитые штыками и пулями тела корабельных офицеров с неприкрытыми лицами. Она бесстрашно шла по этому аду, и я, сжимая ее локоть, сгорал от немыслимой страсти, как сейчас, Надин, как сейчас… Эрос и Танатос! Любовь и Смерть… Они, как сестры…»
25 октября 1917 года, 5 часов утра
Долги осенние ночи в Петрограде. Еще и намека на рассвет не было. Шквальный ветер расклеивал желтые листья по мокрой брусчатке Конногвардейского бульвара. Грессер шагал, прикрывая лицо отворотами дождевика. Он сворачивал в безлюдные переулки и, если впереди маячили какие-либо фигуры, пережидал встречных в подворотнях, грея в ладони тяжелую сталь нагана.
«День славы настает…» – настырно звенела застрявшая в мозгу строчка.
У Поцелуева моста он наткнулся на извозчика-полуночника, чудом занесенного в такую ночь на Мойку.
– Эй, борода! – окликнул его Грессер. – В Графский переулок свезешь – не обижу!
– Можна и в Графский, – протянул нахохлившийся возница в рваной брезентухе. Но, разглядев под капюшоном пассажира офицерскую фуражку, трусливо запричитал: – Слезай, ваше благородие, не повезу! Жизнь нонче дырявая. И тебя под пулю подставлю, и сам пропаду. Пешочком оно надежнее…
Хлестнул лошадь и покатил прочь от опасного седока.
Но и идти пешком оказалось вовсе не так безопасно, как предсказывал извозчик. Едва Грессер перешел мост через Мойку, как на той стороне его строго окликнули:
– Эй, дядя, ходь сюды!
Три солдата в папахах-ополченках с винтовками за плечами поджидали на углу раннего пешехода.
Кавторанг взвел в кармане курок и, с трудом переставляя ноги, двинулся к ночному патрулю. Глаза перебегали с солдат на парапет моста, с моста на угол переулка, привычно оценивая расстояние и время, отпущенное ему на все – на поиски спасения, на мгновенное решение, на прыжок, на бег…
К счастью, они просто стояли, дымя цигарками, а не шли ему навстречу. До них было шагов полета… Грессер не спеша перешел на их сторону и двинулся по тротуару. Он уже присмотрел арку, ведущую во двор, и знал, что будет делать в следующий миг.
– Ходи веселей! – поторопил ефрейтор-бородач, опиравшийся на винтовку.
Поравнявшись с аркой, Грессер метнулся в тоннельный проход. И, прежде чем солдаты спохватились, скинули с плеч винтовки, бросились вдогон, он успел проскочить под арку и рвануть за угол трехэтажного флигеля, особняком стоявшего посреди двора. Грессер с гимназических лет знал эти места, и, конечно же, солдатам-чужакам неведомо было, что за флигелем напрострел уходила анфилада из четырех дворов, чьи каменные коробки разгорожены жилыми перемычками, и что все входные двери правой стороны выводят не только на «черные лестницы», но и в подъезды соседней улицы.
Три винтовочных выстрела, грохнувших скорее для острастки, чем для дела, пошли гулять по гулким закоулкам двора-лабиринта, пугая и без того встревоженных жильцов.
Отдышавшись под лестницей и став втрое осторожней, кавторанг вышел на Малую Гренадерскую и через четверть часа, уже без приключений, добрался в Графский переулок.
25 октября 1917 года, 6 часов утра
Братва поднялась рано, и высокосводные старинные коридоры флотского экипажа доверху наполнились перекриком, смехом, бранью… Землянухин обдал лицо и шею ледяной, но мертвой, прогнанной через трубы с насосами, водой и отковылял на береговой камбуз раньше всех, так как его и еще четырех караульных уже поджидал в Обводном канале паровой катер.
По случаю революции были сварены макароны, как после погрузки угля, но не в ужин, а вопреки всем обычаям – в завтрак. День начинался необычно. День начинался просто замечательно. И, запивая макароны крепким чаем, Землянухин забыл на время и про виденного во сне аспида, и про ноющую ногу, и про постылый на весь день бессменный лодочный караул.
Баталер выдал обещанные Митрохиным две большие сельди, буханку ржаного хлеба, от щедрот и в честь великого дня насыпал еще полный кисет махры. Не забыл и про сало – выдал шматочек, весь в хлебных и табачных крошках. Никодим уложил харч в брезентовую кису[6], затянул поплотнее бушлат, нахлобучил на уши бескозырку, чтобы не сдуло, вскинул на ремень винтовку и отправился на катер.
Катер вошел в Неву, оставил по корме «Аврору» и взял курс на Васильевский остров, где в тесную кучу сбивались краны и трубы Балтийского судостроительного завода. Ветер серчал, и Землянухин зажал в зубах концы ленты с золоченой надписью «Ершъ».
Подводный заградитель стоял у достроечного причала, выставив тупую, косо срезанную корму с крышками минных коридоров. Матросы помогли Землянухину перебраться с катера на корпус, передали кису с провизией, и паровик ходко пошел дальше.
Часового нигде не было, но как только землянухинские сапоги загремели по палубе, люк в рубке приоткрылся и на мостик выбрался молодой.
– Ну что, дрых небось, шельмец?! – вместо приветствия и пароля спросил Землянухин.
– Никак нет, Никодим Иваныч, службу правил! – белозубо оскалился матрос. – Смотрел, как положено – не тикет ли в трюмах.
– Тикет, да не в трюмах… Небо вон все прохудилось, – ворчал Землянухин, кутаясь в постовой дождевик. – А брезент-то сухой! Эт что – весь караул продрых?! Ах ты, зелень подкильная, дери тебя в клюз! Так-то ты службу несешь?!
– Все, дядя, была служба, да вся вышла! Революцию исделаем, войне акулий узел на глотку, и глуши обороты. – Обнаглел вдруг молодой.
– Давай вали отсюда, племянничек! С такими сделаешь революцию…
Но молодой его не слышал – во весь дух по лужам мчался к заводским воротам. Землянухин привалился к носовому орудию и с наслаждением закурил, гоня из ноздрей сырость терпким дымком. Ветер встрепливал на реке белые барашки, чуть видные в предрассветной темени.
Грессер уверенно поднимался по темной лестнице. На третьем этаже повернул барашек механического звонка у двери с медной табличкой: «Старший лейтенантъ С.Н. Акинфьевъ».
Лязгнул крюк. Акинфьев открыл и изумленно воззрился:
– Ники, ты! В такую рань?! Проходи. Извини – в дезабилье.
Белая бязевая рубаха широко открывала могучую густоволосую грудь, крепкие скулы были окантованы всклоченной со сна бородкой, отчего командир «Ерша» походил на разудалого билибинского коробейника.
– День славы настает, – загадочно, как пароль, сообщил Николай Михайлович, досадуя, однако, что привязавшаяся с утра фраза сорвалась-таки с языка. Акинфьев. впрочем, принял ее как невеселую шутку.
– Не знаю, как насчет славы, но день гибели русского флота наступил всенепременно.
Пока Грессер стягивал дождевик, шинель, стряхивал дождинки с фуражки и перекладывал наган в карман брюк, Акинфьев хлопотал у буфета, позвякивая то бутылками, то стаканами.
– А я, брат, теперь горькую пью, – объявил он так, как сообщают о неожиданной и безнадежной болезни. – Потому стал фертоинг на рейде Фонтанки, втянулся в гавань и разоружил свой флотский мундир. Честь имею представиться – старший лейтенант Акинфьев, флаг-офицер у адмирала Крузенштерна[7]. На службу не хожу-с. Морячки вынесли мне вотум недоверия… Ба! Да ты при полном параде!
На плечах Грессера тускло золотились погоны с тремя серебряными кавторанговскими звездочками.
– Рискуешь, однако…
– Последний парад наступает.
– Перестань говорить загадками.
– Изволь.
– Только выпьем сначала. Иначе ни черта не пойму…
Грессер пригубил водку с одной лишь целью – чтобы согреться. Акинфьев ополовинил стакан и закусил престранно – занюхав спиртное щепотью мятной махорки.
– Сережа, «Аврора» вошла в Неву и взяла на прицел Шпиц и Зимний.
– И поделом.
– Голубчик, ты пей, да разумей. Во всем Питере нет сейчас войсковой части, равной по огневой мощи крейсеру. Ты представляешь, каких дров могут наломать братишки, взбаламученные комиссарами?
Акинфьев слегка задумался, приподняв бровь краем стакана.
– Четырнадцать шестидюймовок. Почти артполк. Это солидно.
– Сережа, ты всегда был прекрасным шахматистом… «Аврора» – ферзь, объявивший шах нашему и без того низложенному королю. Эту красную фигуру надобно убрать с доски. Убрать сегодня, нынче же!
– Как ты себе это мыслишь? – Акинфьев долил стаканы.
– Не пей пока, ради бога. Выслушай на ясную голову… Самый опасный противник ферзя – «слон», то бишь «офицер». Белый или черный, в зависимости от поля, на котором стоит «королева»…
– Перестань читать прописи! – рассердился Акинфьев. – Что ты задумал?
– «Ерш» получил торпеды?
– Да. Зарядили только носовые аппараты. В кормовой не стали…
– И прекрасно! И превосходно!
Грессер отставил стакан и заходил по комнате.
– Сережа, надо вывести «Ерш» и ударить по «Авроре» из носовых! И это должны сделать мы с тобой плюс твой инженер-механик. Кстати, кто у тебя мех?
Акинфьев плюхнулся в кресло-качалку и откинулся так, что на секунду исчез из глаз собеседника.
– Ники, пил я, а вздор несешь ты…
– Не волнуйся, Сереженька, не волнуйся… Выслушай. Я все продумал, все рассчитано по шагам и минутам. «Ерш» от «Авроры» разделяет меньше мили. Десять минут хода. Стрельба по неподвижной цели залповая. В залпе две торпеды. Дистанция кинжального удара – промаха не будет! «Аврора» ляжет поперек Невы, и вся шваль разбежится. Мы выиграем время. Потом придут верные войска, надежные корабли, и никаких революций. Кризис уляжется. Ты перестанешь сидеть на экваторе и снова вернешься на корабль, где раз и навсегда забудут про судкомы и про совдепы. Флот снова станет флотом, а не Центробалтом. И это сделаем мы: ты и я.
Акинфьев угрюмо молчал, раскачивался в кресле. Соображал… Грессер перешел на заговорщицкий тон:
– В принципе все не так сложно. Команда сейчас носится по Питеру и делает революцию. И черт с ней, матросней! Мы справимся втроем. Механик запустит движки. Ты станешь на мостике, я – к торпедным аппаратам. Стреляю по твоей команде. Потом погружаемся и реверс – полный назад. Впрочем, там широко, и можно развернуться: два мотора враздрай… Можно и не погружаться. Уйдем в надводном положении. При такой готовности, как у них, они даже не успеют открыть огонь из кормовых плутонгов.
Акинфьев, трезвея, бледнел. Он медленно вылез из качалки.
– Капитан второго ранга Грессер… В Морском корпусе меня не учили стрелять по своим кораблям.
У Грессера яростно задергалась щека, и он безнадежно пытался унять ее, прижав ладонью.
– Старший лейтенант Акинфьев! Меня тоже не учили стрелять по русским кораблям, и до сих пор я не мазал по немецким. Но зато кто-то научил русских матросов прекрасно стрелять по русским офицерам. В Кронштадте растерзали трех наших товарищей по выпуску. Я назову их: Садофьев, Агафонов, Извицкий. Они погибла ни за что! Только потому, что носили на плечах погоны, которые вы, Акинфьев, поспешили снять.
– Что-о? – взревел Акинфьев и из билибинского коробейника превратился в разбойного атамана. – Вон из моего дома! И чтоб духу твоего здесь не было!
Грессер вынул наган.
– Видит бог, – прошептал он трясущимися губами, – я не хотел этого… Я не хотел…
Почти не целясь – в упор – он выстрелил в бязевую рубаху, четырежды нажав «собачку». Тут же повернулся и вышел в прихожую, услышав только, как за спиной тяжело рухнул бывший однокашник и жалобно зазвенело столовое стекло да сама собой закачалась облегченная качалка…
«Я вернулся на “Аврору” точно в срок – к ужину. Все были в сборе и уже рассаживались по своим местам. Коленька Красильников толкнул меня локтем в бок.
– Ты что сияешь, как барышня с мороза? Выпил?
– Самую малость, – поддержал я его заблуждение. – Перед ужином очень полезно для пищеварения.
Мне хотелось, чтобы меня побыстрее оставили одного и никто ни о чем не расспрашивал. На моих губах и в моих ладонях еще жила, билась Надин.
Едва был подан компот, лейтенант Эриксон поправил манжеты и объявил негромким глуховатым, совсем некомандирским голосом:
– Господа офицеры, я прошу всех ночевать сегодня на корабле. В городе неспокойно. Могут быть всякие неожиданности, а мы все отвечаем за крейсер. Тем более что последние события в Рижском заливе обязывают нас быть в предельно боеготовом состоянии.
К этому спичу все отнеслись с большим пониманием, без нарочитых, как обычно, нареканий на суровую корабельную жизнь. Да и то сказать: отирание заводской стенки отнюдь не шло ни в какое сравнение с тяготами походных будней. Упоминание об особой обстановке вокруг крейсера и призыв к боевой готовности грели кровь.
Эриксон закрыл за собой дверь командирской каюты. Младший механик лейтенант Буянов отправился в машину – готовить ее к ходовым испытаниям. Член судового комитета мичман Соколов ушел на очередное заседание. А мы все остались в салоне, который заменял нам кают-компанию, закрытую на ремонт. Одни читали, другие – мой сосед по каюте мичман Красильников и мичман Бук – играли в “трик-трак”. Уют большой и доброй семьи, огражденной от всех невзгод мира толстой клепаной сталью, воцарился в салоне “Авроры”. Я присел в кресло у полупортика правого борта со свежим номером “Морского сборника”, но сквозь страницы я видел рассыпанные по подушке волосы Надин и заново переживал восторг своего нечаянного счастья…
В десятом часу вечера через салон в каюту командира прошел невысокий матрос, никого не спросясь и не сняв бескозырку. Одет был, впрочем, по форме.
– Кто это? – спросил я Красильникова.
– Предсудкома Белышев. Из машинной команды.
От этого явления повеяло мартовским Гельсингфорсом, и в душу закралась знобкая тревога.
Матрос пробыл в каюте командира довольно долго, вышли они вместе, вид у обоих был несколько обескураженный, у Эриксона – так даже растерянный. Свой разговор они продолжали на ходу.
– Если вы отказываетесь вести “Аврору”, – смущенно спрашивал Белышев, – может, кто из офицеров рискнет?
Эриксон, кажется, взял себя в руки и ответил твердо:
– Никто из офицеров этого сделать не сможет.
Еще не зная, куда и зачем надо вести “Аврору”, я мысленно с ним согласился. Большинству наших офицеров едва перевалило за двадцать. Эриксон, если не считать инженер-механика кавторанга Малышевича, самый старший из нас: ему только что стукнуло двадцать семь. Его выборное командирство началось у стенки завода, и он сам никогда никуда крейсер не водил. Ведь это же не шутка – ворочать огромный корабль, к тому же не в море, а в реке, посреди города. Да и потом, что за нужда? Тут меня осенило: немецкая эскадра прорвалась в Финский залив и теперь на всех парах мчит к Петрограду. Час-другой – и ее залпы накроют Адмиралтейство, Зимний, Исаакий, дом, где живет Надин. Не зря вещало женское сердце! И дурной пасьянс… Вот оно, возмездие от судьбы за нынешнее счастье! Ведь не дается же оно в руки так просто, без искупления, без потери. А что равноценное могу я потерять? Только жизнь.
Я припал к холодному толстому стеклу полупортика. Рядом с крейсером стоял замызганный буксир. На его корме лежали дрова, на огромных поленьях сидели кочегары, смолили цигарки. Они оживленно спорили и тыкали пальцами в противоположный берег Невы. Что там такое? Буксир загораживал вид из полупортика. К тому же стояла кромешная тьма, только отблески света, падавшего из наших иллюминаторов, дробились на черном лаке реки, вид которой рождал тоскливую мысль о том, как мерзко захлебываться в этой густой стылой воде. Нет-нет, это совершеннейший абсурд: немцы не могли так быстро и так неожиданно прорваться. Кронштадт, форты, береговые батареи… Мы бы слышали их залпы. Здесь что-то другое. Что?
В салон снова вошел Белышев, и не один – с двумя матросами при винтовках. На немой вопрос старшего офицера он сказал:
– Я вынужден поставить часовых для вашей же пользы. Не ручаюсь за команду, если она узнает, что командир отказался вести крейсер. – Он обернулся к часовым и громко приказал: – Никого в салон не пускать! Вы за них отвечаете.
Белышев вышел, и в салоне повисло тягостное молчание.
“Вон оно что… Вот так же начиналось и на «Павле», – мелькнула смятенная мысль. – Быть может, на клотике «Авроры» уже горит красный огонь – сигнал к расправе?”
Я сам видел, как в ту жуткую мартовскую ночь – с 3-го на 4-е – на всех кораблях, вмерзших в Гельсингфорсский рейд, вдруг стали загораться красные огни, будто одна мачта поджигала другую. Сначала линкор “Император Павел I”, затем “Андрей Первозванный”, “Слава”, “Громобой”, “Диана”… Мы на “Кунице” так и не поняли зловещего смысла этих огней, даже когда с “Императора Павла” понеслась в ночь беспорядочная винтовочная пальба. Под утро на судно прибежал по льду без фуражки младший минный офицер “Павла” лейтенант Гроздовский. Ошпаренной рукой он зажимал рану на шее, весь правый погон был залит кровью, разодранный на спине китель напоминал фалды фрака. Я проводил его к командиру. Доктора на судне не было, и офицеры “Куницы” принесли в кают-компанию все лекарства, у кого что было. Ожоги и рану промыли спиртом, забинтовали, нашелся лишний китель. У Гроздовского дергался рот, когда он рассказывал, как матросы подняли на штыки штурмана Ланге, как убивали кувалдой лейтенанта Совинского, как выкуривали офицеров, закрывшихся в каютах, горячим паром, просовывая шланги в разбитые иллюминаторы…
Я не мог понять этого кровавого разгула, вызванного только тем, что бразды дисциплины с отречением государя вдруг резко пали, и от этого опьянения вседозволенностью вспыхнуло массовое безумие, прокатившееся по кораблям волной насилия, убийств, порой совершенно ничем не оправданных…
Наверное, до конца жизни меня не покинет тот позорный животный утробный страх. Он не оставлял меня и на “Авроре”, хотя команда крейсера была весьма миролюбива; это тоскливое снедающее душу чувство то затихало, уходя вглубь, то вспыхивало при малейшем намеке на обострение событий, какой-либо пустяковой стычке или даже косом взгляде, брошенном кем-нибудь из строя или в кубрике.
Я тайно носил револьвер, рассчитывая дорого продать свою жизнь, если и на “Авроре” повторится то, что случилось на “Павле”. Когда спускаешься в палубы, так и ждешь от каждого встречного – оскорбит, ударит, пырнет, выстрелит. Вся команда кажется переодетыми пиратами. Любой матрос – зловеще загадочен.
О боже, как это унизительно, невыносимо – бояться собственных матросов! Ведь с ними идти в бой на общую смерть, и бояться их больше, чем немцев?!
О, Надин, я никогда не признаюсь тебе в этих постыдных страхах…
Едва матросы с винтовками встали у дверей салона, я вспомнил, что мой револьвер остался в ящике каютного секретера. Горько попеняв себе за беспечность, я тут же задался вопросом, весьма небезразличным для моей чести: а посмею ли я пойти и принести сюда револьвер? Во всяком случае, сразу же выяснится, действительно ли я такой трус, каким кажусь себе, или не все еще так безнадежно? Заодно откроется и что означают эти часовые – охрану или арест?
Я медленно встал из кресла и, стараясь быть как можно непринужденнее, подошел к дверям, при этом от меня не укрылось, что взгляды всего салона устремились в мою сторону. Часовой опирался на винтовку и безразлично смотрел поверх офицерских голов. Я сказал ему, что иду в каюту за книгой. Как ни старался я владеть голосом, все же фраза прозвучала заискивающе. Матрос не удостоил меня ответом. Вспыхнув от унижения, я двинулся дальше. Второй часовой стоял в коридоре. Он подтягивал ремень винтовки. Увидев меня, он вытянулся и молча пропустил.
Я зашел в каюту, засунул под брючный пояс револьвер, глянул в зеркало – не оттопыривается ли китель, затем снял с полки томик Джека Лондона и вернулся в салон.
Красильников ворчал, что он не понимает, что происходит:
– Кто командует крейсером – Эриксон или Белышев? Может быть, нам всем отправиться в кочегарку, а кочегары станут на мостик?!
– Дорогой мой, на этом шипе мы без году неделя. И нас-то в любом случае на мостик не позовут…
Я сунул ему “Мартина Идена”.
– Читай и укрепляй дух свой.
Красильников улыбнулся. Мне удалось довольно точно скопировать отца Паисия.
Пришел инженер-механик Буянов и бесстрастно объявил, что машины готовы к работе и их скоро начнут проворачивать.
На Эриксона жалко было смотреть. Он то уходил в свою каюту, то возвращался в салон. Мрачно что-то бормотал, разводил руками, будто спорил сам с собой. Он походил на человека, которому сообщили вдруг убийственную весть, или на игрока, решающегося на последнюю ставку, после которой – пуля в лоб.
Право, его можно было понять. Приказ о походе он получил не от командира бригады крейсеров и не от Штаба флота, даже не от Цептробалта, который мог отдавать боевые распоряжения, опять же только через Штаб флота. Группа каких-то заговорщиков, фактически находящихся вне закона, повелевает крейсером так, будто он давно уже перешел на их сторону, будто уже не существует ни Штаба, ни Центробалта, ни Правительства. Подчинись он сейчас, завтра, быть может, ему отвечать головой по законам военного времени за самовольный поход, за государственную измену.
Он был добрым малым, наш милый Эрик, исправным службистом, аккуратным штурманом – не более того. Ему никогда еще не приходилось решать столь ужасных дилемм. Он сгорбился так, что руки повисли вровень с коленами.
Я нечаянно поймал его взгляд и вдруг понял: он смертельно не хочет быть сейчас командиром, что он с радостью переложит это тяжкое бремя на любого, кто вызвался бы сам. Сам!
Я ощутил за поясом грозную сталь оружия, и голос Провидения шепнул мне: “Вот твой час! Вот твой шанс!..”
В следующую секунду я знал все, что мне предстоит сделать. Надо достать револьвер и выйти к командирскому краю общего стола. Надо громко и четко сказать, обращаясь к Эриксону и ко всему салону: “Господин лейтенант, я объявляю вас низложенным! Господа офицеры, с этой минуты я беру на себя всю полноту власти и всю меру ответственности. Прошу выполнять все мои приказания, а мичману Красильникову исполнять обязанности старшего офицера. Мы немедленно уходим в Гельсингфорс. Господа офицеры, прошу разойтись по боевым постам!”
Я расстегнул нижнюю пуговицу кителя и нащупал рукоять револьвера.
О, Надин, я вернусь к тебе не зауряд-мичманом, а командиром крейсера!»
25 октября 1917 года, 7 часов 30 минут утра
Из Графского переулка Николай Михайлович направился в Адмиралтейство. В другое время он вышел бы на Невский или на Гороховую и через полчаса неспешного хода был бы у цели. Но в это ненастное утро ему понадобилось больше часа, чтобы, пережидая патрули и огибая опасные места – у Телефонной станции бабахала перестрелка, – добраться до павильона, над которым сверкал золоченый кортик Шпица.
В Морском министерстве, как ни в чем не бывало, творилась обычная рутинная работа. Еще звенели телефоны, еще сновали офицеры с папками для бумаг, накладывались резолюции, бессильные что-либо изменить, ставились печати, уже утратившие свою юридическую силу, отдавались распоряжения, которые уже никем никогда не выполнятся…
Николай Михайлович разделся в своем кабинете и, ловя недоуменные взгляды на свои погоны, решительно направился в приемную морского министра. На большом столе адъютанта в беспорядке валялись снятые телефонные трубки, отчего зеленое сукно столешницы походило на поле брани, усеянное костями.
– Дмитрий Николаевич у себя? – осведомился Грессер у взмыленного помощника.
– Отбыл в Зимний. Когда будет – неизвестно.
Грессер досадливо покусал губы и направился к выходу. В коридоре он едва не выбил из рук лейтенанта Дитриха стопку свежеотпечатанных книжиц.
– Возьми себе одну в отдел, – милостиво разрешил автор. – Наконец-то мы дали флоту современный порядок старшинства… Можешь найти себя.
Грессер перелистал объемистый список, устанавливавший старшинство офицеров в чинах, и с трудом удержался, чтобы не трахнуть сияющего Дитриха по голове новеньким гроссбухом. Идиоты, «Аврора» держит Шпиц на прицеле, а они выясняют старшинство в чинах – кто за кем! Но тут его осенило:
– У вас в ГУЛИСО есть факсимильные бланки?
– Есть, – ответил на бегу Дитрих.
– Ну и прекрасно. Заверишь мне выписку из приказа. Вердеревский назначил меня командиром «Ерша».
– По морям соскучился?
– Да. Там воздух свежее.
Грессер сам отстучал на «ундервуде» выписку из несуществующего приказа, и лейтенант Дитрих благополучно заверил ее гербовой печатью ГУЛИСО. Теперь можно было действовать.
Телефонная станция, на удивление, еще работала, только вместо нежного голоска дежурной барышни в трубке пророкотал чей-то густой бас. Тем не менее с Морским корпусом его соединили. Николай Михайлович попросил инспектора классов немедленно отправить кадета старшей роты Вадима Грессера в отдел подплава Главного штаба.
– Пусть он выйдет на набережную. За ним подойдет катер.
И, оставив инспектора в полном недоумении, пошел хлопотать насчет катера. Разумеется, путь по Неве был куда безопаснее, чем по мостам и улицам, перекрытым черт знает кем. Грессер проследил из окон Адмиралтейства, как моторная лодка с сыном вынырнула из-под Николаевского моста и благополучно – вздох великого облегчения – приткнулась к служебной пристани.
Вадим, рослый, светловолосый – в мать, четко вошел в кабинет, вскинув руку к бескозырке. Николай Михайлович меньше всего хотел услышать от него казенные слова и поспешил обнять сына так, что у того хрустнули крепкие плечи.
– Хочешь сюрприз? – с наигранной бодростью спросил Николай Михайлович. – Я беру тебя юнгой к себе на лодку. Можешь меня поздравить – назначен командиром «Ерша».
– Поздравляю тебя, папа! А ты не шутишь насчет юнги?! – радостно и недоверчиво вопросил Вадим.
– Нисколько. Сейчас мы отправимся на Балтийский завод – «Ерш» стоит там, – и ты сам во всем убедишься. Быть может, даже сегодня нам предстоит боевое дело. Но об этом молчок.
– Папа, за кого ты меня принимаешь?! – засиял глазами юный Грессер.
– С твоим начальством я обо всем договорился. А пока переверни ленту литерами внутрь. Так надо. Для маскировки. И никаких лишних вопросов, мой мальчик. Виноват – юнга Грессер!
Николай Михайлович не собирался посвящать сына в детали операции. Он не мог поручиться, что в душе юноши при известии о предстоящей атаке «Авроры» не взыграют патриотические чувства. Потом, когда у них будет больше времени, а главное, когда дело будет сделано, он объяснит ему историческую необходимость их общего подвига – подвига, черт побери! – подбадривал себя Грессер, вспомнив бледнеющее лицо билибинского коробейника.
Ну что ж, если акинфьевы пасуют, то спасать флот и Россию придется грессерам. История повторяется: варяги снова приходят на Русь, а в жилах его рода текла древняя варяжская кровь…
– Подожди меня здесь, я через часок вернусь.
Пока Вадим перешивал за его столом ленту на бескозырке (блистать на питерских улицах литерами Морского корпуса было отнюдь не безопасно), Грессер облачился в шинель, натянул дождевик с капюшоном и сбежал по боковой лестнице к выходу на набережную.
25 октября 1917 года, 10 часов утра
Светало. Сквозь осеннюю хмарь тускло просвечивал плоский кружок солнца. Дождь еще моросил, и Землянухин подвязал над распахнутым люком брезент, а сам залез от режущего ветра в рубку так, что из горловины входного люка голова его торчала, как из стального окопа. Зато все было видно вокруг и не дуло. Винтовка стояла рядом под рукой. Конечно, можно было бы задраить люк и наверстать упущенное за полубессонную ночь, но Землянухин нутром чуял – в такой день спать нельзя. Неспроста аспид приснился. Да и нога разнылась так, что хоть выставляй на студеный ветер: пусть застынет, проклятая. А тут еще глаз, зашибленный биноклем, заслезился, засвербел. Капитана второго ранга Грессера помянуть заставил. Ишь ведь как саданул биноклем – бровь и надглазье рассек до кости. Вахту Землянухин достоял тогда, кровью умываясь. Внизу корешам сказал, что волной об перископ приложило. Стыдно было, что подвернулся командиру под горячую руку. Ребята в дизельный отсек его отправили. Там мотористы врачевали: тряпицу с отработанным машинным маслом под глаз приложили. У «маслопупов» чумных, известное дело, отработанное масло – первое лекарство. И внутрь его принимают (от язвы), и ссадины им мажут. На них, насквозь промасленных, и впрямь, как на собаках, все заживает. А тут от такой примочки разнесло Землянухину весь глаз, окривел малость, думал – и вовсе ослепнет. Старший офицер кличку ему придумал – Циклоп. «Тебе, Землянухин, теперь только в перископ смотреть – второй глаз жмурить не надо. Прямо как Циклоп».
Одно хорошо – на вахты ставить перестали. Отоспался хоть за поход. Спасибо экипажному подлекарю – спас глаз. Только на всю жизнь красным он сделался, как у кролика. Велел подлекарь промывать глаз почаще крепким чаем или порошком белым – борной кислотой. Настоящий-то чай в команде давно перевелся, а вот порошок должен быть в аптечке, что в кают-компании висит.
Землянухин оглядел пирс и палубу – всюду пусто и безлюдно, задраил рубочный люк, спустился в центральный пост, где под иконкой Николы Морского тлела вместо лампадки алая пальчиковая лампочка. Он хотел было перелезть в носовой отсек, как вдруг заметил в красноватом полумраке портрет Керенского, присоседившийся подле иконы. Весной, когда «Ерша» под гром оркестра спускали со стапелей, премьер толкнул речь с рубки подводной лодки. Потом подарил команде свой портрет и расписался в историческом журнале корабля. Теперь команда пошла его свергать, а портрет все еще висел в центральном посту. Непорядок! Матрос снял рамку, выбрал фото длиннолицего человека во френче и с бобриком. Рамку засунул за трубу вентиляционной магистрали – сгодится еще на что-либо путное, а скомканное фото выбросил из люка в воду. Восстановив справедливость, Землянухин почувствовал себя лучше. На душе полегчало, и глаз ныть перестал. Он не сомневался, что Митрохин с «ершовцами» обойдутся с Керенским точно так же. Попался бы он им в руки!
Вадиму в своих планах Грессер отводил простую, но очень важную роль. По его команде с мостика сын рванет рычаги стрельбовых баллонов. Торпедные аппараты к выстрелу приготовит он сам, минер первого разряда. Дело стояло лишь за механиком, который смог бы запустить дизели. За ним, третьим членом их отчаянной команды, и направлялся кавторанг. Он не сомневался, что инженер-механик с «Тигрицы» лейтенант Павлов, трудяга и колдун над моторами, после трех лет общего смертельного риска пойдет за ним в огонь, воду и медные лодочные трубы. Тихий, скромный, покладистый офицер. Разумеется, его тоже не следовало посвящать к план до конца. Главное, чтобы Павлов сейчас оказался дома, у себя на Петровском острове. Грессер бывал у механика на крестинах дочери и хорошо знал, как отыскать его дом в задних дворах Петровского проспекта.
Он спрыгнул в рассыльную моторную лодку. За руку поздоровался с ее бессменным водителем – старым портартурцем отставным кондуктором Чумышем.
– «Како», «Живете», «Люди»? – назвал набор сигнальных флагов Грессер, заранее зная, что старый крейсерский сигнальщик ответит неизменным – «НХТ». Для морского уха сочетание этих букв звучит весьма жизнеутверждающе.
– А сынок-то ваш – орел, – польстил Чумыш отцовскому сердцу, правя под средний пролет Дворцового моста. – Добрый моряк будет.
– Хочу к себе на лодку юнгой взять. Что скажешь, Зосимыч?
– Дело стоющее, – одобрительно кивнул старик. – Под отцовским доглядом оно надежнее…
На этом оба замолчали, настороженно вглядываясь в мосты и гранитные берега, где то тут, то там мельтешил вооруженный люд. Могли и из озорства пальнуть…
За Тучковым мостом Чумыш сбавил обороты и плавно приткнулся в бухточку острова, откуда начинался Петровский проспект.
– Если через час не вернусь, возвращайся на стоянку, – предупредил Грессер и скорым шагом двинулся к дому механика. Но у первого же перекрестка из-под земли выросли трое – бородачи с погонами пулеметного полка и молодой мастеровой, опоясанный солдатским ремнем с навешанными бомбами.
– Далече путь держим, господин хороший? – поинтересовался бомбист с вежливостью, не предвещающей ничего хорошего. Бежать было поздно, да и благоразумие подсказывало, что лучше оставаться на месте.
– Иду к старому другу. Он здесь живет тремя домами дальше.
Один из солдат зашел за спину и обхлопал Грессера по бокам.
– Локотки-то, барин, разведи, а то несподручно… От она игрушка кака! – зацокал языком солдат, извлекая из кармана грессеровского дождевика офицерский наган.
– Это что ж, другу в подарок?! – покачал на ладони наган мастеровой.
– Да чего тут лататы разводить? – прогудел второй пулеметчик. – С ходу видно – контра. К стенке его – и весь разговор.
И снова, как у окна утром, грудь кавторанга ощутила металлический холодок нательного креста. «Все. На этот раз не отвертеться, – с леденящей безнадежностью осознал он, – и так весь день немыслимо везло. Боже, Вадим будет ждать…»
– Шагай! – подтолкнул его солдат к кирпичному брандмауэру. Грессер с ужасом обвел глазами пустырь: неужели здесь, в этом унылом захолустье, оборвется его жизнь?
– Погодь, Аким, – остановил пулеметчика мастеровой. – Тут птица не простая. Надо кой-кому его показать.
Грессера отвели в полуподвальчик бывшего трактира, где, сидя на столах и не выпуская из рук винтовок, отчаянно дымили махрой солдаты, фабричные, несколько студентов – то ли пережидали непогоду, то ли ожидали команды. Среди разношинельного люда мелькали и флотские бушлаты. К одному из них подвели кавторанга. Широколобый с волчьим раскосом боцманмат хмуро глянул:
– Кто такой и куда направлялся? Почему с оружием?
«Ершъ» – ударили в глаза Грессеру литеры с заломленной бескозырки, и сердце запрыгало – вот оно, спасение! Он еще не знал, каким образом оно произойдет, но инстинкт безошибочно определил: буду жить! И от этой ликующей мысли Грессер улыбнулся, и улыбка вышла весьма натуральной. Он протянул боцманмату руку и радостно, будто старому знакомому, выдохнул.
– Здравствуйте, товарищ!
Этот жест, как и улыбка, был столь непритворен, что хмурый боцманмат невольно пожал ладонь.
– Ваш новый командир, – представился пленник. – Капитан второго ранга Грессер. Назначен на «Ерш» морским министром и Центробалтом. Вот выписка из приказа.
Моряк недоверчиво пробежал строчки, изучил печать, потом вернул бумагу и нехотя назвался:
– Представитель судового комитета Митрохин. Он же командир отряда красной гвардии… Ежели вы на «Ерш» назначены, так почему вы здесь, а не на лодке?
– Иду за механиком, – охотно пояснил Грессер. – Он здесь живет. Хочу принять корабль как полагается. Тем более что он не совсем еще готов.
– Хорошо, – согласился Митрохин. – Вас проводят.
Он отошел к мастеровому с бомбами, и капторанг краем уха уловил обрывок фразы: «…если врет – в расход».
Провожали его пулеметчик Аким и рабочий парень. Грессер уверенно привел их в пятый этаж серого доходного дома. Дверь открыла худосочная бледная шатенка – жена Павлова.
– Инженер-механик лейтенант Павлов здесь живет? – официально спросил кавторанг – нарочно для своих провожатых.
Женщина секунду вглядывалась, потом с облегчением улыбнулась.
– Николай Михайлович! А я вас не узнала… Какая досада, Саша уехал к сестре на Лиговку… Могу дать вам его адрес.
Грессер записал и попросил конвоиров отвести его к Митрохину.
– Дайте мне провожатого на Лиговский проспект, – попросил он у боцманмата. – Иначе меня снова задержат.
Широколобый усмехнулся:
– Шибко кореша мои понравились? Отпустить не могу. Не имею права отряд распылять… Так что добирайтесь сами. А уж лучше, мой совет, в такой день дома посидеть. На службу счас не к спеху… Подождет служба.
– Спасибо за совет. Но корабль я должен принять сегодня. И прошу вернуть мне мое оружие, – сыграл Грессер ва-банк. Митрохин усмехнулся:
– Ну, уж нет. Так идите. Вам же лучше будет. На пикет напоретесь – и бумажка не поможет. А наганчик я вам на лодке возверну.
Отобранное оружие кавторанг тоже записал на счет поруганной офицерской чести. Ну что ж, сегодня он расплатится за все сполна. «День славы настает…»
«Едва я покинул свое кресло, как дверь в салон распахнулась и Белышев с мичманом Соколовым быстро прошли в каюту командира.
Я опоздал! Промедлил всего лишь несколько мгновений… Не знаю, чего они мне стоили – судьбы или жизни… Захотелось вдруг горько разрыдаться в плечо Надин, как это сделала она, там, на подоконнике… Я рухнул в кресло, и Красильников, мой несостоявшийся старший офицер, положил мне на колени Джека Лондона, отметив ногтем какую-то строчку.
Белышев с Соколовым вышли из каюты командира, и все как один впились в их лица взглядами: что?!
Мне показалось, что комиссар повеселел. Он подошел к часовому, шепнул ему что-то, усмехнулся, и оба удалились из салона. Через минуту и Эриксон весьма решительно перешагнул комингс своей каюты. “Жребий брошен!” Он был в фуражке, длинном бушлате, с биноклем на груди.
– Господа офицеры, прошу вас наверх, по своим местам. Сейчас будем сниматься и пойдем к Николаевскому мосту.
– Куда, куда? – удивленно протянул Красильников. Но ему никто не ответил.
Я прошел в каюту, надел шинель и взбежал на ют, куда был расписан по снятию со швартовых. Порывистый ветер с юга чуть не сорвал фуражку. Было сыро, темно и беззвездно. Но дождь уже не моросил.
С кормовой рубки наружный плафон едва освещал ют тусклым электричеством. Я споткнулся о кормовые концы, разбросанные по палубе. Ютовые тихо зубоскалили у лееров правого борта. Я отозвал унтер-офицера и велел навести порядок.
– Черт-те что на палубе. Сами же ноги поломаете!
Унтер зыкнул ютовых.
– Эй, вуенные! Концы в бухты прибрать!
Матросы нехотя принялись за дело. Палуба мягко сотряслась и мерно задрожала – пустили машины, которые работали то вперед, то назад, размывая винтами отмель, наросшую за год стоянки.
– Отдать кормовой! – крикнули с мостика. Я громко репетовал, думая о том, что опоздай Белышев на полминуты – и эту команду подавал бы я, и кто-то другой смотрел бы, как уползает с берега стальной трос, как плавно отходит от стенки корма, волоча по воде свет, ниспадавший из иллюминаторов. “Аврора” шла по Неве самым малым… Осенняя темень поглотила Васильевский остров – ни огонька, ни искры из трубы. Лишь на Английской набережной горел тусклый оконный квадратик. Я всмотрелся, и сердце взыграло: то был дом Берхов, и свет был зажжен в этаже, где жили Грессеры. Трудно было сказать, в какой комнате, но мне хотелось думать, что это не спит Надин, что она у окна и видит, как приближается к ее дому красавец-крейсер. Она, конечно, думает обо мне, о том, что случилось вчера. Как? Уже вчера? Да, сейчас далеко за полночь и на дворе 25 октября семнадцатого года.
А все-таки это просто распрекрасно, что мы идем к Николаевскому мосту! Об этом и не мечталось, чтобы так попрощаться, почти как в рыцарском романе – примчать под окна дамы на коне в боевых доспехах…
– Господин мичман, куда мы идем? – осторожно интересуется долговязый матрос.
– К Николаевскому мосту.
– А что мы там будем делать?
– Не знаю, – стараюсь отвечать как можно дружелюбнее. – Подойдем, получим приказание, станет ясно.
– Скорей бы на якорь да в кубрик погреться. Спина задубела… Глянь, Васюта, окно горит. Не одни мы не спим.
– И то веселее…
Мне неприятно, что они положили глаз на мой огонек. Я не хочу, чтобы кто-нибудь отпустил сальную шутку насчет неспящих в ночи, и быстро перевожу разговор:
– Какая жуткая тишина…
Крейсер застопорил машины и теперь идет по инерции, бесшумно, будто скользит по намасленному стеклу. Ничто не взбулькнет, не всплеснет…
Вдруг ржаво загрохотала цепь, и вода гулко ухнула под тяжестью станового якоря. Крейсер вздрогнул и замер, уставив форштевень в гранитный бык Николаевского моста.
– Вот и приплыли! – облегченно вздохнул унтер-офицер. Все разом о чем-то заговорили, радуясь скорому отдыху. Из темноты возникла фигура Эриксона, он шел с мостика к себе в каюту.
– Идите отдыхать, – кивнул он мне устало. Я приказал унтер-офицеру отпустить матросов в кубрик, а сам отправился в свою каюту, где и написал эти строки.
Сейчас лягу и усну так, как говорила бабушка: будто мертвый рукой обвел.
Спишь ли ты, милая Надин?»
25 октября 1917 года. Полдень
Царственный город вздымал в небо кресты и шпили, ангелов и корабли, фабричные трубы и стрелы портальных кранов. Статуи богов и героев на мокрой крыше Зимнего дворца подпирали головами низкое серое небо. Меж прозеленевших фигур курился дым. То был отнюдь не благовонный фимиам. То юнкера и ударницы топили печи в холодном осажденном дворце.
Бледное чухонское солнце выкатывало из-за арки Главного штаба. В прорехи небесной наволочи оно било в окна Зимнего, золотыми путами вязало статуи богов и героев на дворцовой крыше, и казалось, что по огненному настилу его лучей вот-вот съедет с арки колесница Победы и шестерка медных коней промчит ее над площадью, увлекая за собой неистовые толпы гневных людей. Каменное жерло арки, словно мортира, наведенная в сердцевину дворца, выхлестнет их в едином порыве, и под ударом могучего залпа рухнет мраморный столп, и бронзовый ангел с его вершины накроет дворец своим тяжелым карающим крестом.
На мраморных клетках столичного плац-парада вот-вот должен был разыграться финал грандиознейшей партии. И среди ее тысяч красно-белых фигур тайно творилась в этот день никому неведомая комбинация: некий «офицер» должен был уничтожить некую «пешку», дабы белая «ладья» могла нанести удар по красному «ферзю». И тогда все вернется на круги своя: колесница Победы и кони незыблемо замрут на своем месте, а медные боги с крыши дворца вечно будут подпирать головами тяжелое низкое небо.
Человек, вознамерившийся выиграть историческую партию, сидел на скамейке Петровского парка, бессильно привалившись к деревянной спинке. После всех ночных и утренних перипетий, после великолепного блефа, пережитого в полуподвале трактирчика, руки и ноги вдруг ослабели настолько, что Грессер едва доплелся до первой скамьи. Но мозг работал превосходно.
Тащиться на Лиговку через весь город – в который раз искушать судьбу. Не может же, в самом деле, везти бесконечно. Вызвать Чумыша и отправиться на моторке? Было бы лучше всего. По Обводному каналу они проскочили бы, минуя всевозможные пикеты, патрули, разъезды, до самого дома павловской сестры, что стоит у Ново-Каменного моста. Шестиэтажную жилую громадину, увенчанную угловой башней, построили совсем недавно – перед войной. Грессер знал этот дом. Его архитектор Фанталов приходился ему шурином. Черти бы их всех побрали – шуринов, архитекторов, механиков, этот дьявольский город, непроходимый, как минное поле!
Кавторанг извлек из кармашка-пистона часы: золотые стрелки на золоченых цифрах отсчитывали золотое время. Все летело в тартарары из-за того, что инженера-механика понесло в этот день к сестре… И Чумыш безнадежно исчез со своим катером – попробуй вызови его отсюда… Ветер сорвал капюшон с фуражки и надул его, как парус.
Парус!
Ну конечно – парус. В конце Петровского проспекта – яхт-клуб. Взять шлюпку, швертбот, какой-нибудь «тузик» на худой конец и, обогнув Васильевский остров, войти в Екатерингофку, а там по каналам, по протокам, под мостами «северной Венеции» можно пробраться почти в любое место центра! От этого счастливого открытия Грессер ощутил прилив новых сил, покинул скамью и размашисто зашагал к западной стрелке острова. Там, за Петровской косой, начиналось взморье и взгляд тонул в привычном мглистом просторе. Кавторанг сразу повеселел и прибавил шагу. День славы не угас!..
Тоненько взвыл пустой желудок. Грессер вспомнил, что, кроме стакана чая, принесенного Стешей, да глотка водки у Акинфьева, он и крошки во рту не держал. «У Павловых перекушу», – пообещал он голодному желудку и тут же забыл о еде, потому что впереди – в изгибе дамбы – открылось дивное видение: роща яхтенных мачт качалась на свежем ветру, и слышно было, как пощелкивают по дереву необтянутые ликтросы.
Ни в яхт-клубе, ни в парусной гавани Грессер никого не нашел, даже сторож исчез, что было весьма на руку. Кавторанг прошелся по дощатым мосткам, выбирая подходящее суденышко. Он присмотрел себе небольшой швертбот с веселым именем «Внучокъ».
Сбегал в шкиперскую за веслами и там же, в кипе сигнальных флагов, отыскал красное с косицами полотнище. Флаг на языке сигнальщиков назывался «Наш», и это короткое простое словцо обрело иной – коварный – смысл, как только красный стяг затрепетал на мачте «Внучка»… «Ваш, ваш», – усмехнулся неожиданной игре символов Грессер. Он поддел ломом рым, к которому была прикреплена амбарным замком цепь швертбота, и вывернул его с надсадным скрежетом из причального бруса. Ветер-бейдевинд туго впрягся в парус, зажурчала вода за кормой – «Внучок» ходко резал рябь Малой Невы. Кажется, впервые за весь день в душе кавторанга разжались стальные тиски, и он испытал нечто похожее на легкое опьянение.
Сначала ему пришлось полавировать, но зато, выйдя в Невскую губу и повернув на юг, «Внучок» резко понесся вдоль Морской набережной Васильевского. Не прошло и часа, как Грессер, обогнув ковши и пирсы Балтийского завода, входил в мутные воды Екатерингофки. Он даже сумел разглядеть рубку «Ерша», такого близкого и все же недосягаемого. Перед Гутуевским мостом он спустил парус и на веслах вошел в устье неширокого и грязноватого Ново-Обводного канала. В екатерининские времена здесь была южная граница города, но Питер давно перевалил за этот рубеж, каменной лавой потек по старым почтовым трактам, сводя леса, вбирая в себя окрестные деревни, дачные усадьбы, озерца и речушки. По обеим набережным канала встали такие же уныло-красно-кирпичные, как и его стенки, корпуса бумагопрядильных фабрик, механических мастерских, скотобоен, газгольдеров осветительного завода, казачьих казарм, складов. Даже храмы здесь возводили из все того же темно-багрового кирпича, точно ставили их на крови.
Ново-Обводный, словно замасленный пояс, стягивал рабочую блузу города. И здесь, в его пролетарских недрах, красный флажок на мачте «Внучка» трепыхался, будто охранная грамота. Мимо по обе стороны канала проносились к Варшавскому вокзалу грузовые моторы с винтовочным людом в кузовах. Красногвардейцы с любопытством поглядывали на одинокое суденышко, упрямо ползущее от моста к мосту, на простоволосого гребца в дождевике (фуражку Грессер спрятал под банку), на красный стяг, развевавшийся над швертботом. У Провиантских складов Измайловского полка кавторанг позволил себе передохнуть – большая часть пути была пройдена. Взглянув на фигурную башенку Варшавского вокзала, он вспомнил, что Ирина с дочерью должны непременно уехать из города. Уехали ли? Страшно представить, что будет, если те, кто придут мстить за «Аврору», застанут их в квартире. Грессер снова приналег на весла, их лопасти оставляли за собой вертлявые воронки в мертвой от фабричных стоков воде.
25 октября 1917 года, 14 часов 35 минут
Пока швертбот тащился по каналу, события в городе обгоняли его со скоростью красногвардейских грузовиков. В час дня («Внучок» еще шел под парусом по Екатерингофке) был взят Мариинский дворец и распущен предпарламент. А в те минуты, когда Грессер, добравшись наконец до Лиговки, привязывал швертбот под Ново-Каменным мостом, на экстренном заседании Петроградского совета Ленин объявил о свершении социалистической революции. Партия века, которую кавторанг еще надеялся выиграть, стремительно близилась к финалу. Одна за другой исчезали с доски его фигуры – Госбанк, Электростанция, тюрьма «Кресты», Николаевское кавалерийское училище, Павловское училище, Владимирское, школа прапорщиков… Но красный «ферзь» еще не был введен в дело. Еще можно было успеть убрать его белой «ладьей». Кто бы обратил внимание на то, как от безлюдных причалов Балтийского завода почти бесшумно оторвалось и скользнуло в Неву щучье тело подводной лодки? А если бы и всполошились, никто и ничем не смог бы помешать удару – до залповой позиции десять минут хода! От торпед, нацеленных кавторангом Грессером, еще не уклонилось ни одно судно…
– Боже, как я рад вас видеть!
Николай Михайлович едва удержался, чтобы не обнять своего механика. Павлов, не привыкший к таким сантиментам обычно сдержанного командира, смущенно хлопотал в прихожей, ища достойное место для грессеровской шинели.
– Да как же вы меня нашли, Николай Михайлович? – конфузился он, не забывая, однако делать сестре отчаянные знаки, которые надо было понимать как призыв к большому кухонному авралу.
– Нет-нет! – заметил Грессер. – Гостевать нам некогда! Чашку чая, бутерброд – и баста!
Однако от тарелки гречневой каши, сдобренной гречишным медом, не отказался. Ел жадно, торопясь, и, вопреки правилам высшего света, говорил о делах:
– Снова, милейший Александр Павлович, нам выпало вместе послужить… Мы оба назначены на «Ерш». Он еще в заводе, но сегодня надо срочно перегнать его на Охту… Приказ морского министра. Собирайтесь пока… Срочно!
– Да я что ж… Я очень рад… Мигом… Дизеля только на «Ерше» паршивые – американские, фирмы «Новый Лондон», втрое слабее, чем нужно. Поставили за неимением проектных, так скорость на семь узлов упала….
– Ничего, ничего, нам на Неве и десяти узлов хватит… Главное, чтоб запустились.
Они шли по Гороховой вдвоем, в открытую, никого не сторонясь и ни от кого не прячась. Да и не было никому дела до двух прохожих в дождевиках, спешивших туда же, куда стремились боевые отряды, а то и просто кучки поблескивающих штыками красногвардейцев. Впереди в ранних сумерках мерк золоченый кортик адмиралтейского шпица. Там лепные гении славы осеняли центральную арку, под которую вскоре вошли эти двое в тяжелых намокших плащах.
25 октября 1917 года, 18 часов 10 минут
На парадном лестничном марше они встретили скорбную процессию. Впереди шел кондуктор Чумыш, держа за собой носилки. С них свисали полы шинели, прикрывавшей с головой чье-то тело. Офицеры Штаба молчаливой гурьбой спускались по ступенькам, понуро потупив взгляды. Грессер увидел Вадима, он шел рядом с Дитрихом.
– Что случилось? – спросил их кавторанг.
Дитрих сделал патетическую мину:
– Не перевелись еще на флоте настоящие герои! Боже, какой был человек!
– Кто? – рявкнул Грессер.
– Подполковник Уманцев. Час назад застрелился в своем кабинете.
Сердце у Грессера тоскливо сжалось. Он хорошо знал этого офицера из отдела морской авиации. Боевой летчик, кавалер золотого георгиевского оружия, он, как и Грессер, служил под Шпицем недавно. Еще вчера он заходил к нему за справочником по кайзеровским субмаринам, и они остроумно пикировались насчет возможностей самолета и подводной лодки в морских войнах будущего и весело сошлись на том, что самолеты в грядущих сражениях будут взлетать с подводных лодок.
Кавторанг не стал спрашивать о причинах рокового шага – в последние дни самоубийственные выстрелы в кабинетах Адмиралтейства раздавались нередко, но Дитрих словоохотливо пояснил, что час назад Уманцев получил из Ораниенбаума, где базировалась Петроградская школа морской авиации, удручающее сообщение. Группа летчиков-инструкторов, которая тайно готовилась к воздушному налету на Смольный и на «Аврору», была кем-то выдана и арестована матросами. Арестованы все семьдесят летчиков-офицеров. Уманцев, как выяснилось из его посмертной записки, был главным разработчиком и вдохновителем операции.
– Вот так уходят от нас лучшие люди! – сакраментально заключил кадровик.
– Так уходят настоящие офицеры! – Кавторанг со значением произнес слово «настоящие» и поспешил отделаться от раздражавшего его лейтенанта. Грессер, в душе считавший себя викингом, недолюбливал немцев вообще и особенно тех, кто воевал против немцев же. Еще он подумал, что, если его удар по «Авроре» сорвется, ему придется последовать примеру подполковника Уманцева.
«К черту, к черту! – отогнал он мрачные мысли. – Покойника встретить – к удаче. Все будет хорошо. И завтра тот же Дитрих будет восклицать в коридорах: “Не перевелись еще на флоте настоящие герои!”»
– Ты обедал? – спросил Грессер Вадима, удрученно шагавшего рядом.
– Нет, папа.
– Ничего. Ужинать будем на «Ерше». На Ерше Ершовиче, у Петра Петровича! – деланно взбодрился Грессер.
Они шли полутемными коридорами. Электричество отключили, и всюду – на коридорных перекрестках, лестничных площадках, в рабочих комнатах – горели свечи и керосиновые лампы. Их красноватый шаткий свет сгущал и без того тревожную атмосферу под сводами Адмиралтейства. В пустом кабинете Уманцева, куда по пути к себе заглянул Грессер, тоже оплывала толстая непогашенная свеча. Из-под тумбы стола торчала черная рукоять упавшего на пол револьвера. Кавторанг подобрал его. По старым флотским поверьям, вещи мертвеца приносили счастье. Он постоял еще немного, отдавая долг памяти. Вот еще один, кто попытался выиграть партию века. Мир праху твоему!
Грессер с болезненным любопытством заглянул в окно. Что видел в свой последний миг Уманцев? С большим трудом он рассмотрел в ночной темени Медного всадника, тщившегося перескочить Неву с крутого камня. За Николаевским мостом вспыхнул огненный зрак «Авроры». Голубоватый луч как бы прощупывал снарядные трассы будущих залпов.
Надо спешить!
День славы близился к концу…
Свой второй – запасной – наган Грессер извлек из служебного сейфа и вручил сыну.
– Стрелять умеешь?
– Папа! – обиженно воскликнул сын.
– Ну, ну… Я пошутил. Держи. Это тебе мой подарок с началом новой флотской жизни… Александр Павлович, у вас оружие с собой?
Павлов обескураженно захлопал себя по карманам:
– Вы знаете… С тех пор как я сдал свое оружие в Кронштадте… По распоряжению судового комитета… С тех пор безоружен. Да и на что механику пистолет?
«Голубчик, – хотел было возразить Грессер. – Сначала вы офицер, а уж потом – механик…» Но укором характера не исправишь. Да и к лучшему, если у Павлова не будет револьвера. Как-то он еще поведет себя, узнав, что «Ерш» потопил «Аврору»… Потопил! Грессер не позволял себе сомневаться в ином исходе дела. Главное, чтобы Павлов привел подводную лодку в движение. А уж убрать какого-нибудь матюху-часового – если, конечно, раскомиссаренная команда сочла нужным его выставить, – он, капитан 2-го ранга Грессер, сможет сам: приказом ли, пулей ли…
Вдруг осветилось все – вспыхнули люстры, рожки н настольные лампы. И тут же под старинными сводами поплыло эхо выстрелов, грохоча, ломаясь, множась. Грессер, а за ним Вадим и Павлов выскочили в коридор, но чей-то истошный вопль заставил их замереть на месте.
– Из кабинетов не выходить! Всем оставаться на местах! Оружие на пол!
В Адмиралтейство вломились матросы с винтовками. Они врывались в святая святых российского флота, где с петровских времен решались судьбы сотен кораблей и сотен тысяч нижних чинов. То кровь ударила в думную адмиральскую голову. Апоплексический удар. Потоп! Генмор шел ко дну, как цусимский броненосец.
Грессер затравленно оглянулся – из глубины коридора уже смотрело вдоль кабинетных дверей тупое рыло «максима». Пулеметчик в бескозырке зычно гаркнул:
– Полундра! Кому говорю! По местам!
Оба офицера и кадет нехотя повиновались. Щека у кавторанга отчаянно дергалась. Кронштадт повторялся в самом худшем варианте – он настиг его вместе с Вадимом. Мысль Грессера работала с удвоенной энергией: за себя и за сына. В соседних кабинетах громко хлопали двери, их обитателей уводили… Куда? Зачем?
Вадим снял бескозырку, чтобы вернуть ленте ее законное положение. Он не хотел быть инкогнито перед лицом опасности.
– Стоп! – остановил его отец. – Достань наган и выводи нас с Александром Павловичем под прицелом. Ты понял? Мы – арестованные, ты – конвойный.
Глаза юноши загорелись. Ну, конечно же, для него начиналась увлекательнейшая игра. Будет о чем рассказать в Корпусе!
Так они вышли в коридор и пошли прочь от пулемета. Их не окликнули, их не остановили… Грессер шел на полшага впереди Павлова, заложив руки за спину. Он выбирал дорогу, ибо только он один знал, что за ближайшим поворотом – ход на боковую лестницу. Сердце гулко отбивало шаги. И кавторанг томительно считал не то удары в груди, не то шаги по ковровой дорожке. «…Двадцать семь, двадцать восемь… Господи, пронеси! Двадцать девять… Если выберемся, закажу молебен… Тридцать… Тридцать один…»
В спину ему смотрело револьверное дульце Вадима, спину Вадима сверлил стальной зрак пулемета.
На сорок втором шаге-ударе кавторанг свернул за угол и… столкнулся с Чумышем.
Процессия сбилась, смешалась.
– С нами, с нами, Зосимыч! – сквозь зубы выдавил Грессер. Но кондуктор с круглыми от страха глазами не мог взять в толк, зачем ему тоже надо шагать с арестованными.
Их суету заметили.
– Эй, с наганом, веди сюда! – распорядился чей-то металлический голос.
Грессер навскидку выстрелил между мраморных колонн, откуда раздался приказ, и кинулся, увлекая всех за собой на боковую лестницу. Он только на секунду оглянулся – бежит ли Вадим? Тот бежал, отмахиваясь зажатой в руке бескозыркой. Вслед за ним поспевал Чумыш. Последним скатывался по ступенькам Павлов.
Дубовая дверь во внутренний дворик была заперта. Грессер ударился в нее всей тяжестью грузного тела и с острой тоской понял – не выбить, не открыть… Сверху громыхала сапогами погоня.
Чумыш ткнулся в дверь цокольного этажа, и она распахнулась. Бросились в нее. Теперь вел кондуктор. Подвальные лабиринты он знал досконально. Ступеньки. Поворот. Еще ступеньки… Железная дверь с корабельными задрайками. В мгновение ока сбили стальные клинья – ржавый визг, затхлая темень, спасительная броня пожарной двери. Задраились. Дышали тяжело и часто. Механик чиркнул о стену спичку, посветил вокруг, и все с замиранием сердца оглядели глухие своды каменного мешка. Повсюду громоздились связки бумаг, дел, папок…
С той стороны рвали задрайки. Громко щелкнула пуля – кто-то сгоряча попробовал прострелить железную дверь. В темень западни доносились голоса:
– Дыму бы подпустить. Враз бы вылезли…
– Бомбу под замок – и вся недолга…
– А пущай сидят! Часового поставить – и что твои «Кресты».
Спичка механика давно погасла, тьма стала еще гуще. Грессер отыскал плечи Вадима и слегка сжал их, прислушиваясь к голосам за дверью. Павлов дышал, как загнанная лошадь.
– Ваше благородие, дайте-ка мне спички, – обратился Чумыш к механику.
– Куда ж ты нас, старый черт, завел?! – одышливо вопросил Павлов.
– Вы меня зазря не чертите! Как завел, так и выведу. Ни одна крыса того не знает, что Чумышу ведомо. Спички дайте! – уже не попросил, а потребовал кондуктор.
Полупустой коробок прогремел в темноте. Слышно было, как Чумыш что-то разгрыз, потом выяснилось – карандаш. Он поджег расщепленную половинку и посветил в дальнем углу их нечаянной камеры. Грессер, Вадим и Павлов нетерпеливо шагнули следом. Кондуктор присел, и все увидели квадратную дубовую крышку с двумя ржавыми кольцами.
– Там, где у нас внутренний двор, раньше канал был, – пояснил Чумыш по ходу дела. – Канал не то при Павле, не то при Александре засыпали. Да не абы как, а с умом.
Кондуктор ухватился за одно кольцо, Грессер – за другое, рванули разом… Разбухшая от сырости крышка сидела прочно. Дернули вчетвером. Увы, люк не поддавался. Такого оборота не ожидал и Чумыш.
– Эк, засела дура! – сокрушенно ругнулся он.
Грессер взял у Вадима револьвер и пятью точными выстрелами расщепил край крышки. Из щели потянул сырой сквозняк. Кавторанг выдернул из ближайшей стопки бумагу, поджег и просунул в дыру. Огонь высветил под крышкой кирпичный пол. Он был неглубоко – в метре, не больше. Кавторанг растеребил одну из связок и приказал всем скручивать листы в жгуты и пропихивать в щель. Работа закипела при свете карандашного огрызка. Когда под крышкой выросла высокая горка скрученной бумаги, Грессер бросил в дыру карандашный огарок, и на кирпичном полу запылал костер. Все с новой энергией принялись бросать в огненную щель скрученную бумагу. Пламя подсушило отсыревшую древесину, и вскоре, поднатужившись, Грессер с механиком вырвали злополучную крышку. Чумыш спрыгнул в люк. Согнувшись в три погибели, он исчез в темени низкого и узкого хода. Грессер последовал за ним. Потом спустился Вадим. Последним, закрыв за собой крышку, пролез механик.
Эти четыреста подземных метров показались им с коломенскую версту, прежде чем они выбрались из водосточного колодца у западного торца Адмиралтейства.
– Ну, Зосимыч, удружил, – обнял кондуктора Грессер. – Век не забуду. Пойдешь ко мне боцманом?
– Эх, Николай Михалыч… С меня теперь боцман, что с пальца гвоздодер. Я уж на вечную зимовку ниже земной ватерлинии собрался…
– Рано крылья опустил, орел портартурский! А сослужи-ка нам последнюю службу – подбрось в Балтийский завод. Только катер сюда подгони. Нам сейчас, сам понимаешь, не резон по набережной фланировать.
– Не сумлевайтесь! Сделаю, как надо.
Чумыш исчез в ночной мороси, переждав броневик с белыми буквами на пулеметной башне – «РСДРП». Боевая машина катила с Сенатской площади в сторону Зимнего…
«Как ни был мертв мой сон, я очнулся, повинуясь внутреннему толчку, что всегда будил меня за полчаса до подъема флага. Умывшись и растеревшись, вышел на верхнюю палубу. Утро серое, ветреное, холодное. Ветер сносил дымы из труб Зимнего на норд-вест, значит, дул с юго-востока. Чугунная громада Николаевского моста нависала над Невой совсем близко от нас. На мосту вершилось обычное движение, лишь изредка мелькали красные повязки на рукавах солдатских шинелей и матросских бушлатов.
На набережных толпился народ, разглядывая “Аврору”. Она стояла посреди Невы, точно новый дворец с высокой колоннадой труб, выросший за ночь на виду города. У стенки завода крейсер сливался с цеховыми постройками и был малоприметен.
Я поднялся на сигнальный мостик и навел бинокль на толпу. Надин среди глазеющей публики не было. Тогда я навел линзы на ее окно. Оно приблизилось, но угол зрения был неудачен – стекла тускло отливали.
Неужели еще вчера я был по ту сторону этой стеклянной границы и губы мои пылали на ее губах? От этой мысли бинокль в руках слегка задрожал.
Ее окно смотрело на “Аврору”… То была каменная оправа нашей жгучей тайны. Прямоугольный колодец, в застекленной непроглядной глубине которого жила моя прекрасная сирена… Видит ли она, какое величественное прощание подарила нам судьба?
Я опустил бинокль и взял контрольные пеленги на башню Кунсткамеры и шпиц Адмиралтейства. “Аврора” стояла на якоре незыблемо. Я записал пеленги в журнал. Эти простые служебные дела привели мои мысли в трезвый порядок. К черту сирен и наяд! Есть милая, обожаемая, земная, грешная, сладостная Надин. Как все преобразилось со вчерашнего дня! Как обновилась вся жизнь! Каким глубоким таинственным смыслом наполнилась каждая мелочь бытия, каждый пустяк уже примелькавшейся корабельной жизни! Все, все, все, на что упадет взгляд, напоминает ее, говорит о ней, обещает ее… Вот вьются ленты у сигнальщика на бескозырке, а я уж думаю, как хороша была лента черного репса в ее волосах. Вот тренькнул машинный телеграф, точь-в-точь как звонок за ее дверью… Сколько томительного сладостного ожидания разлито вокруг… С завистью смотрю я на корабельный прожектор: луч его так легко может проникнуть в ее окно, упасть к ее ногам, лечь на руки, объять ее…
Вчера она стала моей. Теперь я обязан по долгу офицерской чести предложить ей руку, сделать официальное предложение… Да что по долгу! По давней заветной и безнадежной доселе мечте я могу просить Надин выйти за меня замуж. Пусть до лейтенантского чина мне трубить еще три года, пусть нет у меня этих злосчастных пяти тысяч[8]… Николай Михайлович Грессер настоящий боевой моряк, и он, не впадая в предрассудки, конечно же, отдаст дочь за настоящего боевого моряка, пусть пока и в невеликих чинах. К тому же революция наверняка упразднит «мичманский ценз», и нам ничто не помешает соединить руки…
– Надолго мы тут стали, господин мичман? – спросил сигнальщик, подставив ветру спину.
– Думаю, что нет. Прибудет высокое начальство, посмотрит, как отремонтирован крейсер, и двинем в Гельсингфорс.
Я и не подозревал, как глубоко заблуждался. Вместо представителя Главного морского штаба на корабль прибыл Антонов-Овсеенко, член Военно-Революционного комитета. Что он говорил команде, я узнал лишь много позже – понаслышке, так как сразу же после обеда свинцовый сон – сказались все полубессонные ночи – не дал мне выбраться из койки.
Сколь сладко просыпаться в броне и железе с именем любимой. О, Надин!
Перед глазами замелькали вспышки сокровенных видений».
Далее арабской вязью:
«…Шемизетка брошена на китель. Длинная черная юбка соскользнула с подлокотника кресла, точно живая. Туфелька улетела под фортепиано…
Придя в себя, я ужаснулся разорению, в которое привел столь сложные, столь красиво подобранные, разглаженные, затянутые наряды моего божества, ее уложенные волосы. Я ощутил себя вандалом, разрушившим прекрасную статую, язычником, сорвавшим в порыве безумия покровы со своего кумира и застывшего в ожидании неминуемого возмездия. То было святотатство художника, под чьей кистью Мадонна вдруг обратилась в “обнаженную маху”… Но вместо праведного гнева на меня обрушились неистовые милости поверженной богини…
Мой крестик качался над ней на цепочке…
…Потом в гостиной она взяла меня за руки:
– Я прошу вас обещать мне… Нет, лучше поклянитесь! Клянитесь мне, что вы никогда не посмеете подумать дурно о том, что было сейчас… Никогда не поставите мне этого в укор…
– Да господи! Как в голову вам могло такое прийти?! Да я… Я клянусь самым святым, что у меня есть, что буду боготворить этот день и вас всю жизнь, сколько бы мне ее ни досталось. Клянусь флагом своего корабля… Клянусь спасением своим в бою… Если выпадет смерть медленная, томительная, – вы, память о вас, об этом дне будут моим утешением.
Она убежала в комнаты и вернулась оттуда, неся в ладонях маленький образок из очень темного серебра.
– Вот… Он хранил на морях моего деда. Он счастливый. Бабушка сказала: “Надень его на того, кого хочешь спасти”. Теперь он ваш… – Она застегнула мне на шее цепочку, поцеловала в лоб и губы и легко подтолкнула к двери. – А теперь ступайте, ступайте… Скоро придут наши. Вас никто не должен видеть сейчас. И запомните мой телефон в Гельсингфорсе. Он очень простой: девятнадцать-семнадцать. Все вместе, как нынешний год».
25 октября 1917 года, 19 часов 00 минут
Склянки на «Авроре» отбили семь часов вечера, когда от Адмиралтейской набережной отвалил черный катерок с пассажирами и рулевым.
– Скажи на милость, службу не забыли! – восхитился кондуктор, расслышав сквозь клекот мотора медные удары авроровской рынды. Грессер с тревогой вглядывался в приближающиеся надстройки крейсера: что, если прикажут встать к борту? Высокие трубы корабля вырастали над мостом с каждой секундой. Вот и выгнутый нос с черной серьгой якоря (второй отдан), клепаный борт с тремя ярусами иллюминаторов, отваленный выстрел[9] со шлюпкой на привязи…
На заре туманной юности корабельный гардемарин Грессер проходил на «Авроре» морскую практику. Вон иллюминатор его кубрика. В кожухе первой трубы отогревался он после вахт на сигнальном мостике. А сколько раз банил баковое орудие, за которым был закреплен в гардемаринской прислуге!
Однажды летней тихой ночью, когда крейсер резал заштилевшее море, Грессер выбрался из душного кубрика наверх. Никем не замеченный, он пробрался на бак, за шпили, и лег там на теплое дерево палубы. Он лежал на спине – головой к форштевню, раскинув руки в стороны. Лицо его нависало над росзвездями черной бездны. Корабль чуть покачивался, и вместе с ним качалась ночная Вселенная. И тогда у гардемарина захватило дух от созерцания этой космической шири. Он плыл один между морем и звездами неведомо куда – в вечность и бесконечность. Потом он нигде не испытывал такого величественного чувства, и он всегда благодарил судьбу и «Аврору» за тот звездный миг в его жизни.
То была злая ирония судьбы, что именно ему предстояло сегодня уничтожить «Аврору». «Уж лучше бы ты потонула в Цусиме», – не без горечи пожелал кавторанг, глядя, как створятся за кормой катера мачты и трубы крейсера.
– Пронесло!
Не окликнули, не осветили, не выстрелили. Чумыш держал курс на огни Балтийского завода.
Землянухин сидел в боевой рубке и приканчивал вторую селедку, заедая ее ржаной краюхой. Он хотел было спуститься за чайником, который грелся на электрокамбузе, как вдруг услышал глухое фырканье мотора. Насторожился. Выглянул из рубочного люка и подвинул поближе винтовку.
Маленький катер ткнулся в лодочный корпус, и один из пассажиров – высокий, в офицерской шинели – зычно крикнул:
– Вахта! Прими концы!
Землянухин вылез из люка по грудь, выпростал винтовку, клацнул затвором.
– Стой! Кто идет?
– Ага, есть живая душа! – обрадовался офицер. – А ну помоги вылезти!
– Кто идет, спрашиваю! – рассердился матрос на слишком уверенного в себе незнакомца.
– Я новый командир «Ерша». Капитан второго ранга Грессер, – громко представился офицер. – Со мной вновь назначенные механик, боцман и юнга. Кто старший на борту?
– Я старший… Матрос первой статьи Землянухин.
– Землянухин, ты? – радостно удивился кавторанг. – Не узнал меня, что ли?
– Узнал, как не узнать… – протянул матрос.
– «Тигрицу» нашу помнишь?
– Все помню, ваше выск… Тьфу! Господин кавторанг. Ничего не забыл.
– Так прими концы! – властно потребовал Грессер.
– Часовой есть лицо неприкосновенное, – важно напомнил Землянухин. – Все начальство в екипаже. Туда и езжайте.
– О, ч-черт! Какое, к лешему, начальство, если я командир? Вот мое предписание.
– Не могу знать. Председатель судкома меня ставил. Председатель и снимет. Бумажку ему покажьте.
– Друг мой, не придуряйся шлангом! – начал злиться кавторанг, чувствуя, как снова задергалась щека. – Сам председатель судкома боцманмат Митрофанов наложил свою резолюцию.
– У вас резолюция, а у меня революция! – парировал Землянухин, уличив про себя командира в неточности: не Митрофанов – Митрохин. – Стой! – осадил он кавторанга, решившего взять скат лодочного борта приступом. – Стой! Стрелять буду!
Но первым выстрелил Грессер. Пуля цвенькнула над ухом, и Землянухин нырнул вниз, захлопнув крышку люка и задраив ее наглухо.
Пуля вторая и третья отрикошетили от стальной горловины. Кавторанг еще не мог поверить, что блестящая комбинация «белая ладья берет красного ферзя» рухнула от того, что некая пешка сделала непредусмотренный ход и навсегда ускользнула из-под удара.
По обе стороны рубки «Ерша» зажглись красно-зеленые ходовые огни – сигнал бедствия. Их включил Землянухин, призывая к себе на помощь.
Грессер, Чумыш, Вадим, Павлов столпились вокруг задраенного люка. Час назад они точно так же стояли перед дубовой крышкой лаза в надежде на выход. В надежде на вход им было отказано – входной люк незыблемо перекрывал массивный литой кругляк из красной меди.
Щека Грессера задергалась вдруг быстро-быстро, он издал странный горловой звук и принялся яростно колотить рукоятью нагана крышку рубочного люка.
– Открой, сволочь, открой! – рыдал он, отбиваясь от рук Чумыша и Павлова, пытавшихся оттащить его прочь от рубки. С помощью Вадима наконец удалось это сделать. Грессер все же вырвался, сумев при этом не расстаться с оружием. Он отскочил к носовой пушке, ударился спиной о казенник, и этот удар привел его в чувство. Он вскинул наган, тщательно прицелился и расстрелял сначала левый красный фонарь, затем – правый зеленый. Брызнули осколки стекол, ходовые огни погасли.
Кавторанг перекрестил лицо, сунул теплый ствол в рот и нажал спуск.
– Папа! – заорал Вадим.
Курок сухо щелкнул. Как чемоданный замок.
Осечка?
Грессер быстро осмотрел барабан. Он был пуст. Кавторанг швырнул револьвер в воду и, обессилев, упал грудью на пушечный ствол. Вадим подбежал, обнял, прижался к плечу.
Мимо них скользили по Неве почти бесшумно силуэты эсминцев-«новиков». Жидкий дым их труб стлался по воде. Эсминцы шли к «Авроре», словно два припозднившихся телохранителя.
– «Самсон» и «Забияка», – совиным оком прочел надписи на бортах Чумыш. – Из Гельсингфорса притопали… Видать, будет дело…
25 октября 1917 года, 21 час 40 минут
«Аврора» стояла посреди Невы незыблемо, точно броневой клин, вбитый в самую сердцевину города.
В казенник баковой шестидюймовки уже загнали согревательный заряд, который, прежде чем начаться боевой стрельбе, должен был выжечь густую зимнюю смазку в канале ствола.
Река обтекала корабль, и острый форштевень крейсера невольно разрезал Неву надвое. Полотнища вспоротой реки трепетали за кормой, словно матросские ленты…
«После полудня пролился мелкий дождь, хорошо очистивший воздух от туманной дымки. Видимость улучшилась, несмотря на то, что быстро стемнело, а небо было затянуто облаками. С высоты авроровского мостика хорошо были видны оба городских берега в разноярусье горящих окон. Ярко освещенные трамваи неторопливо всползали и сползали с плавных крыльев моста. Петроград жил обычной жизнью, разве что толпы людей стояли на набережных и любовались подошедшими к “Авроре” кораблями, освещавшими друг друга, мост, Неву и здания мощными морскими прожекторами. Поодаль от нас курились легкими дымками минные заградители “Амур”, “Хопер”, яхта Красного Креста “Зарница”, а после ужина подошли и стали к Васильевскому острову учебное судно “Верный” вместе со сторожевиком “Ястреб”. Наши матросы кричали им с борта, вызывая земляков и дружков.
Крейсер погружался в якорное безделье, офицеры разошлись по каютам, лишь в салоне несколько человек пили вечерний чай. Я устроился у своего любимого полупортика и стал дочитывать Джека Лондона.
Вдруг кресло, палуба и стол дрогнули от орудийного выстрела. Шнурок звонка в буфетную закачался, словно маятник. Эриксон, сидевший напротив меня с папиросой, недоуменно поднял брови.
– Леонид Николаевич, – поймал он мой взгляд. – Пойдите наверх, выясните, что это за выстрел, и доложите!
Я быстро прошел из салона в каюту. Надел фуражку, выбежал на верхнюю палубу и двинулся по левому борту на полубак, где толпились праздные матросы. При виде меня они расступились, и я прошел к носовой шестидюймовой пушке, возле которой хлопотали комендоры.
– Куда стреляли, ребята?
– Холостым пальнули. Белышев приказал.
Со стороны Зимнего неслась беспорядочная трескотня винтовок. Я невольно залюбовался ночной панорамой, рассвеченной, словно в праздник, дюжиной прожекторов. Лучи их, иссиня-белые, метались по мостам и фасадам, утыкались в Зимний, взблескивали на шпилях и куполах.
– Цвень-нь-нь!!
Пуля, прилетевшая с Васильевского острова, злобно цокнула в левую скулу «Авроры» и отлетела, фырча. Матросы зашевелились.
– Постреливают, однако.
– Затемнить корабль!
– Эй, внизу! Вырубите фазу!
– Броняшки на иллюминаторы ставь! Вали вниз, ребята!
“Аврора” гасила огни…»
Ответ в конце задачника
Судьба подводному заградителю «Ерш» выпала незавидная. В декабре 1917 года он был сдан флоту окончательно и через два месяца отправился сначала в Ревель, затем в Гельсингфорс. В апреле 18-го прибыл в Кронштадт и целый год стоял в порту на приколе. В октябре 1919 года минзаг перегнали на Ладожское озеро, но в боевых действиях он так и не участвовал. Летом 1921 года его вернули на Балтику и включили в состав 2-го дивизиона подводных лодок морских сил Балтийского моря. Два года он простоял в ремонте. А в мае 1931 года «Ерш», переименованный после капитального ремонта в «Рабочий» (бортовой номер 9), затонул в Финском заливе. Ночью его протаранила шедшая за ним в кильватере подводная лодка. «Рабочий» погиб со всем экипажем во главе с командиром Николаем Царевским (однокашником писателя Леонида Соболева по Морскому корпусу).
«Ерш»-«Рабочий» искали почти два летних сезона.
Наконец в 1932 году судно с электрометаллоискателем на борту обнаружило на дне огромную массу железа. Лот показывал 84 метра. Водолазы на такой глубине могли работать всего несколько минут, а подъем по режиму декомпрессии длился часами. И тем не менее эпроновцы опустились на грунт и обнаружили… броненосец береговой обороны «Русалка», затонувший в шторм в 1893 году. Это была та самая печально известная в конце прошлого века «Русалка», памятник погибшему экипажу которой стоит в таллиннском парке Кадриорг. По случайному совпадению в нескольких десятках метров от «Русалки» был найден и корпус подводного заградителя. Почти треть года длились подъемные работы. Наконец спасательный катамаран «Коммуна» (бывший «Волхов») извлек несчастную субмарину на поверхность. Это случилось 21 июля 1933 года. «Ерш» доставили в Кронштадт и там разрезали на металл, который влился в корпуса новых кораблей.
Закладная доска «Ерша» – серебряный прямоугольник с выгравированным силуэтом подводной лодки – хранится в Центральном военно-морском музее, к которому приписан ныне и крейсер «Аврора». Там же находится и закладная доска «Авроры». Серебряные скрижали нашей истории…
Часть вторая. «Зимний» в октябре
Петроград. Сумерки, вечер и ночь 25 октября 1917 года
Весь день глаза у Ирины Васильевны Грессер были на мокром месте. Прочитав записку, придавленную обручальным кольцом, наслушавшись Стешиных рассказов про то, как Николай Михайлович прятал в карман «левольверт», наконец, потеряв голову от собственных предположений и догадок – свежи были еще и кронштадские страхи, – Ирина Васильевна перед самым полдником бессильно опустилась на полусобранные дорожные баулы.
– Стеша, Стешенька, беги за доктором, – крикнула Надин, выискивая в аптечке флакон с нюхательной солью.
– Вы ей в лицо пырснете! – уговаривала Стеша. – Вы ей водой пырсните, она отойдет.
– Да, беги же ты за Марк Исаичем! – умоляла Надин, расшвыривая склянки. – Он дома сейчас. Пожалуйста.
– Нету их дома! – упорствовала Стеша. – У них свет в окнах не горит.
– Тогда вызови карету «скорой помощи»!
– Не надо «скорую», – слабо помахала рукой Ирина Васильевна.
– Наденька, голубчик, сбегай за папой на службу. Чует мое сердце – он там. Позови его… Скажи, чтобы оставил все свои фантазии и шел домой. Умоляю. Он послушает только тебя.
Надин накинула приготовленный в дорогу сак-манто с дождевой пелеринкой и бросилась к дверям.
– Ради Бога – будь осторожна, – крикнула вдогонку мать, приподнимаясь с пухлого портпледа. – Возьми извозчика, сколько бы не заломил. У тебя есть деньги?!
– Есть! – донеслось уже с лестницы.
«Какой там извозчик! – думала Надин, стремясь по Английской набережной. – Тут до адмиралтейства – рукой подать…»
От ветра с моросью сразу же развились и прилипли к вискам накрученные перед обедом пряди-спиральки.
С казенных пристаней, громоздившихся по левое плечо, кричали ей что-то задиристо-ухарское подгулявшие матросы. Благо ветер сносил их крики; Надин слов не разбирала, держась подальше от парапета, она полубежала навстречу золоченому шпицу.
В Адмиралтейство ее не впустили, матросы с красными повязками, перекрывшие парадный вход, и без того взбудораженные, при виде барышни оживились еще больше.
– Вы, мамзель, лучше к нам на пароход приходите!.. А тут делать нечего… Закрыто заведение… Кто тут у вас, женишок что ль? Ах, папенька… Домой, домой идите!.. А то у нас тут женихи горячие… Без попа окрутят…
Надин отошла в скверик к памятнику Пржевальскому и, глядя на мокро блестевшие горбы бронзовых верблюдов – старых добрых знакомцев еще по детским прогулкам, – стала думать, как быть дальше.
– Господи, Надин! Что вы тут делаете? – окликнул ее офицер в черном дождевике. – Да вы меня забыли! Дитрих Иван Иванович. Мы с вашим папенькой коллеги.
– А где он? Я за ним пришла. Там мама слегла…
Дитрих стряхнул с козырька натекшие капли.
– Полагаю, что Николай Михайлович сейчас в Зимнем… Он искал Вердеревского, а он сейчас там, на заседании Правительства… Идемте, я вас провожу… Скорее всего, он там… Мне к министру надо, и Николая Михайловича найдем… У нас тут ужас что творится. Адмиралтейство захватили. Еле выбрался…
Так под скороговорку своего провожатого Надин вышла к Дворцовой площади. С поленниц, сложенных перед Дворцом, густо веяло сырой берестой.
– Куда? – заступили им путь трое юнкеров в волглых тяжелых шинелях.
– К морскому министру на доклад. – Дитрих показал адмиралтейский пропуск.
– А барышня? – хмуро осведомился портупей-юнкер.
– Дочь! – коротко бросил офицер, и ввел в подъезд Надин, оставив юнкеров гадать, чья именно она дочь – морского министра или кавторанга.
В подъезде их остановил еще один караул – из ударниц женского батальона. Надин только слышала о женщинах-солдатах, но видела их впервые и потому, пока Дитрих объяснялся со старшей, во все глаза разглядывала странных бойцов. Как ни огрубляло, ни кургузило их солдатское платье, все выдавало в них сестер по полу: и нежные щеки, и проколотые для серег уши, и пышные волосы, хоть и коротко стриженные, но так и не подмятые папахами… Она смотрела на них изумленно: «Как вы решились? Как так можно? Женщина – и винтовка? Женщина – и погоны? Женщина – и война?»
– Что, в пополнение нам? – кивнула ей на прощание начальница караула – рослая деваха с унтер-офицерскими лычками на измятых погонах.
Надин, стесняясь своего праздно-нарядного облачения на фоне суровых рубищ, не нашлась что ответить и пожала плечами так, как будто и в самом деле собиралась поступить в батальон, да только не уверена – примут ли?
Она поспешила за Дитрихом по лестнице, подальше от прочих расспросов и вскоре растворилась в общей суете дворцового муравейника. Она впервые попала в Зимний и, хотя посещала балы в других столичных дворцах, была захвачена великолепием его коридоров, маршей, галерей, по которым вел ее провожатый. Впрочем, Дитрих и сам бывал тут не часто – сбился, заблудился и стал просить какого-то прапорщика отвести их в Белый зал, где, как выяснилось по расспросам, находилось Правительство, а значит, и контр-адмирал Вердеревский со своим морским окружением.
Краснощекий юнкер с красными же погонами стоял на посту перед бело-золотыми нарядными дверями.
– Простите, но туда нельзя, – вежливо преградил он дорогу. – Идет заседание.
– Давно? – спросил Дитрих.
– Давно.
– И сколько еще продлится?
– Кто ж это знает? – пожал плечами юнкер. – Простите, но мне нельзя с вами говорить. Я – на посту. Вы пройдите в покои – там на банкетках и ждите.
Ничего другого не оставалось… А вокруг творилось великое мельтешение военных людей, умноженное зеркалами. Сновали по коридорам лощенные в обтяжечку юнкера, мешковатые стриженые ударницы, сбегали и взбегали по лестницам, не теряя выправки, придерживая шашки, офицеры. Все они мчались куда-то что-то выяснять, сообщать, требовать… Все они путались в мраморном лабиринте дворца. Все спешили с одной и той же маской горестной заботы на лице…
Ах, как странно было видеть букеты штыков, составленных в козлы винтовок под бронзовыми округлостями нимфы; или коробку с пулеметными лентами у мохнатых ног резного сатира, солдатские тюфяки под драгоценными гобеленами… Это нелепое смешение дворцового искусства и неказистого быта, суеты и вечности наполняло душу тоскливым ожиданием надвинувшегося вплотную конца света. И еще страшно дуло отовсюду, потому что некоторые окна были распахнуты и по коридорам плохо протопленного дворца гуляли сквозняки. Надин поплотнее запахнула пальто.
– Мерзнете? – не укрылось от Дитриха. – Хорошо бы чего-нибудь горяченького выпить… Эй, голубушка, – окликнул он ударницу с медным чайником. – Нет ли у вас тут где-нибудь буфета или что-то в этом роде?
– Какой сейчас буфет?! Чаю хотите – идемте со мной… Воду, черти, отключили! Вот еле набрать успела.
Дитрих взял у худощавой девицы в солдатских обмотках тяжелый чайник, и они пошли втроем.
В Портретной галерее строился взвод женского батальона.
– Смирно! Глаза направо! – зычно командовала высокая блондинка в офицерских ремнях.
Герои Отечественной войны изумленно взирали из своих рам на небывалое воинство. Казалось, что и они вот-вот начнут отпускать гусарские шуточки… Лихие уланы и драгуны, младые полковники и генералы выглядывали из-за женских спин, обтянутых солдатскими рубахами, будто стояли в третьей шеренге, будто и некому было прикрыть их славные тени, кроме как этим отчаянным россиянкам.
Надин смотрела на них со смешанным чувством жалости, недоумения и неприятия. Все это походило на нелепую игру женщин в мужчин. Все это было так же странно, как если бы мужчины переоделись вдруг в платья сестер милосердия и стали бы носиться с суднами, корпией, бельевыми корзинами…
Наконец они спустились в первый этаж и там в какой-то низко-сводчатой длинной зале, где расположилась на постой одна из рот «батальона смерти», нашли себе место на железных койках, сдвинутых поближе к огненному зеву камина. В камине пылали принесенные с площади березовые плахи. Прямо на них, прикрываясь фуражкой от жара, Дитрих и водрузил чайник с водой.











