Читать онлайн Катехон
- Автор: Сухбат Афлатуни
- Жанр: Современная русская литература
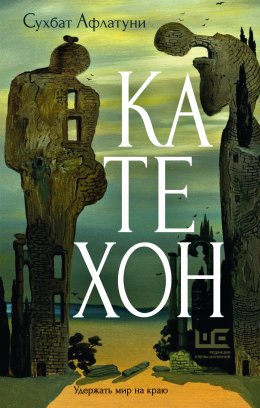
В оформлении переплета использован фрагмент картины Сальвадора Дали «Археологический отголосок “Анжелюса” Милле»
© Афлатуни С., 2024
© Сальвадор Дали, УПРАВИС, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Книга первая
Сожженный
29 октября 20… года в г. Эрфурте, Тюрингия, на Соборной площади был сожжен на костре Томас Земан, известный также под именами Ирис Мирра и Иван Ильин. Имен у казненного было столько, что их перечень, как пошутил господин Инквизитор, занимал почти половину следственного дела.
«Кажется, что он брал себе каждый день новое имя», – добавил Инквизитор, улыбнувшись журналистам.
Погода была серой, влажной, дул северный ветер. Это не смутило огромное число туристов, съехавшихся в Эрфурт, чтобы полюбоваться редким для современной Германии зрелищем. Похоже, вернулись добрые старые времена, когда убеждения воспринимались настолько серьезно, что за них могли предать огню.
Публика запаслась зонтами на случай дождя и миниатюрными термосами с кофе или глинтвейном на случай, если казнь затянется. «Бин, бин, бин», – гремели колокола.
Томас, одетый несколько карнавально, стоял у столба и потирал озябшие ладони. До этого он видел, как горят люди, только в кино. Теперь испытать это придется самому. Хотя ему уже не будет никакой разницы. Или всё-таки почувствует? Он нервно зевнул.
В толпе, ближе к трамвайным путям, стояли двое.
Один, похожий на турка, вертел зонтом. Второй отличался невнятностью черт, характерной для славянской расы.
Когда казнь закончится (когда-нибудь это должно кончиться), они быстро пойдут в его квартиру на улице Картезианцев, Картойзерштрассе. Идти недалеко. Там они будут изучать его записи. Они представляют значительный интерес, айне гроссе интерессе.
Оба агента, славянин и турок, мерзнут и поглядывают друг на друга.
Выступление господина Инквизитора, который позавчера специально прибыл из Брюсселя, уже прозвучало. Вышел человек в белом халате, блеснул шприц. Сейчас бедняге сделают усыпляющий укол. Вы сказали «бедняге»? Хорош бедняга, хотел уничтожить весь мир. И всё же он достоин сожаления. Мог бы найти лучшее применение своим способностям. Я встречал его пару раз на улице. Кто бы мог подумать.
Томас сдвинул рукав карнавального хитона. Доктор стал протирать ему руку спиртом.
Стол, за которым сидит Инквизитор, покрыт парчовой скатертью. За казнью он следит вполглаза, достает и проверяет хэнди[1]. В час обед в ратуше, потом еще пара часов до самолета. Можно поваляться с книгой или пройтись по городу. Ни то ни другое не получится. Он будет срочно дописывать отчет, сейчас пришел ремайндер[2]. Отчет о казни, а темплейтов[3] нет, придется всё самому, с нуля, как всегда.
Он проводит пальцем по парче. На материи остается темный шелковистый след. Вот и дождь. Над публикой расхлопываются зонты. Снова пискнул хэнди. От кого? Из дома. Ты в порядке, милый? Да, дорогая.
Инквизитором его назначили два месяца назад, специально для этого процесса. Их не смутило, что он не духовное лицо. Процесс замышлялся как несколько карнавальный. Доля постмодернистской иронии, мягкой игры, господа. Только пламя должно быть настоящим, что поделаешь.
Раньше он занимался правами человека. Он и теперь ими занимается. Здесь должна стоять ссылка на его си-ви[4].
Его си-ви. Крупными буквами имя. Фамилия. Родился. В тысяча. Девятьсот.
Остальное можно просто мазнуть взглядом. Никто их не читает, эти си-ви.
Между строчками начинают стучать капли. Это дождь с площади проник в сознание, а оттуда в си-ви. Темные зонты над толпой, красная парчовая скатерть.
Палач раскрывает зонт над осужденным.
Инквизитор подпирает ладонью подбородок. Два года он проработал в Страсбургском суде по правам человека. Ладонь теплая, подбородок холодный и слегка колючий.
Разве они не бывали в квартире Сожженного раньше? Сейчас отвечу, подождите. Глоток воды… Она была опечатана. Но дело не в этом; мало ли что может быть опечатано.
Разве они не бывали в его квартире?
Картойзерштрассе – улица Картезианцев. Шпассе бай зайте – шутки в сторону. Идет дождь – эз регнет.
Вы так и будете писать это на вашей кириллице?
Лучше держите ровнее зонт, коллега, у меня уже спина промокла.
Зонт выпрямляется.
Они стоят вдвоем, Турок и Славянин, затерявшись в толпе. Чуть поодаль фургон, где торгуют колбасками. Можно взять с горчицей, можно с кетчупом, не желаете?
Квартира на Картойзерштрассе стояла два месяца опечатанной. С того самого дня, как Томас Земан, он же Ирис, был арестован.
Когда за ним пришли, он как раз принимал ванну и тер мохнатую ногу, выставив ее из воды.
Нет, они не заходили внутрь. Арест произошел в подъезде, куда его выманили зеркалами и игрушками.
Он вышел в темном халате, с пеной в волосах. Он уже всё знал.
Квартиру тут же опечатали.
Вечером они побывают там. Зажгут свет, составят опись.
Идти сюда будут под новым дождем. Улицы будут обволакивать их запахом чистоты и бережливости. Фонари будут осторожно нести свой свет. Турок будет слегка покашливать: khu-khu.
Электричества в квартире не оказалось. Khu-khu. Зажгли пыльные свечи. Зажигал Славянин; Турок, покашливая латинизированным кашлем, раскрыл ноутбук. Свет от экрана осветил уставшее лицо.
«Может, утром зайдем?» – появилось сверху лицо Славянина.
«Утром здесь всё будет по-другому… ты знаешь».
Они говорили по-русски. На другом языке здесь говорить небезопасно.
Горело пять свечей. Потом зажгли еще семь, и мрак немного ушел.
Пальцы Турка прыгали по клавишам. На одном желтело кольцо.
Славянин осторожно сварил кофе.
Так они просидели почти всю ночь, не заметив, как дождь перешел в снег. Снег шел то медленно, то ускоряясь от ветра.
Над Эрфуртом шел снег.
К утру опись была составлена.
Когда он прибыл в Эрфурт, город встретил его солнцем и теплом. Цвели каштаны, в туристических местах толпились туристы.
В тот день его звали Иваном Ильиным.
Неплохое имя для первого знакомства с городом.
На вокзале его никто не встречал. Так было условлено, никакой помпы, Iwan Iljin найдет дорогу сам.
Он спустился с перрона вниз, прошел мимо пестрых магазинов. Слева за большим стеклом жил вокзальный книжный. Когда-то книги его интересовали.
Иван Ильин толкает небольшой чемодан на колесиках.
Он выходит из вокзала на полупустую площадь. Всё очень обычно. Ему нравится эта площадь. Ему нравится башня с часами. Ему нравится уютный трамвай, выруливший из-под моста. Ему нравится небо над башней, облака, напоминающие пивную пену и взбитые сливки; странное сочетание, не так ли?
Он переходит площадь, колесики тарахтят по брусчатке.
Заходит в булочную напротив вокзала. Берет поднос, вместе с чемоданом идет вдоль стойки. Удобнее было бы оставить его за столиком. Удобнее, но не безопаснее. Он берет один круассан и ускоритель времени (кофе).
Теперь мы хорошо видим его за столиком. Он заглатывает ускоритель времени, слегка притормаживая его круассаном.
Глядя на кирпичный вокзал, из которого несколько минут назад вышел, вспоминает вокзал в родном городе. Такой же кирпичный, конца девятнадцатого века. Из николаевского кирпича; теперь он снесен; даз ист шаде. Иван доедает круассан. Стрелка настроения медленно ползет вверх, проползает два деления и замирает. Подъезжающий трамвай закрывает стекло кафе с темнеющей за ним фигурой. Выходят на солнце люди. Разумеется, немцы. Все они немцы.
Это описание, коллеги, не соответствует действительности.
Звали его в тот день не Иван Ильин, а Курт Шмидт. И встретили его прямо на перроне; позвольте, я скажу: встретила женщина в светлых брюках и не сочетавшейся с ними кофте. Герр Шмидт поставил чемодан и приветствовал ее рукопожатием. Имя ее для нашего дела значения не имеет, и приводить его нет смысла. Фрау. Фрау по имени Фрау. Она порывается помочь ему катить чемодан. Не поймешь, чего в этом больше: гостеприимства или феминизма. Нет, нет, он не устал. Сам… Сам…
Они спускаются вниз. Шуршит эскалатор.
Поезд Дойче Баан, на котором он прибыл из Франкфурта, остается наверху, блестя красным лаком.
Они идут по вокзалу молча; он слышит только свое дыхание, шаги и поклацивание колесиков чемодана. Проходят под электронным расписанием, выходят на площадь. Да, это та же самая площадь. Машина фрау Фрау припаркована недалеко, пять минут. Прекрасная погода, говорит он, освежая свой немецкий. Йа, йа, кивает она, вам повезло; на прошлой неделе шли сильные дожди. Она добавляет еще что-то, но он не понимает. На всякий случай улыбается и наклоняет голову. Не желает ли господин Шмидт, э, отдохнуть унд выпить кофе? (Кивок в сторону кафе.) Нет, спасибо, он пил кофе в экспрессе. (Это правда.)
Несколько слов о Сожженном – будем для удобства называть его так.
Томас Земан (Иван Ильин, Курт Шмидт…) родился в Самарканде, старинном и известном городе Азии. Там есть много зеенсвюрдихкайтен – достопримечательностей. Разумеется, он не обращал на них никакого внимания.
Детство этого человека протекло в хрущевке напротив Регистана. Chruschjowka – тесный дом, построенный при Хрущеве; Хрущев – правитель с лысой головой; Регистан – туристическое место, тщательно отреставрированное и мертвое. Томас засыпал и просыпался как в огромной открытке. В детстве он не замечал этой красоты; потом она стала его раздражать.
Теперь обращаюсь к вам, господа психоаналитики. Половое созревание настигло Сожженного рано, классе в третьем. Под азиатским солнцем быстро зреют не только яблоки, груши и помидоры.
Сожженный быстро наливался. Тело расширялось во все стороны, играло и выпрыскивало растительность в разных местах. Ум его за всем этим не поспевал.
Томас влюблялся, страдал, потел и не знал, что с собой делать. Сжав зубы с такой силой, что, казалось, выпадут две свежие пломбы, он глядел в окно на Регистан. По Регистану водили очередную экскурсию.
С зубами у него всегда были проблемы. Смеясь, прикрывал рот ладонью.
Позже он наведет порядок во рту. Передние зубы выстроятся в стройный керамический ряд. Течение времени во рту будет остановлено, тление и кариес прекратят свою плохую работу. Привычка прикрывать рот при смехе останется. Но смеялся теперь он редко, очень редко.
Теперь, господа психоаналитики, попросим вас немного подвинуться, вот так, еще немного, чтобы дать место господам этнологам. Господин Инквизитор, вы можете не подвигаться; ваш кофе будет готов через пять минут.
Итак: самаркандцы.
Самаркандцы – особая раса. Это люди с бронированным лбом и бесперебойно работающими локтями. Самаркандец движется, как небольшой БТР, весело постреливая и объезжая препятствия.
Самаркандцев не любят, ими восхищаются, без них не могут. На пути их пытаются возвести стены, выкопать рвы и навалить мусор. Бесполезно. БТР с улыбкой едет дальше. Самаркандец процветает в торговле, преуспевает в искусствах, заполняет собой политику. Быстро становится начальником. Переплюнуть его может только какой-нибудь ташкентец, но и у этого ташкентца, если навести справки, корни окажутся в Самарканде.
Только в двух науках самаркандец не так силен: в богословии и правоведении. Тут его обгонит бухарец. Самаркандец – больше практик; бухарец – теоретик, созерцатель.
Правоведение Сожженного не привлекало. Богословие изначально тоже. Он был самаркандцем. Его привлекали точные науки и столичный Ташкент. Он поехал поступать на биофак и не поступил.
Но мы сейчас не об этом. А о чем? О чем это всё?
Если бы это был роман, то синопсис начинался бы так.
«В Эрфурте происходит неординарное для современной Германии событие: на Соборной площади устраивается аутодафе. Двое, Турок и Славянин, продолжают расследование преступлений, которые совершил Сожженный. Они оба – сотрудники некоего Института (eines Instituts), главной задачей которого является изучение сознания Сож-женного. По его записям они реконструируют его жизнь в Самарканде, его друзей, его учебу на философском факультете в Ташкенте, а также женщину, требовавшую в знак любви принести ей череп».
Но это не роман, и синопсис здесь не нужен. Но что это тогда?
Нелегко рассказывать о мерзавце. Вы уверены, что казнимый был мерзавцем?
Тут должно быть немного тишины и слегка неуверенного сопения.
Турок думает.
Потом говорит на густом выдохе: «Da». Да.
Изо рта у него пахнет только что съеденной пиццей. Кашель почти прошел.
Стоп!
Отматываем немного назад.
Пламя на Домплац горит в обратную сторону и гаснет, люди разбегаются, чертово колесо мелькает, как велосипедное.
Турок сжимает веки: и так глазам больно. Светящаяся рябь от экрана пробегает по его лицу. Рядом с клавиатурой лежит надкусанный слайс пиццы… Стоп.
…Томас едет в интерсити-экспрессе.
Вид за окном сливается в одну бесшумную зеленую ленту. По проходу тихо ползет тележка с напитками и закусками. «Как катафалк», – думает Томас. Как «катафалк» будет по-немецки? Он не помнит.
…Томас пьет кофе.
…Добавляет сливки.
Любовный союз темного и белого.
…Сливки распускаются, кофе светлеет, и еще светлеет, и еще.
Катафалк по-немецки будет ляйхен-ваген. Вагон для трупа.
Жаль, он не взял к кофе сэндвич с сыром. Чья это мысль? Варианты: Сожженного, Турка, Великого Инквизитора.
Игра продолжается.
Инквизитор лежит в ванне. Вокруг шелестит пена, похожая на облака, которые он только утром видел в иллюминаторе. И через несколько часов увидит снова.
Поэту такое сравнение показалось бы пошлым. Когда-то Инквизитор сам писал стихи, но быстро избавился от этой привычки – не понадобился даже курс психотерапии, дорогой и бесполезный.
Что-то всё же осталось. Какие-то рудименты, шалости правого полушария. Он потер мокрое колено.
Пена пришла в движение. «Хлюп», – сказала вода.
Когда возрождали инквизицию, многие были против. Не слишком славное прошлое. Сомнительный бренд. Запах паленого мяса, «Молот ведьм», дискриминация.
Но где было найти другой замедлитель?
Здесь, наедине с собой, без рубашки, галстука и трусов (аккуратно темнеют на крючке), можно признаться. Идея эта принадлежала всё тому же Сожженному. И она сработала.
Почти все его идеи срабатывали. Почему «почти»? Инквизитор снова трет колено. Все срабатывали. Это и стало вызывать подозрения – с какого-то момента.
Мсье Гильотен тоже испытал свое изобретение на своей немытой (в тюрьме было сложно соблюдать гигиену) шее.
Впрочем, Гильотен не был ее изобретателем – просто предложил этот вид казни как более гуманный. Он был масон и имел чувствительное сердце. Казнимый, он утверждал, почти не почувствует боли. А гильотину, по его общему эскизу, собрал Тобиас Шмидт, изготовитель клавесинов. Без немцев, как всегда, не обошлось. Без немцев, музыки и смерти.
Вода тихо остывает. Сколько можно лежать и вести мысленный диалог со своими мыльными ногами и животом? Пора.
Когда Сожженного пришли арестовывать, он тоже принимал ванну, вспоминает Инквизитор.
И быстро вытаскивает пробку из отверстия слива. Вода устремляется в черную извилистую пустоту.
Сожженный любил море.
Он мало что любил. Женщины и деньги волновали его в зрелые годы слабо. Искусство оставляло холодным, он почти не посещал картинные галереи и не ходил по залам. Он не любил сумеречные натюрморты голландцев. Не любил слишком солнечные, до рези в глазах, пейзажи импрессионистов. Не любил сам дух неторопливой смерти, воплощенный в музеях. Хотя и отдавал должное этим воронкам времени, освещавшихся сочетанием естественного и искусственного света.
Море, как ни странно, любил.
Сожженный снимает сандалии, подворачивает джинсы и идет по песку. Ступня чутко регистрирует, как песок становится всё более влажным. Он останавливается.
До его казни есть немного времени.
Балтийское море бежит на него и, притормозив, пускает пену.
Пошевелив пальцами ног, он входит в воду.
Пляж пуст, купальный сезон ист цу энде. Встретилась лишь группка посиневших от ветра нудистов; ему вежливо улыбнулись.
Да, да, вода холодная. Еще одна волна разрушилась и отрыгнула пеной.
Сколько ему еще позволят вот так ходить под угасающим немецким солнцем, шевеля в воде ногой?
Днем он съездил на остатки бывшего языческого капища. Местные племена долго не хотели поклоняться Кресту, полагаясь на эффективность человеческих жертвоприношений. Кто это были? Славяне? Балты? Лезть в поисковик было лень.
Ведутся раскопки; господа археологи извлекают кости господ жертв.
Свое первое жертвоприношение он совершил еще в Самарканде. Убил муху, оторвал у нее крылья. Положил рядом на камень. Стал читать «Муху-цокотуху» и совершать особые поклоны. Кажется, он наколдовал тогда дождь.
На философском факультете он вызывал дух Ницше перед экзаменом. Вместо него явился Карл Маркс и тряс бородой. Однокурсницы шепотом умоляли включить свет.
Новая волна взорвалась совсем рядом, он почувствовал ее лицом.
Пошел к берегу, спиной к садящемуся солнцу.
Сожженный выходит из пены, как невзрачная Афродита мужского пола.
К нему устремляются вырезанные фигуры из картины Боттичелли. Слева, надув щеки, свистит балтийский Боре́й. К мокрым ногам липнет песок.
Мы немного забегаем вперед. Время для экфрасисов еще не настало. И для всплытия Фульского короля – тоже; alles zu seiner Zeit, всему свое время.
Как показало следствие, в молодости он был влюбчив. Он носил просторные брюки и встречался с девушками на бульваре.
Он выбирал сереньких и непритязательных, они обходились недорого, что было немаловажно: денег у него почти не было.
Деньги появятся позже.
В детстве они его гипнотизировали.
Он украл из тумбочки двадцать пять рублей и долго любовался ими.
Светло-фиолетовая голова Ленина, срезанная по надплечье, парила в темно-фиолетовой пустоте. Голова была в каких-то тонких линиях, напоминавших волны. Что это были за волны, откуда они накатывали? Что это была за тьма, в которой одиноко висела голова вождя? Бородка была вытянута вперед. Глаза щурились на герб, украшенный, как бакенбардами, снопами пшеницы.
Над гербом, в тех же черничных сумерках, висела надпись. «Би… – читал он, – …лет Го… Государ…»
Слово «билет» его околдовало.
Билеты бывали в автобусе, они были маленькими и неинтересными и ничего, кроме давки, пота и тошноты, не обещали.
Бывали билеты в кино, они были больше и на синеватой бумаге. Это был пропуск в мир внезапной темноты и длинного луча над головой; мир, в котором можно было грызть семечки (он не грыз) и кричать киномеханику, когда обрывалась пленка: «Сапожник!» (он не кричал).
Когда позже, на философском, он прочел у Платона миф о пещере, он всё понял. Платон описал в нем кинозал. И чувство рези в глазах, когда выходишь после кино на свет. Только у Платона уход из пещеры и движущихся теней на стенах означал прорыв к подлинному бытию. В его детстве всё было наоборот: подлинное оставалось там, в темноте. Там висел луч, и на экране расцветала реальность. А выход из кино на солнце и пыльный асфальт был как раз возвращением в пещеру подобий.
Все эти мысли, конечно, пришли позже.
А теперь верните, пожалуйста, изображение маленького мальчика с фиолетовой купюрой в руках. Нет, еще немного назад… Да.
Так вот, о билете.
Слово «билет» на купюре обещало даже что-то большее, чем кино. «Билет Государственного Банка СССР». Оно обещало что-то небывалое, страшное и сладкое, вроде взрослой карусели «Сатурн». Кольцо несется вниз, взрослые кричат и визжат.
Это было, конечно, обманом.
Советские деньги были почти бессмысленной вещью; всё сладкое, небывалое и просто удобное было дефицитом – слово резкое, как щелчок по носу. Деньги не столько тратили, сколько копили. Прятали под матрасы, в дымоходы, в темные, пропахшие нафталином шкафы. В вытяжки, обернув в полиэтилен. В книжные полки, за бессмысленные, не читаемые ни при какой погоде книги. На антресоли, за маринованными огурцами, которые шевелились, когда банки тревожили.
В любимой сказке советских детей деревянный мальчик закапывал деньги в землю.
Деньги тогда, как он потом понял, имели другое значение. Эстетическое. Сакральное.
Это особенно чувствовалось в сравнении с долларом, чей зеленоватый свет тускло озарял его зрелые годы. Доллары были просто деньгами, их легко было тратить, и они утекали, нежно шурша. Они неслись потоком, мировой рекой, более быстрой, чем Амазонка, более широкой, чем Ганг, более длинной, чем… он не мог вспомнить самую длинную реку, а лезть в Сеть за подсказкой снова было лень.
Эта огромная шуршащая река опоясывала Землю.
На берегах ее толпились голые дикие люди, мужчины и женщины. Они осторожно жгли костры, стараясь не поджечь реку, которая их кормила, и ждали, когда на берег будет выброшено еще несколько перетянутых резинкой пачек. Входить в нее и даже близко подходить они боялись. Иногда какие-то нервные женщины, устав от ожидания и бесполезных мужчин, бросались в нее. Вначале было слышно, как они смеются: купюры и монеты щекотали их, подхватывали и несли. Потом доносились удивленные стоны: бумажные и металлические волны проникали в них, во все отверстия; мужчины на берегу затыкали уши, а детей уводили и отвлекали играми. Наконец, стоны прекращались: река забивала собой все внутренности купальщиц. Мужчины переставали затыкать уши, детей приводили обратно, о женщинах забывали и имена их писали на песке, чтобы ветер стер их.
Нет, всё было, конечно, проще, без криков и утопленниц. Товар – деньги – товар. Долларовая река текла, непрерывно обмениваясь на вещественные блага. Машины, колбасы, пушистые домашние тапки, раскладывающиеся диваны, лосьоны до и после бритья; всё это можно было увидеть, пощупать и лизнуть.
Советский рубль никуда не тек, он разливался мелкой водой по одной шестой части суши, зарастал ряской и пускал кислые пузыри.
На долларе присутствовало имя бога. Ин Гад ви траст.
На украденной двадцатипятирублевке – имя беса. «Жыйырма бес сом», – читал он. Он учился читать по деньгам.
«Жыйырма бес сом». Это был, вероятно, водяной бес: ловил сома и жарил его. И жрал. «Жыйырма бес сом».
Этот бес болтал копытцами в стоячей воде, а рядом топорщились обглоданные кости сома или другой рыбы. В мохнатом животе бурчало. «Эх, – думал бес. – Жыйырма бес сом!.. Двадцать пять карбованцiв», – добавлял, переходя зачем-то на другой братский язык.
Чуть правее, из-за лесочка, выстриженного в виде букв «СССР», пыталось взойти солнце. И не могло, что-то ему мешало. Лучи его были с зеленоватым отливом.
Под восходящим солнцем помещался транспарант: «Подделка билетов Государственного Банка СССР преследуется по закону».
В этой надписи было что-то непонятное, пугающе сладкое. Что это значило, знал загадочный бес-ихтиофаг. Но скрывал и таился.
«При коммунизме денег вообще не будет», – слышал он в детстве. Звучало это как-то неуверенно. Он видел, как взрослые прячут деньги.
«Выйди из комнаты!» – говорили ему. И прятали деньги. Или, наоборот, доставали их откуда-то, обдувая от пыли.
Он шел во двор, гладил кору деревьев, нагретую розово-зеленоватым солнцем, чертил носком сандалии на мокрой глине. Или шел в гостиную и подставлял палец под секундную стрелку часов, тикавших на трюмо. Остановленная стрелка бессмысленно вздрагивала. Почти то же самое делали в соседней комнате. Где вытаскивали и пересчитывали деньги.
Деньги были их катехоном. Деньги останавливали время, замораживали его. Замороженное солнце не могло взойти. Замороженная голова вождя, покрытая инеем, застыла в фиолетовой пустоте.
Советские рубли не были символом богатства: не только подделка, но и слишком большое их скопление в чьих-то руках было делом рискованным. И бессмысленным.
Таинственные «билеты» были не для того: они удерживали невидимым пальцем невидимую стрелку.
Позже он обратил внимание на число «1961». Год денежной реформы. Если перевернуть его, будет то же самое. 1961. Точка абсолютного покоя, залипания времени на годе-перевертыше.
В стране это пока не чувствовалось, страна еще рвалась куда-то. В будущее, в коммунизм, в космос, в другое полушарие, пусть даже в виде маленькой карнавальной Кубы. В архитектуре – неоконструктивизм, в мебели – предельная функциональность, точно всё это было временно, всё это собирались вскоре бросить и рвануть куда-то всем скопом, всей страной, в новое небо и новую землю.
А на деньгах время уже застыло и слегка поползло назад. На деньгах уже бугрились те самые декоративные «излишества», с которыми еще вели борьбу. Это было царство тяжелой лепнины, пыльных барельефов и года-перевертня «1961».
В этот год (напоминает кто-то из зала) человек полетел в космос.
Космос оказался одновременно и раскаленным, и ледяным, и зловеще красивым. В нем не было времени. Это было чистое, не тронутое временем пространство. По сути, это и был ад. Время осталось внизу, на Земле.
Фотогеничный улыбчивый парень, которого вытолкнули в космос, вернулся к людям, но продолжал носить в себе, под кителем, рубашкой и майкой, кусочек этого ада. И чем больше он улыбался и старался забыть, тем сильнее разрасталась в нем эта пустота, пустота циферблата с замороженными стрелками. В конце концов он сел в военный самолет, набрал высоту и разбился. Возможно, это не было сознательным решением. Так решила пустота, сидевшая в нем.
«Сидит бабка на Луне: / Чистила картошку. / К ней Гагарин прилетел, / Сыграл на гармошке».
Это пел сосед возле самаркандского дома. И притопывал одной ногой; другую у него отгрызла война.
Чем всё закончилось у бабки с Гагариным, в частушке не сообщалось. Возможно, потешив ее игрой, он взял инструмент и ушел обратно на корабль. На Луне он, в общем-то, и не был: на ней был американец Армстронг. Но вероятность того, что на гармошке играл Армстронг, была еще меньше.
Мальчик стоит на мокрой глине и слушает. Лунная старуха тоже слушает с недочищенной картофелиной в руках.
Он всё еще держит фиолетовую купюру?
Нет, он уже разглядывает доллар.
В 1991 году их факультет посетила группа американских профессоров. Студентов на встречу не звали; он пришел сам и сел сбоку. На него недобро посмотрели, но не выгнали. Встреча уже шла; факультетские преподаватели сидели на ободранных креслах, гости – за столом с виноградом, мухами и чайником.
Он задал с места какой-то вопрос. Кажется, о Фукуяме и его «Конце истории». Американцы потеплели и оживились; декан снова поглядел на него, но промолчал.
После встречи они стояли возле грязно-розового здания факультета и ждали автобус. Сожженный терся возле одного из профессоров, пытаясь общаться. Тот улыбался, задавал простые вопросы, на которые было сложно ответить: о студенческой жизни, о Самарканде, куда их (американцев) возили накануне. Пообещал прислать Фукуяму на английском. Да, будет рад переписке. Прощаясь (подъехал автобус), стал искать, на чем записать имя и адрес. Sorry, он раздал уже все визитки… И записал его на однодолларовой купюре.
В 1991 году стрелка, залипшая тридцатью годами раньше, дрогнула и поползла вперед.
1961-й был годом-перевертышем. 1991-й – годом-палиндромом.
Дар американского профессора, полустертая купюра с лицом однофамильца американской столицы, оказался символичным.
В конце 1991 года Государственный Банк СССР исчез. Вместе с самим государством из трех свистящих согласных и одного альвеолярного.
«Билеты» исчезнувшего Банка еще немного покружились пожухлой листвой над исчезнувшим государством. И тоже исчезли. Их заменили другие, менее интересные для разглядывания. Манаты, сомы, карбованцы, которые до того были лишь, так сказать, псевдонимами рубля. Псевдонимами они, впрочем, и остались – только теперь не рубля, а той самой зеленоватой бумажки с неразборчивым адресом американского профессора.
Начался, как и было на ней обещано, Novus ordo seclorum.
«Что это значит?»
Латынь на философском факультете не изучали.
«Новый порядок веков», – ответил он сам себе года через два, покопавшись в словаре. Латинский, правда, так и не выучил.
«Новый порядок веков» был порядком серо-зеленой мировой реки, сухую каплю которой ему вручили тогда, в 1991-м, у философского факультета.
Он думал, что это откуда-то из Библии. «…И во веки веков».
Нет.
Из Вергилия, четвертая эклога.
Ultima Cumaei venit iam carminis aetas… Последнее, по песням Кумской Сивиллы, наступает время.
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo… Великий сызнова рождается порядок веков.
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna… Возвращается и Дева-Справедливость, возвращается Сатурново царство.
Надпись на чуть помятой банкноте означала возвращение царства Сатурна.
Этот Сатурн, вероятно, и был тем богом, «Гадом», в которого «ви траст». Ему же, вероятно, принадлежал и глаз, подглядывавший сквозь треугольную замочную скважину в небе.
В храме Сатурна в Риме хранилась государственная казна. Среди римских богов Сатурн ведал временем, текучим и всепоглощающим.
Он прочел об этом в черном словаре «Мифы народов мира», том второй, стр. 417. Пока читал, книга лежала на голых мохнатых ляжках, дело было летом. Все знают, что такое ташкентское лето? Кожа, придавленная обложкой, потела.
Он любил это ощущение раскрытого тома, лежащего на голых ногах. Почти так же, как типографский запах новых книг и библиотечный запах старых.
Завершим, дамы и господа, тему денег. Тем более что пальцы устали и пора пить кофе. Те двадцать пять рублей, украденные из тумбочки, не сохранились: поразглядывав, он забыл о них, выронил, они были обнаружены кем-то из домашних и возвращены в семейный бюджет.
А вот доллар уцелел: Сожженный возил его всегда с собой.
Последнее место, где он хранился, был дом на Кар-тойзерштрассе; верхний выдвижной ящик письменного стола. Доллар привлек внимание написанным на нем адресом и был приобщен к делу. Удалось установить и лицо, написавшее адрес. Профессор одного из провинциальных университетов. К тому времени уже покинувший мир и переселившийся, вероятно, в тихий кленовый рай для американских профессоров.
Я предложил бы, господа, на время отвлечься от рассказа о Сожженном и прогуляться по городу.
Шпацирен, шпацирен. Что значит (зажимаем нос, чтоб погнусавее): гулять, гулять.
А мы и так по нему гуляем, вы разве не заметили? Пройдя несколько нагретых улиц, мы уже вышли к реке. Чувствуете влажный воздух? Разговор о деньгах затянулся, я решил тихо пройтись с камерой по романтичным переулкам.
«Ненавижу это слово».
Простите?
«Романтичный».
В Германии оно звучит не так пошло… Ну вот и прекрасно. Можно подойти к реке поближе и потестировать рукой воду. Осторожно, не вспугните уток. Можно прилечь на траву. Старые каштаны будут стеречь ваш чуткий сон, коллега.
Как вы думаете, стоит немного рассказать им о городе?
Я думаю, в век Википедии и лоукостеров это бессмысленно. Кому это сегодня интересно? Европа стала общедоступна. К тому же Эрфурт… Смотрите, это белка?
Двое мужчин, относительно молодых, лежат на газоне.
Если сделать звук громче, станет слышно, как течет Гера.
Белка, попрыгав в невысокой траве, устремляется синкопами на дерево. Это каштан. В городе много больших, старых каштанов.
Кстати, знакомство Сожженного с городом тоже началось с Википедии.
Получив приглашение (никакого приглашения он не получал), он открыл еще одно окно и быстро набрал: «Эрфурт».
Внимание его привлек герб города: серебряное колесо с шестью спицами на красном фоне.
Колесо – знак возвращения.
Шесть – число дней творения.
Красный – цвет крови.
Отойдя от ноутбука, он мысленно закурил.
Время толкало его в этот город. Не судьба: судьбы не существовало, он это знал. Мысленная сигарета дотлела до фильтра и слегка обожгла пальцы – он поморщился и помотал ими в воздухе.
Колесо с шестью спицами лязгнуло и покатилось по кровавому полю.
«А я качусь, качусь, – пело колесо, – качусь я и качусь!»
Двое мужчин, два фрагмента живой материи, лежат на красноватой траве города Катящегося Колеса. Один, похожий на турка, разглядывает большой палец левой ноги и легонько шевелит им.
Мы возле старой эрфуртской синагоги. В ней, разумеется, музей: во всех старых синагогах теперь музеи, по всей Европе.
Турок и Славянин шпацирят мимо нее, делая вид, что не замечают, что их снимают. Собственно, никто их не снимает, просто такое ощущение.
«Нужно идти и делать вид, что ничего не происходит, – говорит им внутренний голос. – Мы просто идем».
От длительного вынужденного общения внутренний голос у них стал одним на двоих. Иногда он начинает говорить по-турецки, и тогда Славянин морщится и просит голос сделать себя тише.
Двое мужчин просто идут. Просто проходят мимо старой синагоги. Один заходит во двор и теперь хорошо виден на фоне выбеленной бугристой стены. С пятью узкими окнами и одним круглым, вроде розы.
Внимание, выбираем время года: поздняя весна… лето… ранняя осень. Без осадков, но свет слегка сумеречный. Лицо становится светлее, стена – темнее.
Турок остается мысленно покурить на улице; к евреям у него сложное отношение. Он не против евреев, нет, у него нет к ним никакой личной неприязни. Просто старается держаться подальше от их ядовитых щупальцев, опутавших мир.
Но думает он сейчас не об этом. Он думает о джинсах, о погоде, о ногтях правой руки и почему-то о Ленине. Но о Ленине совсем недолго.
А Славянин думает о синагоге. Это видно по его лицу. Когда мужчина думает о женщине, сквозь его лицо проступает женщина. Когда мужчина думает о синагоге, сквозь его лицо проступает синагога. Сквозь череп, лицевые мышцы и кожу. Даже если он не еврей. Сейчас его лицо наполнилось синагогой, как миква – подогретой водой.
Сожженный тоже любил приходить сюда. И сквозь его плохо выбритое лицо (в последние недели до ареста он запустил себя) тоже проступала синагога. Настолько сильно, что ему приходилось отворачиваться к бугристой стене. Если дело происходило вечером, то стена освещалась сполохами. Это синагога на его лице загоралась, и несколько близлежащих домов с нею. Огонь бегал по щекам и носу, а из глаз, как из окон, выбрасывались горящие люди и исчезали в области небритого подбородка. Тогда он прикрывал глаза, и несчастные горели внутри, колотя во внутреннюю поверхность век.
21 марта 1349 года, при переходе Солнца из дома Рыб в дом Овна, тьма над эрфуртским еврейством сгустилась и изверглась багровым дождем.
До Эрфурта доползла чума, люди умирали быстро и тяжело. По городу ходили флагелланты, щелкая себя бичом по спинам. Следом шла сама чума в облике крысы, Rattus rattus, в тяжелой юбке и, приплясывая, указывала лапкой то на один, то на другой дом.
И тогда начался погром.
Шла молва, что это евреи распространяют чуму, подсыпав яд в колодцы. Это казалось правдоподобным. Если в городе есть евреи и есть колодцы, то этого, мои дорогие, нельзя исключать. Даже ученые люди города были готовы поверить в это. Пусть не все евреи, говорили они, но какие-то могли отравлять колодцы. Хотя бы даже только один колодец. Просто уронить туда яд, случайно.
В погроме погиб Александр Зуслин ха-Коэн, великий талмудист своего эона.
Зуслин, или Зюскинд, что значило «сладкий ребеночек», родился в Эрфурте и погиб в Эрфурте. Он был раввином Вормским, потом Кёльнским, потом Франкфуртским. Он составил «Аггаду», сборник судебных решений, вынесенных великими раввинами прошлого. Он дозволял жене разводиться с мужем, если тот часто хаживал к блудницам.
«Господинчик мой, сладость моя», – напевали еврейские блудницы в городах Вормсе, Кёльне и Эрфурте.
Он просил не величать себя «талмид-хахам», знатоком Закона. Эпоха подлинных знатоков, братья мои, уже прошла. Мы лишь жалкая их тень, добавлял он и разводил руками, вот так. (Следует жест.)
После погромов в городах Вормсе, Кёльне и Эрфурте не осталось евреев. А чума – чума не ушла. В 1359 году она повторно навестила Эрфурт. Она снова шла по городу и поворачивала крысиную морду то направо, то налево. За десять недель в городе умерло шестнадцать тысяч жителей. Оставшиеся в живых плакали от горя и от злости, что некого было уже в этом обвинить.
Сожженный, он же Томас, он же Иван, любил приходить сюда. О чем он думал, осталось неизвестным. Вероятно, просто отматывал в голове время назад, любуясь черною толпой, врывающейся в еврейские дома и выбрасывающей добро из окон с криками: «Лови, Ганс! Держи, Фриц!» Добро летело из окон. И Фриц держал, и Ганс ловил.
Потом Сожженный быстро уходил оттуда, точно что-то обожгло его. И старался не оборачиваться, иначе толпа могла его заметить и принять, с его самаркандской внешностью, за еврея. Или чумная крыса, Rattus rattus, – указать на него когтистой лапкой. Только через пару кварталов, простучав каблуками по переулкам, он останавливался, переводил дыхание и тер черный подбородок. Лицо его снова становилось пустым и погасшим.
Когда еврейские дома догорали и пепел остывал, туда приходили малоимущие горожане и беженцы. Они аккуратно расчищали пепел. Искали золотишко, драгоценности, некоторым везло – находили.
Это было одно из первых его открытий; он еще учился на философском факультете и дремал на истории КПСС, которую читал старый высокий казах.
Он уже тогда понял, что история – всего лишь мелкие волны на поверхности тяжелых, бездонных вод. Даже не волны – рябь.
После той операции под общим наркозом (об этом дальше) он убедился в существовании ада.
Это приведет его к признанию бытия Божия. Если есть ад, значит, есть Бог. Он назвал это «силлогизмом грешника».
Он был материалистом. В какой-то степени он оставался им всю жизнь. Но его представление о материи отличалось от того, которое им вдалбливали (больше по привычке).
Материя – небытие, меон. Сноску поставить? Ставим сноску. Ме он, не-бытие, греч. Так называл материю Платон, родился тогда-то, умер тогда-то.
Материя – небытие. «А что же тогда бытие?» – спросил кто-то из однокурсников, когда их везли на хлопок.
«Бытия нет», – ответил он и, пользуясь растерянностью собеседника, стрельнул у него сигарету.
Тогда его еще звали Фархад.
Или просто Фа́ра. Он стоически сносил это имя, как и множество других, которыми он обрастал, как угрями в юности и морщинами в зрелости.
Фара.
«Фара, так что ж тогда есть, если даже бытия нет?»
Автобус потряхивало, никотин приятно обжигал грудь.
«Ничего нет. – Он выпустил дым. – Ничего».
Вечером он излагал свою теорию, свесив с верхнего яруса грязные ноги в трико. Нары были двухъярусными. Коньяк был дешевым, щипал язык и внутренности. Его остаток прятали под подушкой.
Ад находится где-то возле ядра Земли. (Он качнул ногой.) Ядро расплавленное.
«Ну, предположим», – сказал кто-то.
Он не отреагировал. Качнул ногой еще раз и продолжал.
Если ад существует – физически, он должен как-то взаимодействовать… (Он закашлялся… коньяк паленый…) Как-то взаимодействовать с поверхностью Земли. Влиять. Через вулканы.
«А землетрясения?»
Не так очевидно. А вулканы… Да, извержения. Наиболее крупные.
Сопоставим факты, говорил он, смочив горло коньяком, который уже не казался таким наждачным. Сопоставим факты.
Сценарий один и тот же. Какое-то царство или даже два-три достигают могущества. Потом где-то извергается вулкан. Дикие перемены с погодой. Летом холодно или солнце кажется синим. Вспыхивает эпидемия, сотни тысяч смертей. И всё рушится: порядок, религиозные устои. Возникает что-то совсем новое, неожиданное и дикое.
Народ помолчал и потребовал примеров.
Он стал загибать пальцы с нестрижеными ногтями.
Четыреста тридцатый год. Да, конечно, до нашей.
Афины в зените могущества, расцвет искусства, торговли, софистики и педерастии (смешок на ниж-нем ярусе). Перикл строит свой Парфенон, Фидий вытесывает свою Афину, Сократ разрабатывает свою майевтику… Осталось только разбить этих тупых спартанцев, а там, глядишь, двинем наши доблестные афинские рати на персов, чья империя уже шаталась, как гнилой зуб. Война со Спартой началась, правда, не супер, но ничего, ребята, мы сейчас чуть поднатужимся и покажем этим тупорылым, где зимуют раки, которые, как мы знаем из Чехова, в Греции тоже есть.
«У него было про омаров…»
И вот тут (на омаров он не стал реагировать) вдруг начинается полная фигня. Да, я сказал «фигня»; херня еще не наступила, давайте придерживаться терминологической точности. Так вот. В Афинах вспыхивает чума, народ тысячами вымирает, бунтует, Перикла отстраняют от командования, вскоре он тоже загибается от чумы… которая, видимо, была брюшным тифом, но с точки зрения диалектического материализма…
«Попрошу при дамах не выражаться», – перебили его третьекурсники, занявшие лучшие места и открыто обжимавшиеся на правах старших.
Молчите, презренные экзистенциалисты. Учение Маркса всесильно, потому что верно, а кто с этим не согласен, пусть бежит за коньяком.
Третьекурсники, переглянувшись, собрались уже стянуть борзого оратора с верхних нар и вывести на воздух. Но бывшие при них третьекурсницы прижались к ним еще тесней и засопели забитыми носами еще слаще.
«Ладно, чё там у тебя дальше?»
Так вот, продолжал он, с точки зрения марксизма-ленинизма это не так важно. Чума, прокатившись по Афинам, перебралась в Спарту, потом к персам и угасла где-то за горизонтом, у гипербореев или псоглавцев. В Греции свое дело она сделала. С этого момента – внимание! – там начинается диалектическая трансформация фигни в херню. И Афины, и Спарта угасают. Зато стремительно возвышается Македония, ну и…
«Понятно, – сказали люди. – Александр, эпоха эллинизма… На истфак тебе поступать надо было, Фара. Остался коньяк?»
Коньяка не осталось.
«Не, без коньяка слушать дальше эту лабуду…» – сказал кто-то из несвоих, обиделся и ушел. Но свои приготовились слушать дальше. «Лады, а вулканы здесь при чем?»
При том, товарищи. В четыреста сорок втором году, за двенадцать лет до афинской чумы, было сильнейшее извержение вулкана Попа.
«И где эта Попа находилась?»
В Бирме.
«И повлияла на Грецию?»
В воздух поднялись миллионы тонн пепла. Произошла мутация вирусов.
«Да… Надо еще за коньяком сходить».
Скинулись, отправили гонцов.
«Хорошо. Еще примеры».
Это заговорил истфак, привлеченный умным разговором и выпивкой.
Фара собрался говорить, но его перебили.
«Извержение Везувия… После него тоже была чума?»
Он задумался. Точнее, сделал вид. Держать паузу в философском споре не менее важно, чем в театре.
Нет, эпидемии не было. Но и извержение было не таким уж сверхмощным по планетарным меркам. Римляне его запомнили, потому что оно случилось у них под носом, три города засыпало. Хотя, если так посмотреть…
«В смысле?»
Рим в семидесятых чем-то напоминал Афины перед афинской чумой. Колоссальное строительство по всей империи. Нерон после пожара заново отстраивает Рим. Возводит знаменитый Золотой дворец. А потом да, где-то с извержения начинается медленный закат. И крепнет новая сила. Христиане то есть.
Тут как раз гонцы вернулись, но без коньяка. Попытались шумно рассказать, почему без, на них зашикали.
Юстинианова чума, загибает палец Фара.
И голос его полетел, полетел… Полетал по бараку, вылетел на воздух. А там, на воздухе, луна сквозь горьковатый туман светит и холодно. Стебли и сухие листья хлопчатника люди жгут, поэтому горьковатый. Хлопковое поле темное, мокрое. Летает над ним одинокий голос, про Юстинианову чуму слабой луне рассказывает.
Конец пятисот тридцатых. Византия на взлете. Успешные военные походы; строительство, да, бешеное строительство; храм Софии, «Победих тя, Соломоне!». Только вот разгромим этих варваров, персов, окончательно вернем себе Италию.
И тут начинается…
«…Если пользоваться вашей тонкой философской терминологией – фигня».
Фара кивнул. А по более строгой дистинкции – полная фигня, fignia totalis. Извергается не один, а два или даже три вулкана. Наступает что-то вроде ядерной зимы, солнце светит как луна, летом все мерзнут. И следом – знаменитая чума, треть Византии вымирает. Достается и персам, даже до Британии зараза добралась. Но главное – Второму Риму уже не подняться; закат, сумерки, ночь. Возникает новая религия…
«Ислам?»
Он самый. И новая политическая сила – арабский халифат. И подминает под себя и Иран, и пол-Византии, и Испанию…
«И у нас здесь тоже неплохо поработали».
Народ эволюционно трезвел и расходился; ушли, не отлепляясь от своих девушек, третьекурсники. Кто-то выходил покурить, помолчать, помочиться в лунный свет, вымыть руки и вернуться обратно. Фара немного устал от себя, голос звучал глухо, но несколько ушей еще осталось и слушало.
Он рассказывал… он рассказывал о Великой Чуме. Снова вулканы? Признаки те же. В июне тысяча пятьсот двадцать девятого в Лондоне стоят холода, дома топят, как в январе, и все носят зимнюю одежду. А потом пришла чума. И не отпускала Европу почти столетие. И власть до этого была на пике. Да, папская. И строительство до этого? А как же без него… Собор Святого Петра в Риме, который превзойдет масштабами Святую Софию, как раз в это время строится. А закончится всё Лютером и Кальвином.
«Хорошо, убедил», – зевнул баском Димыч. Это эпизодическое лицо упоминается здесь только потому, что спало под Фарой и иногда подавало реплики. Как сейчас, к примеру. Димыч стал укладываться на первый ярус. Стянул джинсы и явил миру свое нижнее белье, когда-то телесного, а теперь мышиного цвета. Сунул ноги под одеяло, глаза закрывать не стал.
«Ну, договаривай уже. Всю, блин, душу вытянул своими вулканами. Революция тоже от вулкана произошла?»
Тоже, – донеслось сверху.
«Киздишь, как Райкин», – сказал Димыч и закрыл глаза. После хло́пка он собирался вступать в партию.
Тысяча девятьсот двенадцатый год. Извержение вулкана Катмай на Аляске. Холодное лето. Алые зори из-за пепла в воздухе, которые напугали русских мистиков.
«А эпидемия? Чумы вроде не было».
Испанка.
«Что?»
Хуже, чем чума. Испанский грипп. Начался в Европе, в конце Первой мировой.
«В Испании?»
А кто его знает… – Он зевнул. – В одной Европе более миллиона смертей. А вообще около ста миллионов, где-то пять процентов тогдашнего населения Земли. Больше, чем за две мировые войны. И та же фигня: весь порядок рушится, череда… – снова зевнул, – революций, всплеск социализма по всему миру…
«И всё от вулканов?»
Люди, давайте спать. – Он уткнулся лицом в подушку, давая понять, что лекция окончена.
«Люди» молчали.
«Всё, что ты говорил, это ересь, – сказала голосом отличницы Лена Петрова. – Тебя за это когда-нибудь сожгут».
Отличницей она, кстати, не была; когда-то в школе, и то только первые два класса. А противная интонация прилипла на всю жизнь.
Сожгли его, разумеется, не за это.
Областной архив Самарканда, площадь Куксарай, 7, куда был отправлен запрос из Инквизиции, несколько приоткрыл завесу.
Прадед Сожженного оказался немцем. Карл Фогель, лютеранин унд археолог-любитель. Сохранилась и фотокарточка, сделанная в 1910 году в светописной мастерской Шерера. На ней изображен толстый человек с застывшим взглядом. Он так и не улыбнулся перед фотографическим аппаратом, как просил его тощий фотограф с фурункулом на шее. Герр Фогель не любил улыбаться, не видел смысла в этом напрасном и неприятном напряжении лицевых мышц.
В Туркестан он приехал с целью поиска родины древних арийцев.
Прибыл он в Самарканд с тяжелым чемоданом и тремя мертвыми языками: древнеиранским, согдийским и бактрийским. Для изучения живых языков вскоре женился на местной девице, словоохотливой иранке; ее словоохотливость стала одним из главных доводов в пользу брака.
Прожив с ней четыре года, он получил от нее маленькую Зизи и знание местного диалекта персидского. После чего стал раздумывать, как избавиться от своей стремительно дурневшей супруги. К тому же семья отвлекала его от поиска арийцев.
Бросить жену ему не позволяла порядочность, тайно убить ее – трусость и брезгливость. Господин Фогель глядел на нее своим тяжелым взглядом и ждал, когда с ней самой что-то случится. Долго прожить, по его расчетам, она не могла: редко мыла руки, пила неочищенную воду и ела всякую дрянь, чавкая и жмурясь от удовольствия. Но она почему-то не умирала и, кажется, собиралась осчастливить его вторым чадом. Сбережения господина Фогеля таяли, а вместе с ними и его терпение. Втайне он надеялся, что жена умрет от родов, и даже представил, как будет со скорбным лицом принимать соболезнования. Но супруга благополучно разрешилась еще одной дочкой, и вместо соболезнований пришлось выслушивать поздравления.
Древние языки забывались; родина белокурых арийцев таяла, как колотый сахар, который он позволял себе добавлять по утрам в чай. Местные русские археологи, большей частью такие же любители, считали его забавным чудаком; он их – ослами. Взгляд его стал еще тяжелее; казалось, под тяжестью этих серых навыкате глаз должны были сплющиться щеки и смяться в гармошку нос. Его мучили мигрени. А жена всё дурнела, не желая не то что умирать, но даже хотя бы простудиться. Денежные дела господина Фогеля пришли в расстройство, нервные – пребывали в нем уже давно; начало Великой войны окончательно сокрушило его: он был немецким подданным. Те, кто его знал, отмечали, что он был близок к помешательству; от переезда в дом скорби его спасла простуда, от которой он быстро и нехлопотно умер. Перед смертью он неожиданно улыбнулся, и эта улыбка застыла на нем, горькая восковая улыбка.
Супруга его, прабабка Сожженного, пережила мужа всего на несколько месяцев. Но ее смерть уже не имела для поиска прародины арийцев никакого значения. Двух девочек-сирот разобрала ее самаркандская родня.
Сожженный в детстве слышал о немецком прадеде. К тому времени герр Фогель сделался фигурой мифологической. Кто-то из родни считал, что он был революционером. «Бароном, – возражали другие, – немецким бароном», – и ссылались на какую-то визитную карточку с золотым обрезом. «Бароном и революционером», – не столько утверждали третьи, сколько пытались примирить противоречия, растворив их в наваристой шурпе родовой памяти.
О немецком прадеде Сожженный задумался в Эрфурте, раскрывая свой черный зонт неподалеку от Эгиденкирхе. Шел слабый дождь, под каштанами бродили китайцы в дождевиках.
Придерживая зонт прижатой к плечу щекой, он набрал прадеда в поисковике.
Следы его обнаружились скоро. Немного, но… забавно. (Сожженный усмехнулся.) Кто-то из тех самых археологов и любителей старины вспомнил о нем в мемуарах.
«Это был забавный тип, – сообщал мемуарист. – Невысокий, с бычьей шеей и какими-то заплаканными глазами. В Самарканд он прибыл, вычитав о доисторической прародине ариев, которая располагалась якобы где-то неподалеку. У него была феноменальная способность к языкам, которую я часто потом замечал у людей умственно неблагополучных. Он расспрашивал здешних туземцев, разглядывал черепки и даже сам где-то копал, но своих арийцев так и не раскопал. Отчаявшись в этом предприятии, он, как говорили, решил взять реванш и самому стать здесь родоначальником новой арийской расы. С этой целью он женился на местной иранке, голубоглазой, что нередко встречается в этих краях, и произвел двух детей. Проект его удался лишь наполовину: малютки были женского пола и смуглы, как ночь, а ему хотелось непременно сыновей, и белобрысых, хотя сам он был пепельный шатен. Разочарованный в своих начинаниях, он куда-то исчез в начале войны…»
Дальше шли другие воспоминания, уже не про его прадеда, и Сожженный сунул хенди в карман. Вода, капавшая с перекошенного зонта, намочила джинсы. Он вернул зонт в нормальное положение; темнело.
Итак, он родился под созвездием Скорпиона.
Пару раз он видел это мелкое насекомое в детстве в Самарканде.
Бабушка и дедушка жили в «своем» доме (сноска – уменьшаем кегль: так называли одноэтажные постройки с непременным виноградником, с темным и вонючим сортиром во дворе и кустами чайных роз). Бабушка, дочь того самого Фогеля, вечно раскатывала тесто и что-то помешивала в кипящем масле, по вечерам выдавливала усьму и подводила брови; дедушка спал. В таких домах водились тишина и скорпионы.
Однажды, когда он был у бабушки и дедушки, раздался визг. Потом крик. Потом удары кулаком в дверь.
К соседской девочке, чуть помладше его, заполз в трусики скорпион, когда она играла во дворе.
Дедушка надел пиджак и побежал вызывать скорую.
Девочка кричала, и он, стоя у забора, слушал ее крик.
Потом ее увезли, спасли и привезли обратно.
На правах старшего Фара отвел ее за кусты чайной розы, подальше от взрослых глаз, и потребовал показать ему укус. Девочка послушно показала. Ей уже не раз приходилось делать это в те дни перед родней и соседями, приходившими выразить сочувствие.
Зашипело масло и потянуло чадом, бабушка снова что-то жарила. Дедушка спал, накрыв лицо газетой «Правда».
Как выглядел укус, он не запомнил. Имя девочки тоже.
В девяностые все болели астрологией. Он не болел – так, вроде легкого насморка.
В газетах печатали астрологические прогнозы, и это было единственное, чему в газетах еще верили.
Легкое недоверие у него вызвало только то, что за половое влечение отвечало это маленькое невзрачное насекомое. Не Лев и даже не какой-нибудь Телец. Неужели всё дело в яде?
Первой умерла бабушка.
Черный казан стоял теперь пустым и пыльным; иногда в нем скапливалась дождевая вода и плавал сухой виноградный лист.
Укушенная девочка выросла; место, которое она ему показывала, быстро и мощно созрело, и она исчезла замуж.
Ему показалось, что он проснулся мертвым.
Нет, сердце билось. Нет, накануне не пил. Вообще, он мало пил последний месяц. Алкоголь и музыка не занимали в его жизни важного места. Нужно просто собрать себя. Просто себя собрать.
Если бы здесь был его верный Зарастро, он сказал бы, что нужно помолиться. Зарастро бы строго сел на кровать и сказал, что каждый последователь Света должен начинать утро с молитвы. И погладил бы себя по подбородку.
Стоп, коллега, у нас, кажется, возник новый фигурант; почему мы не видели его раньше?
Как же, он был в деле, вы просто не обратили внимания; сейчас, подождите, я найду вам его. (Следует поиск, легкий шелест клавиш, мужское дыхание.) Нет, коллега, я бы его запомнил, с таким именем. Как вы сказали – Зарастро?
Вы правы, его в деле не было.
Его, в общем, нигде не было. Он так и остался в сознании Сожженного. Он появился только на одной записи в Институте, только на одной записи. Для чего было приобщать ее к делу? С его сознанием и так было много хлопот.
Турок и Славянин у его письменного стола.
Турок, в темно-красном свитере, сидит; Славянин стоит, его пальцы касаются поверхности стола, слегка отражаясь на ней.
Жизнь уходит на отражения, думает Славянин. Это снова не его мысль.
Рядом белая чашка с остывшим кофе.
Есть ли у них имена, у двух этих мужчин. У всех есть имена. У всех людей, у всех не-людей. Вначале возникает имя, потом предмет, животное, человек. Есть имя у этого стола, этот стол зовут Фридрих. Карл Фридрих Ратенау. Но эти двое об этом не знают. Есть имя у белой чашки с остывшим кофе, ее зовут просто Лизи. Просто Лизи, когда кофе остыл, и Горячая Лизи, когда он еще горячий.
Есть имена у дождя, поющего свою долгую немецкую песню за окном; имен у дождя так много, что приводить здесь их бессмысленно.
«Зарастро…»
«Это из Моцарта, – поднимает голову Турок. – “Волшебная флейта”».
«Я не понимаю, – говорит Славянин. – Я ничего не понимаю…»
Уходит в другую комнату, зажигает там свет, смотрит на себя в зеркало.
Почему Сожженный не выпустил Зарастро, задержав его в себе, как дыхание? В сознании Сожженного была особая комната – Комната, Где Убивались Мысли. Возможно, он успел его туда отвести.
О том, как выглядела эта комната, можно судить по двум сохранившимся наброскам. Она была пустой, не считая старого стула, стоявшего посредине; на нем висело грязное полотенце.
– Я не знаю, для чего сжигать людей… Вы это серьезно спрашиваете? Нет, я не знаю.
– Я думаю, людей не нужно сжигать. В Средние века, возможно, это было нужно. Сегодня нет. Люди изменились. Посмотрите вокруг, никто не хочет никого сжигать… Кто? Да, я знаю, это было решение Евросоюза. Нам, немцам, этот человек не мешал. Нет, я не ходил туда, я же говорю, это было для туристов, для Евросоюза. Если они в Брюсселе решили его сжечь, что мы можем сделать?
Река совсем неглубокая. Возле Кремербрюке плавают утки, люди отдыхают и едят мороженое. День недели – воскресенье.
– Извините, я тороплюсь.
– Какую компанию вы представляете? У вас есть право задавать такой вопрос?
– Нет, я не верю, что он мог уничтожить человечество и что он был расистом. Просто кого-то надо было сделать виновным в этом всём. Я имею в виду недавние события. Я бы еще понял, если бы он был из этих… ну, вы понимаете. Из этих, которые теперь везде. Но я видел его лицо. Я думаю, нам что-то недосказали.
– Я бы хотел не согласиться. Я всё внимательно прочитал. Он из Самарканда. Я… мы с женой там были два года назад… нет, не три, Кати, я скажу. Мы были два или три года назад как туристы, и я могу сказать, я, мы видели гробницу Тамерлана. Многие не знают ее, но мы с Кати там были. Там его гробница, а он хотел завоевать весь мир. Он победил Турцию, он почти победил русских, еще немного, он бы пришел к нам сюда. А он вырос там, в этом Самарканде, где мы с женой отдыхали… Ты что-то хочешь сказать? Нет? Хорошо… Когда человек растет рядом с гробницей завоевателя мира, у него могут возникнуть разные мысли, вот что я скажу. Я не говорю, что его надо было прямо сжигать, но мы должны… вы понимаете…
– Сжечь! (Смех.) Всех сжечь!
Речка такая мелкая, что хочется снять обувь и перейти ее вброд. Но этого никто не делает, все мирно пасутся вдоль берега. Вода утекает под темную арку моста, оживляя ее бликами.
Бродили с отцом до сумерек по пустырю, искали булыжник для засолки капусты. На капусту в баке кладется сверху тарелка. Чтобы придавить ее, нужен булыжник.
Ему одиннадцать лет.
– Может, этот? – Он слегка пинает один.
Отец мотает головой. На отце синяя спортивная шапка.
Весь дом солит капусту. Русские – «белую», армяне – «красную»: со свеклой, травами и чесноком. Баки и ведра с капустой держат на балконах, под веревками для сушки белья.
Булыжник нес он, перед собой. Даже дал ему имя – Арнольд. Пока поднимались на третий этаж, два раза опускал Арнольда на пол. Дышал и ждал, что отец поможет.
Весь вечер они шинковали капусту. Работал телевизор.
От их дома до Гур-Эмира было минут пятнадцать неторопливого самаркандского шага. Он не бывал там. Проходил, проезжал, видел. Но это было… как сказать вам, мейне дамен унд геррн? Это было другое пространство. Его пространством были пыльный двор, их дом, подъем на третий этаж, квартира, две смежные комнаты, кухня, балкон с веревками для белья, с которого снова был виден двор. В этом пространстве было маленькое квадратное отверстие – телевизор, в котором жило и двигалось другое пространство, там ходили и здоровались люди, пели и играли; иногда показывали животных. Это другое пространство было черно-белым, больше – серым; когда он закончил третий класс, оно вдруг стало цветным, потом быстро пожелтело, пошли полосы – они с отцом бесполезно носили его в телеателье. У отца уже была одышка, он останавливался, дышал, и лицо его было таким же желтоватым, как у людей на экране.
Гур-Эмира не было в этом пространстве.
Впервые он оказался там в четвертом классе, на экскурсии.
Была весна, что-то цвело, в Гур-Эмире стоял кладбищенский холод. Внутри он напоминал коробку конфет с позолоченными фантиками вроде «Белого золота».
Он брезгливо потрогал мрамор.
Экскурсовод-мужчина из серии неудачников, которых к середине 80-х в стране накопилось какое-то неимоверное количество, что-то рассказывал. На экскурсоводе была черная шапка из искусственного меха. У экскурсовода были живые брови; Сожженный стал глядеть на эти брови. У экскурсовода были маленькие, слегка приплясывавшие черные туфли. Он стал глядеть на эти туфли. Было видно, что экскурсоводу холодно и что он живой. Что наедине с женщинами он горяч и изобретателен. Но то, что он говорил, было мертвым и холодным, как позолота, покрывавшая стены.
Он стал придумывать этому экскурсоводу историю. Вначале придумал ему сына; подумав, переделал сына в дочь и назвал Гульнарой. Эта Гульнара не выговаривала «р», и ее дразнили «Гульналой». Еще она воровала конфеты из трюмо, и отец-экскурсовод, застукав ее за этим или просто найдя где-то склад оберток, ругал ее громкими и живыми словами, а не теми, которыми сейчас рассказывает… Уже не рассказывает, закашлялся.
Он заметил: под его взглядом люди начинали кашлять. Люди начинали почесываться. Начинали ежиться и поправлять одежду. Не под всяким его взглядом, а под таким, придумывающим.
Это были его первые опыты.
Подержав детей в холодной полутьме, пошикав на них, их вывели на солнце. Недружным хором они сказали «спасибо» экскурсоводу, тот снова пошевелил бровями и пошел по солнцу к своей дочери и к жене, которую Сожженный еще не успел ему придумать.
Потом он узнает о Тамерлане больше. О Тимуре, как его правильнее называть. Но, читая о Тимуре, он будет вспоминать маленького экскурсовода в искусственной шапке.
А капусту они тогда засолили и придавили сверху тем самым Арнольдом, отмыв его с мылом в ванной.
– Гранит, – говорил отец, глядя на мокрый камень. Отец всё знал.
С Зарастро он провел четыре неплохих дня.
Зарастро вел себя довольно скромно; на выходе за пределы сознания не настаивал. «Мне и так хорошо», – говорил, садясь по утрам на его кровать.
Зарастро был певцом, но петь при Сожженном стеснялся, а Сожженный не просил. Только один раз, вернувшись с покупками, услышал сквозь шум воды, как Зарастро поет в ванной Моцарта.
Убьет он его тоже в ванной.
Даже не в самой ванной, а как сказать… в той комнате, повторив в ней ванную.
Почему? Нужно будет торопиться. В Институте во время последнего сеанса они, кажется, что-то смогли уловить. Он заметил это по их глазам.
- O Isis und Osiris, schenket
- der Weisheit Geist dem neuen Paar!
Он поет это внутри. «О Изида и Осирис, дайте Дух мудрости этой новой паре!»
Как быстро он научился пользоваться ванной. Как быстро научился петь.
Зарастро, его поздний плод, сын, страх, последняя человеческая привязанность. У Зарастро молодая и пустая голова. Он поет под струями воды.
Сожженный прислоняется затылком к твердой стене и прикрывает глаза.
Достаточно небольшой слабости, небольшой любви, и вот уже это начинает само уплотняться, проникать из луча сознания в сумерки мира.
Он достает из пакета батон и кладет на тумбочку под зеркалом. Батон отражается.
«Хватит». – Он стукнул локтем в дверь ванной.
«Сорри, папа».
«Я говорил не называть меня папой!»
Ванная замолчала, только вода билась в прозрачную ширму.
Он бы уничтожил этот Институт.
Но он не мог. Этот Институт тоже был его созданием.
Он видел его серо-черный портрет в Институте, в одном из кабинетов. В каком? Неважно. В одном из кабинетов, на белой стене, по которой ползли тени.
Показалось, что это Ленин. Ответная улыбка (кого-то из сотрудников): найн.
Даз ист Оскар Фогт.
О да, они были похожи, русский революционер и немецкий невролог. Круглая, лобастая голова, прищур, бородка.
Господин Фогт родился 6 апреля 1870 года.
Господин Ульянов-Ленин – на шестнадцать дней позже.
Такие вещи не бывают случайными, господа. Вы меня слышите? Я вижу ваши удивленные глаза, чуть поднятые брови. Вы меня слышите.
Шестнадцать дней достаточно для создания дублера.
Вы хотите сказать… Нет, я ничего не хочу сказать. И прошу это не записывать.
Он любил эти безмолвные лекции в пустом коридоре. Надавив себе воды из кулера, он вставал у окна и медленно пил эту воду, как осторожные люди пьют спирт. В окне медленно исчезал очередной день.
Иногда кто-то из припозднившихся сотрудников выходил в коридор и, заметив его, махал рукой. Или подходил пообщаться. Как это мило. Хотите поговорить с морской свинкой? По стене двигались тени, за окном шелестел дуб.
Но даже если коридор был пуст, он пил воду и читал эти лекции. Иногда по-студенчески садился на подоконник. Всё равно всё записывается: он это чувствует по легкой боли в затылке.
Also, о чем это он? Доктор Оскар Фогт. Лысина, отражавшая свет лабораторных ламп. Бородка, подвижные ноздри. Быстрая походка, топ-топ, развевающиеся полы белого халата. «Итак, дорогие коллеги…»
Хлоп-хлоп-хлоп (аплодисменты).
В молодости Фогт стажировался у Отто Бинсвангера. Да, у того самого Бинсвангера, в клинике которого больше года содержался Ницше. Когда молодой Фогт предстал пред Бинсвангером, Ницше уже там не было. Больного передали на попечение матери; он с аппетитом ел и часами гремел на фортепиано. После его смерти доктор Бинсвангер желал произвести вскрытие, чтобы исследовать мозг; сестра покойного воспротивилась. В ней было что-то от лошади.
Но я отвлекся, лекция о Ницше запланирована у нас на следующую неделю.
Он вертит пустой стаканчик, подходит к кулеру и наполняет.
После Бинсвангера молодой Фогт жил в Швейцарии. Вы знаете, что такое Швейцария? Я не спрашиваю, бывали ли вы в ней. Швейцария – это ад, замаскированный под рай. Он работал в клинике знаменитого Огюста Фореля. Чем был знаменит доктор Форель? Можете не тревожить поисковики…
Он отхлебнул немного воды и поглядел в окно. Фонарь возле Института уже горел.
…Доктор Форель был выдающимся психиатром и исследователем муравьев. Нет, конечно, психиатром не муравьев, а людей. Но муравьев он изучал постоянно, совершив в этой области ряд открытий. Наблюдение за муравьями вдохновляло его к изучению человеческой психики. Или наоборот. Вы что-то сказали?
Коридор Института пуст. Еще одна дверь открылась, еще одна поздняя птичка в потертых джинсах выползла из своего кабинета, удивленно глянула на фигуру у окна. Узнала, помахала рукой. В подвальном этаже проснулся лифт. В затылке снова заныло, он пощупал губами кромку стаканчика.
Лифт замер, открылись двери. Почему нельзя спуститься со второго этажа на первый пешком? Всё это уловки. Этот, в джинсах, отправился в подвальный этаж, где записывающая аппаратура.
Муравьи. Тихие научные муравьи. Сползлись на труп истины, бегают по нему, поблескивая в свете лабораторных ламп.
Доктор Форель, наставник Оскара Фогта, практиковал лечение гипнотизмом. Это было тогда таким новым и вдохновляюще свежим. Он был главным редактором научного «Журнала по гипнотизму», «Цайтшрифт фюр Хипнотизмус». Три самых известных его труда: «Гипнотизм», «Половой вопрос» и «Социальный мир муравьев». Не читали?
Тишина.
Слушатели немного устали, в коридоре негде сесть, кто-то, извинившись, уходит за стулом. Он не подумал, что тени тоже могут уставать. Он сжимает и разжимает губы. Фогт. Бинсвангер. Ницше. Форель. Имена, летящие в длинную прямоугольную пустоту. Он должен еще немного сказать им о Фореле.
Доктор Форель лечил гипнозом от истерии, ночных кошмаров и слабой эрекции; результаты были многообещающими. Даже от половых извращений, это было предметом его особой гордости. Одним из его слушателей был Анатолий Луначарский; впрочем, это имя вам, господа, ничего не говорит.
Не говорит. Говорит не. Еще одно пустое, наполненное маленькими шариками имя. Имя катится, шарики внутри пляшут. Лу-на-чарский. Укатило в конец коридора, запрыгало вниз по лестнице, затихло.
Молодой Фогт был лучшим учеником стареющего Фореля. Под его руководством он овладел искусством гипноза; так глубоко овладел, что Форель поручил ему редактировать свой «Цайтшрифт фюр Хипнотизмус». В 1900 году доктор Фогт продемонстрировал открытый им метод фракционного гипноза, с помощью которого любого человека можно ввести в сомнамбулическое состояние. Прошу обратить внимание: любого.
Как и его наставник Форель, доктор Фогт тоже увлекся изучением насекомых. Только не муравьев, а шмелей. Мог часами глядеть на них. На их крылатые и мохнатые тельца.
«Вы обещали рассказать о Ленине», – говорит вернувшийся со стулом.
«Вы назвали доктора Фогта его дублером», – еще чей-то голос.
Он, собственно, уже всё сказал. Как нематериальным объектам, мои дорогие, вам следовало бы быть догадливее… Хорошо. Сожженный потер ладони.
Если очень коротко, то те, кого мы называем «историческими личностями», обычно имеют дублеров. Одного, реже двух. Историческая личность может захворать или нечаянно погибнуть – как раз тогда, когда она, личность, и должна сыграть свою роль. На этот случай создаются дублеры – из родившихся неподалеку, в тот же год и месяц. Но кто чей дублер, до времени неясно.
«Вы хотите сказать, что доктор Фогт был дублером Ленина? Но ведь Фогт был ученым, человеком науки…»
В то время не было жестких перегородок. Наука перетекала в политику и обратно.
Тот же Форель был активным социалистом, членом социал-демократической партии. Наблюдения за муравьями и эксперименты с гипнозом не прошли даром. Швейцария, где он творил, была раем для социал-демократов. Многие из них интересовались гипнозом. А доктор Форель интересовался социал-демократией.
И доктор Фогт, его ученик, тоже интересовался социал-демократией.
Пациентом Фогта был Фридрих Крупп, крупнейший производитель оружия. Его он тоже лечил гипнозом; в 1898 году Крупп выдаст ему сумму на создание Неврологического центра в Берлине. Деньги, гипноз и социализм – вот, господа, три источника будущих европейских революций. Революция готовилась в Германии, и, скорее, это Россия выступала тогда, в начале века, в роли «запасника», дублера.
Доктор Фогт к тому времени был женат. Жена – естественно, «товарищ по партии», как и у Ульянова-Ленина. Только – по научной. Тоже выдающийся невролог, на всех фотографиях рядом с ним, в белом халате.
Надо было не полениться и подготовить пауэр-поинт-презентацию. Хотя они, его слушатели и зрители, и так прослушивают и просматривают его мозг. Копаются в его извилинах, как дети в горках песка.
Дальше… Дальше всё известно: процесс гниения власти в России пошел быстрее. Власть задыхалась сама в себе. Россия была больна революцией, ее мозг был поражен даже сильнее, чем мозг Германии. Впрочем, Германия и Россия были тогда всего лишь двумя полушариями одного мозга. Германия – левым, ответственным за ratio; Россия – соответственно, правым: интуиция и фантазия. По объему «российское» полушарие территориально в несколько раз превосходило «германское», но объем полушарий – это доктор Фогт мог бы прекрасно объяснить – в умственной деятельности существенной роли не играет.
Мог ли доктор Фогт стать немецким Лениным?
Вопрос бессмысленный: он им не стал. В 1902 году после гомосексуального скандала уходит из жизни его щедрый пациент господин Крупп. Доктор Фогт всё больше сосредотачивается на науке. И его русский двойник – тоже: просиживает целыми днями в библиотеке Британского музея, штудируя книги по философии и современной физике. Да, для своего «Материализма и эмпириокритицизма». Конец 1900-х – начало 1910-х, мертвое время. Государственная жизнь покрылась инеем; всё выглядело светло-серым и неизменным.
Кстати, в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин много и с аппетитом писал о головном мозге. Критиковал тех, кто полагал, что мозг не есть главный источник наших мыслей, что он, скорее, «улавливает» их… Целую главу этому посвятил: «Мыслит ли человек при помощи мозга?» Ответ: мыслит. И только при помощи мозга.
То же писал и доктор Фогт. Он даже полагал, что и все психические особенности человека заложены в строении его мозга. Включая гениальность. Жаль, образцов мозга гениальных людей в распоряжении доктора пока не было. И вообще, мозгов в коллекции его Центра немного. Но господин доктор не унывал. В 1914 году он основывает Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма и становится его директором.
В 1914 году время завизжало, взорвалось и бросилось вперед. В вонючих солдатских сапогах, в стоптанных штиблетах; зацокало ободранными каблучками. Запрыгало, поползло по-пластунски, покатилось кубарем от взрыва. Появились первые погибшие. Десятки погибших, сотни. Коллекция института по исследованию мозга быстро пополнялась. Доктор Фогт потирал ладони.
Революцию в России доктор Фогт с супругой пламенно приветствовали. Как, впрочем, и престарелый доктор Форель из своей Швейцарии. Его мечта о земном рае, построенном людьми-муравьями, сбывалась прямо на глазах. Vor seinen Augen.
Вечером 21 января 1924 года доктор Фогт почувствовал резкую головную боль, холод и дрожание ладоней. Он слегка пошатнулся, но успел ухватиться за стол и благополучно достичь кресла. Темнота в глазах постепенно рассеялась, доктор вздохнул и отер платочком лоб. О том, что в это время в России умер Ленин, он узнал на следующий день, допивая свой кофе и шурша свежими газетами.
Вскоре ему звонили из советского представительства.
Его хотели пригласить в Россию еще во время болезни вождя; но это вряд ли могло состояться: дублеры, как правило, не встречаются при жизни; одинаково заряженные частицы взаимоотталкиваются. Но теперь одного из них уже не было; было только посеревшее тело, из которого при вскрытии осторожно извлекли мозг и сердце. Теперь мозг вождя покачивался в растворе из формалина и спирта. К нему не подпускали: он скрывал великие тайны, ведь вождь считался человеком будущего. И эти тайны средствами науки должны были быть раскрыты.
Доктора Фогта горячо рекомендовала Клара Цеткин… Надеюсь, хоть это имя вам известно? (Кто-то неуверенно кивнул.) Коммунистка давно дружила с доктором и его супругой. «Это ученый с мировым и именем и коммунист по убеждениям», – сообщала камерадин Цеткин в Москву.
Дальнейшее хорошо известно… (Он оттолкнулся от стены.) Фогт съездил в Москву, мозг Ленина нашинковали на тонкие срезы. Как и ожидалось, в нем обнаружились «структуры гениальности»: множество крупных пирамидальных клеток, гораздо больше, чем у обычных людей. Здесь можно было бы поставить восклицательный знак… несколько восклицательных знаков. Включить звук аплодисментов. Достаточно.
Была только одна проблема… Такие же крупные пирамидальные клетки имелись и в мозгах слабоумных. Вспыхнул научный скандал; доктора Фогта от ленинского мозга отлучили, потом, поколебавшись, решили позвать обратно, но в Германии уже пришел к власти Гитлер, и курсировать, как прежде, между Москвой и Берлином господину товарищу доктору стало затруднительно.
Но в созданном им в Москве институте мозга Ленина за семь лет уже выросла плеяда советских мозговедов. Господин доктор передал им свои знания и опыт. Делился ли он с ними тайнами гипноза? Мы не знаем. Не это было главным.
Всё же жаль, что он не подготовил презентации. Сейчас бы на проекторе возникло удлиненное лицо со светлыми глазами. Узнаете?.. Тишина и сопение. А сейчас?.. Под лицом появились буквы, готический шрифт. Der Meister und Margarita. «Бульгакоф, – закивали в коридоре. – Но…»
Не «но», а «да», мои уважаемые. Доктор Фогт приезжал в Москву для консультаций, в прессе публиковались его фотографии с микроскопом и срезом ленинского мозга. В том числе на обложке журнала «Медицинский работник», с которым одно время сотрудничал и Булгаков. Как представляется булгаковский Воланд? Консультант. Отсюда и не слишком понятный в романе эпизод с похищением головы Берлиоза. Если бы он написал – «головного мозга Берлиоза», всё стало бы слишком очевидным. Про то, что Воланда постоянно называют гипнотизером, надеюсь, не нужно напоминать? Господин Булгаков был врачом; что такое доктор Фогт, было ему известно.
«Что же тогда было главным?»
Главное, как всегда, трудноуловимо. (Он пошевелил пальцами.) Главное – это, собственно, жизнь, а она ускользает, едва мы только… не только даже изучаем, но едва называем ее. Жизнь и время. Что, по сути, одно и то же.
Оба, и Фогт, и Ульянов-Ленин, в каком-то смысле потерпели поражение. Один не смог создать общество будущего, другой – открыть мозг будущего. Один лежал с выпотрошенной головой в Мавзолее – выполняя функцию катехона. Другой дожил до конца пятидесятых, пережив и нацизм, и сталинизм, и войну, и самого себя. Иногда ему казалось, что кто-то вынул из него мозг, отчего в голове стало пусто и холодно, а потом ставил перед ним его мозг, плавающий в зеленоватой жидкости, и требовал, чтобы он, Оскар Фогт, его скорейшим образом изучал. «Я не могу, – отвечал доктор, выходя из себя. – Чтобы изучать мой мозг, мне нужен мой мозг; извольте вернуть его на место», – и просыпался.
«Простите, как вы сказали про Ленина? Кате…»
Увы, господа, на сегодня всё. Он вздохнул, выбросил стаканчик в ведро и улыбнулся. Пора расходиться, майне дамен унд геррен. Ну, раз, два, три! Исчезли.
«А стул?» – спросил один, покачиваясь, но не желая пока растворяться.
Я сам его отнесу.
Коридор был пуст. Он взял стул и потащил его; протащив немного, оставил. Кабинеты всё равно уже закрыты, завтра сами уберут. Он спустился вниз и стал отвязывать велосипед.
Всё начинается с любви.
Ташкент торопливо зацветал; вспыхивали урючины, точно зажигаясь друг от друга, как спички. Потом… потом должен был выпасть последний снег, «сарык кор», «желтый снег». Прямо на цветущие урючины? Да. И на желтые, ослепительно желтые форзиции. Снег, озябшие урючины, желтое пламя форзиций, снег, многоточие, снег…
Они сидят в поточной аудитории, где вечный холод, куртки не спасают. Приходится греться друг другом, брать друг друга за руки, за колени, многоточие…
История философии. Эмпедокл. Бросился в жерло Этны, но вулкан выплюнул его медную сандалию.
Он сжимает ее руку. Под партой, в кармане.
Космос, по Эмпедоклу, состоит из двух стихий, Любви и Вражды. Когда наступает эра Любви, всё стремится друг к другу.
За стенами быстро идет снег, он чувствуется даже здесь, в «поточке» без окон, еще ее называют «бочкой», дыхание этого снега, дыхание озябших урючин и форзиций. Потому что наступает эра Любви, всё тянется друг к другу, его ладони и ее, вначале только ладони, ледяные, озябшие. И все предметы стремятся, ползут, катятся друг к другу, проникая и слепляясь. Весь космос, как учит Эмпедокл, притопывая от холода медными сандалиями, весь космос со своими цветущими под снегом урючинами, трамваями, губами, форзициями слепится в один неразличимый ком, шар, Сфайрос и застонет в любви. И на секунду, долю секунды всё станет всем, многоточие, пробел.
«Ты меня никогда не любил, – скажет она через полгода. – Ты со мной только экспериментировал».
Он будет идти рядом, засунув руки в карманы джинсов. Будет теплый день. Он не будет возражать, а она, конечно, будет ждать его возражений. Нет. Он просто спросит, почему она так думает.
«Потому что, когда я… начинаю стонать, ты разглядываешь меня, как морскую свинку».
Он пошевелит пальцами в карманах.
Но ведь можно соединять любовь и исследование.
«Нет, нельзя», – скажет она и станет быстро переходить дорогу, как раз подъехал ее трамвай. Он даже запомнит его номер: тринадцатый.
Они снова едут в Эгу. Славянин роется в хэнди, Турок смотрит в трамвайное окно. Можно было на машине, но они должны передвигаться так, как передвигался Сожженный. Сожженный, как известно, любил трамваи. Трамвай скользит по городу, как по воде.
Город аккуратно зацветает. Аккуратно и дисциплинированно – здесь даже деревья стремятся к порядку. Людей на улицах почти нет; не то что в Стамбуле. Впрочем, когда-нибудь турки станут таким же старым народом, как и немцы… Трамвай плавно поворачивает. Турок шевелит пальцами ног, сегодня он в белых кроссовках.
Они поднимаются на холм и покупают билеты, как все. Раньше здесь была крепость, потом сельскохозяйственная выставка, теперь этот парк; всё цветет и радует глаз; последние два слова пропеваем.
– Любовь – это когда ты теряешь свою форму, – говорит Турок возле цветущей яблони. Говорит самому себе; Славянин отошел. Возможно, он говорит это цветущей яблоне. Сожженный иногда разговаривал с деревьями. Он называл это дендродиалогом.
– Красиво? – спрашивает Славянин, вернувшись.
Турок пожимает плечами.
– Они решили расформировать Институт, – говорит Славянин. – Вот, шау маль[5].
Показывает сообщение на экране.
– Еще полгода… – Турок заканчивает читать и поднимает глаза. У него длинные ресницы.
Они молча идут по его маршруту.
Вот здесь, возле куста, стоит шезлонг, на котором он любил отдыхать. Куст покрыт нежной (робкой, первой – выбрать нужное) зеленью. В парке пустынно, в выходные здесь будет людно, но он не приезжал сюда в выходные.
Турок выбрал «робкой» зеленью. Славянин, подумав, – «нежной». Мысленно стер, заменил «первой».
Хорошо, что, по крайней мере, этот парк не был придуман им.
– Бист ду зихер?[6]
На Славянина иногда нападает это, как сейчас, – не к месту вставлять немецкие слова. Демон немецкого языка, поселившийся в нем, делает успехи.
– Хорошо, – тихо говорит Турок, – они расформируют Институт, сожгут все записи, все архивы, возможно, даже всех сотрудников.
Славянин хмыкает.
– …Конечно, не так открыто, – продолжает еще тише Турок, – необязательно ведь каждый раз устраивать из этого шоу.
Домики, где держат коз и свиней. Дети приходят сюда и кормят их.
– А я даже рад, – потягивается Славянин. – Надоело здесь торчать. Мид-терм репорт я им уже сдал, финальный зашифрую и вышлю по имейл.
– Уедешь в Россию?
– Еще не решил. Там тоже…
– Подожди. – Турок смотрит на часы. – Мы должны взять братвурст.
Они берут по братвурсту, поджаренному до черноты, чипсы и салат с майонезом.
Голос: «Человек человеку – друг, товарищ и братвурст».
Некачественная запись отдаленного смеха.
Они сидят за пластмассовым столом, на воздухе; стол слегка забрызган, недавно был дождь, теперь пепельное солнце.
– Хорошо бы пива.
– Он не брал пива.
– Тогда пепси?
– Он не пил пепси.
– Знаешь, я даже рад, что это заканчивается…
– Ты уже говорил…
– …Устал всё время быть не собой.
– Не забывай, в каком-то смысле он твой отец.
Славянин усмехнулся, облизал губы от кетчупа.
– А всё-таки я бы хотел пива. Как ты думаешь, они меня не уволят? Осталось-то всего…
– Нет, просто ты умрешь. И родишься снова. В чьей-то голове.
Славянин кусает братвурст, пережевывает. Тычет пластиковой вилкой в салат.
Потом они дошли до японского сада, поглядели на цветущие сакуры. Опавшие лепестки двигались по земле от ветра. Турок прижал их своей кроссовкой.
– Думаешь, это напоминало ему Самарканд?
– Или Ташкент.
Ветер усилился, лепестки летели, белели на одежде. Как вьюга, подумал Славянин. Как перхоть, подумал Турок.
Они спускались к трамвайной остановке.
– Негусто на сегодня, – говорил Турок, вытаскивая зубочистку. – Может, они и правы, закрывая Институт…
Институт имел длинное труднопроизносимое название и располагался на окраине. Формально Сожженный был его сотрудником, но появлялся там редко. Институт спонсировал фонд, название его было еще более труднопроизносимым.
Серое двухэтажное здание гэдээровской постройки с большими окнами и клумбой. Двери открывались с помощью пластиковых карт, он всегда прикладывал их не туда.
Первый раз он оказался там на третий день после приезда.
За ним заехала фрау, кажется, уже другая, не та, которая его встречала и порывалась тащить его чемодан. Эта была моложе и полнее; долго выруливали. Фрау нервничала, но не хотела этого показывать. Первое время ему часто посылали таких, деловитых, внимательных, незапоминавшихся.
В Институте их ждали; он так и не понял, было это открытие Института или он уже был открыт; его немецкий еще хромал. Было солнечно, пахло свежим ремонтом. Он увидел в коридоре неубранное ведро с краской; это ему понравилось. Он любил, когда немецкий орднунг давал такие маленькие человеческие трещинки.
Ему устроили экскурсию, первый этаж, второй этаж… подвал. Самое вкусное было, конечно, в подвале. Молодцы. Он повертел в руках череп и положил его на место. Экскурсовод сухо улыбнулся; позже ему объяснят, что здесь ничего, ничего нельзя трогать. Но это будет позже.
Фуршет происходил в просторном кабинете на втором этаже. Семейно, непритязательно; попробуйте вот это вино. Благодарю. Успел ли герр Земан (Томас Земан, здесь он Томас Земан) осмотреть город? Его подвели к директору Института, напоминавшему доктора Айболита, но без бороды.
Крупнейший нейрофизиолог.
На стене над столом с кусками пиццы, колой и бумажными тарелками висит большая фотография Регистана. Они хотели сделать ему приятное.
Этот город будет преследовать меня, думает он, пережевывая пиццу.
Этот город будет преследовать меня, как Адриана Леверкюна его Кайзерсашерн.
Знал ли он, что на этой первой вечеринке (party) исследование уже было начато?
Сравнение Самарканда с Кайзерсашерном было зафиксировано.
Сноска один: Кайзерсашерн – вымышленный город из романа Томаса Манна «Доктор Фаустус». Сожженный прочел его, учась в университете.
Сравнение не было лишено остроумия. Что вы имеете в виду? «Кайзерсашерн» переводится как «прах императора». В Кайзерсашерне, как сообщается в романе, покоился прах Оттона Третьего, императора Священной Римской империи. Сноска два: в действительности император был захоронен в Ахене.
Оттон Третий не был так знаменит, как Тамерлан, хотя и его называли Mirabilia mundi, Чудо мира.
Если перевести «Гур-Эмир» на немецкий, получится почти «Кайзерсашерн».
Итак, исследование было начато во время непринужденного разговора, попробуйте вот это вино, вы уже пробовали немецкие вина, нет, еще нет. Вы успели осмотреть город?
Его мозг, темный, как облако, был на секунду просвечен.
Но Самарканд был реальным, а Кайзерсашерн… тоже, в каком-то смысле, реальным. Всё, если осторожно посмотреть, реально. Если смотреть, соблюдая правила предосторожности, надев перчатки и защитную маску.
Он пробует белое вино. Кисловато, но интересно. Вино – замедлитель времени. Он берет шпажку с кубиком сыра и зеленоватой виноградиной и снимает их передними зубами. А стаканчик ставит на бумажную скатерть. Вот так. Нет, вот так. Он еще не пьян.
Прототипом Кайзерсашерна мог быть и Эрфурт.
От Кайзерсашерна, писал Манн, рукой подать до Галле и Лейпцига, до Веймара, Дессау и Магдебурга.
От Эрфурта тоже рукой подать до Галле и Лейпцига, до Веймара, Дессау и Магдебурга.
Конечно, население Эрфурта было побольше, чем кайзерсашернские (язык сломаешь) двадцать семь тысяч, и описание ратуши не совсем подходит. У Манна она между готикой и ренессансом; в Эрфурте, его водили туда накануне, это псевдоготика.
Но в целом (он как раз находит в хэнди нужное, нужную главу, нужное место) вот: «Старинные церкви, любовно сбереженные, бюргерские дома и амбары, строения с незаделанными балками и выступами этажей, круглые башенки под островерхими крышами, встроенные в замшелые стены, площади, мощенные булыжником и обсаженные деревьями…»
Всё это, господа, вполне подходит под Эрфурт.
Итак, добро пожаловать в Кайзерсашерн, тихо говорит он и чокается пластиковым стаканчиком с доктором Айболитом.
Вскоре, посетив еще несколько городов в округе, он наглядится на эти «старинные, любовно сбереженные церкви». (Пока же он стоит, прислонившись бедром к столу.) Наестся этих «бюргерских домов и амбаров». (Рядом лежит пустая пластмассовая шпажка.) Наглотается до изжоги этих «строений с незаделанными балками и выступами этажей». (Он тянется за новой шпажкой, но с полпути рука возвращается: передумал.)
Вредно много читать: о чем ни подумаешь, сразу упираешься лбом в шершавый книжный корешок.
Сейчас он почти не читает; демон чтения оставил его, выйдя из левого уха и поселившись в мертвой стопке книг в прихожей; он не трогает ее, чтобы не вспугнуть.
Ожидается еще официальная часть, пока не началась. Кого-то ждут. Странно, директор здесь, вот стоит, трогает губы салфеткой. Представитель фонда, крупная женщина в черных чулках, тоже здесь.
Наконец, в комнату въезжает человек на коляске. У него высокий лоб и раздвоенный подбородок. Маленькими ладонями он толкает колеса, отказываясь от помощи. Комната сразу затихает, все берут пластиковые стаканчики и застывают в благочестивой задумчивости. Сожженный тоже обнаруживает у себя в руке стаканчик с шампанским.
Надо же, без охраны. Впрочем, этим людям и не нужна охрана, их никто не знает.
Приехавший начинает произносить тост. Он произносит его на английском, хорошем, крепко сбитом американском английском. С отменной артикуляцией, особенно на этих дабл-ю, когда губы вытягиваются, точно готовясь к энергичному поцелую. Сожженный рассматривает всплывающие с пластикового дна пузырьки. Половина присутствующих занимается тем же.
Тост закончился, все дабл-ю, носовые «нг» и межзубные «з» отзвучали; все приступили к горячей еде и общению. Громко запахло курицей. Сожженного подвели к коляске и представили. Подглядывая в старомодный блокнотик, директор назвал какое-то из его имен; человек в каталке внимательно слушал. «Джим», – сказал он и протянул почти детскую ладонь.
Возможно, он сказал «Джон». Или «Джек». Больше он его не увидит.
Когда он расправился с курицей, извлеченной из металлического чафиндиша, человека на каталке в комнате уже не было.
С ней было всё по-другому.
Тогда еще фильм такой вышел, с песней: «У нас всё будет по-другому…» Почему он сейчас это вспомнил?
С ней всё состояло из «почему». Ответы появлялись и тут же исчезали, не оставив на поверхности даже легкой царапины.
С ней он чувствовал себя слабым и слегка горбатым.
Он не был горбатым. Так, небольшой сколиоз, легкий дефект внутреннего дерева, росшего в нем. И слабым он не был. У него были крепкие веселые руки; в общежитии он завел гантели, поднимал и опускал их, поднимал и опускал, приседал и приподнимался.
Потом он забросит всё это. Гантели обрастут пылью, он подарит их своему сокомнатнику, улыбчивому казаху.
Он увидит ее на Алайском. Нужна ли сноска? Да, лучше поставить. Но не сразу. Пусть пока будет просто Алайский, кусок звуков с «…ай…» посередине.
Она стояла, облитая светом, падавшим из дыры в навесе.
«…Ай…»
Кажется, это была единственная дыра в навесе на весь базар, и она стояла именно под ней, рядом с лужей, которая натекла оттуда же. Лужа блестела.
«…Ай…»
Она была не слишком красивой, с набитой авоськой и, кажется, злилась. При этом она была золотистой. Вся.
В юности всё кажется золотистым: солнце, волосы, одуванчики, вечерние окна, полнолуние, детская ложка.
Она откинула золотую прядь и тяжело посмотрела на него.
Он остановится и почувствует себя горбатым и слабым.
Потом, повзрослев на несколько дней (эти дни будут с ней и вокруг нее), он поймет, что это нормально. Когда человек любит, он теряет изначальную форму. Немного умирает, немного меняется.
Она стояла там, где продавали зелень. На бетонных прилавках лежали целые города укропа, сельдерея, петрушки, кинзы. Тайные, веселые города. Лежала редиска, свежая морковь и эти, как их, суповые наборы: разрезанная морковь, свекла и что-то из зелени, увязанное белыми нитками в один пучок. Города зелени сбрызгивали водой, чтобы она не вяла. Да, еще был зеленый лук и зеленый чеснок, и всё это шумело, как и должно шуметь на базаре, где звучат не только люди, но и товар на прилавках подает голос, пробует напевать, насвистывать и предлагать себя.
Они стояли и глядели друг на друга.
Она заговорила первой.
Она всегда начинала говорить первой – и первой замолкала, где-то на полмысли.
– Извините, – сказала она, – а где здесь мясной павильон?
Она, оказывается, заблудилась.
В том Алайском еще можно было заблудиться.
Как он обрадовался!
Даже его новый горб сладко заныл.
Конечно, он повел ее к мясному павильону, хотя плохо помнил, где тот находится, вообще был равнодушен к мясу.
Сноска. Алайский базар.
Сноска оформлена в виде трех звездочек, которые, если приглядеться, похожи на три хризантемы, которые он купил ей той осенью в цветочном ряду.
По другой версии, эти три звездочки могли означать коньяк «Самарканд», который также мог быть куплен на Алайском.
Алайский находился рядом с факультетом.
Разделяла их швейная фабрика, на первом этаже ее был магазин. В витринах стояли картонные человечки, одетые в продукцию фабрики.
Раз в месяц их протирали мягкой тряпкой.
Слово «манекен» произошло от голландского mannekijn, «человечек». «Ручки, ножки, огуречик – появился человечек». «Ручки» у них были вполне себе руками и «ножки» – стройными, пусть и негнущимися, ногами. «Огуречика» не было совсем: один раз, идя с факультета, он видел, как их раздевали, чтобы нарядить в новую продукцию. Картонные мужчины под брюками оказались гладки и бесполы.
Манекены для всей необъятной страны изготавливались в Вильнюсе, Литовская ССР, и они смахивали на литовцев. У манекенов-женщин были серые змеиные глаза.
От вида местной продукции, в которую их наряжали, на их лицах проступала брезгливая улыбка.
Фабрика и картонные люди на витринах были промежуточным звеном. Промежуточным диалектическим этапом между базаром и факультетом.
На базаре пахло жизнью и живыми людьми. Даже в мясном павильоне, где пахло только мясом. Даже в молочном, где пахло молоком и обернутой в марлю брынзой. Даже в хлебных рядах, где стоял запах теплых лепешек.
Человеческий запах проникал везде и везде праздновал свои маленькие победы.
Только в «Живой рыбе» пахло мертвой рыбой и хотелось скорее выйти.
Человек и его запах – тема для еще одного маленького трактата, который он не напишет.
Советский человек выделял в год около двухсот литров пота.
Советский человек радовался, горевал, аплодировал, мялся в очередях, давился в трамвае, бежал под пулями, писал длинные и бессмысленные жалобы. И потел, почти непрерывно потел. Его подмышечные впадины, веки и крылья носа регулярно орошались потом. И весь этот оркестр потовых желез выражал то, что не могли выразить ни его крики, ни его песни, аплодисменты и жалобы.
Двести литров в год. Таковая была его выработка, за которую его никто не хвалил и не премировал. Ташкентский человек, прогретый солнцем, даже перевыполнял ее.
Манекены не потели, они только пылились и безразлично глядели сквозь стекло. В далекой холодной Литве их изготовили из папье-маше, легких, пустых, лишенных сердца, мозга, потовых желез и того, о чем было сказано выше.
Философский факультет был обсажен высокими деревьями и выкрашен в розовый цвет. В середине девяностых факультет отсюда изгонят, деревья вырубят, а здание выкрасят в серый. Но он уже этого не увидит.
Студентов и преподавателей можно было встретить на базаре. Преподаватели чинно несли в авоськах дары земледелия и животноводства.
Философский факультет был Алайским наизнанку. Алайский играл рассветными красками грядущей рыночной экономии; на философском догорала прощальная заря истмата и диамата.
Вдоль длинных коридоров стояли невидимые манекены единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, с негнущимися руками и ногами. На одном было написано ручкой неприличное слово, тоже невидимое.
Как и манекены, эти идеи были произведены далеко от Ташкента, в туманных северо-западных землях, и доставлены по железной дороге в разобранном виде. Здесь их как могли собрали и нарядили в продукцию местной идеологической промышленности.
Как и манекены, эти идеи не имели первичных половых признаков и потовых желез. Если бы идеи могли потеть, то запаха не выдержал бы ни один, даже самый упертый диаматчик, а студентам бы выдавали противогазы, как на занятиях по строевой подготовке. Но идеи не потеют, особенно мертвые. Идеи просто невидимо стоят в коридоре, покрываясь пылью. Тоже невидимой, но ощутимой.
«Извините, а где здесь мясной павильон?»
Она держала авоську с помидорами «бычье сердце».
Он повел ее туда, сквозь запахи и голоса. Она шла, с достоинством неся помидоры. Он уже влюбился и стал наблюдать за ней, как за больным. Хотя больным был он сам. Сейчас он наблюдал за ее волосами. За тем, как они шевелятся.
Было солнечно, дул северо-западный ветер, две целых и одна десятая метра в секунду. Когда они входили под навесы, ее помидоры гасли, а когда выходили на солнце, вспыхивали тревожным светом. А волосы шевелились на ветру, дувшем со скоростью две целых и одна десятая метра в секунду, она иногда поправляла их.
Потом они шли по мясному ряду среди подвешенных за ребра бараньих туш.
Они снова вышли на воздух, она усмехнулась.
«Так странно смотрите».
Потому что я хочу обнять тебя и исчезнуть в тебе, – ответил он взглядом.
Она поняла и тоже перешла на язык глаз. Что же мне тогда останется, если ты исчезнешь во мне? – Тебе останусь я, который стану тобой.
«Так странно смотрите», – повторила она.
Ветер усилился. Он шел рядом с ней, как верблюд.
Когда мужчина вырастает, он уходит от родителей. Они недолго ищут его и зовут. Вначале они зовут его обычным именем, но это не помогает. Тогда мать зовет его тем именем, которым называла в младенчестве, кормя грудью. А отец – тем именем, которое выколото раскаленной иглой ниже пупка.
Они зовут его, зная, что он не откликнется. Они бегают и кричат, понимая, что он не вернется. Таков их долг. Такова их игра.
Он прячется где-то неподалеку, смотрит на бегающих родителей и тяжело дышит.
Некоторые не выдерживают. Очень тяжело выдержать, когда тебя называют твоими тайными именами. Некоторые выбегают навстречу родителям. И замирают.
Какое-то время они молча стоят и слышен только ветер. Потом отец бросает сыну его новую одежду и уходит. Это женская одежда. Сын возвращается домой, отныне он будет делать женскую работу в доме. По вечерам он будет рассказывать детям сказки, как это делают старухи.
Поэтому, спрятавшись от родителей, беглецы терпят. Некоторые затыкают уши, чтобы не слышать плач матери и крики отца.
Расцарапав себе лицо до крови, родители уходят. «Он стал взрослым», – говорит отец. «Нет», – отвечает мать и идет следом. Из своего убежища он видит, как они становятся всё меньше. Как пространство съедает их – раньше, чем их проглотит время.
А он сидит в укрытии и думает. Но мыслей у него нет, приходится думать пустотой, ветром, пылью. Потом он выходит и идет; вначале идет туда, где стояли и звали его родители. Там он находит женскую одежду, брошенную отцом. Он садится на корточки и смотрит на это платье, вышитое серыми цветами, которое ему пришлось бы надеть, откликнись он на зов родителей. Он кладет это платье в переметную сумку. Оно достанется его первой женщине. После того как он ее сделает своей женщиной и она заснет, он сожжет ее старую одежду. Когда она проснется, он даст ей это платье. И зажмет уши, потому что женщина станет кричать и бросать в него пылью.
Кроме этого платья он принесет ей череп другого мужчины. Он положит его перед ней, перед ее ногами – белый череп с написанным на нем словом. Она не обратит на него внимания. Но если бы не принес, она не обратила бы внимания на него самого.
Где взять череп другого мужчины? Этому не учат родители, и об этом молчат сказки, которые старухи рассказывают детям на ночь.
«Так где он должен был добыть череп?» – Она глядела на его спину.
Она сидела около стола, рядом стояла тарелка с косточками от черешни.
Пересесть на кровать она отказалась.
Чуть дальше стоял коньяк «Самарканд», треть бутылки была еще цела.
Они были вместе уже месяц: ходили, стояли, садились, поднимались, шли. До серьезного не доходило. Когда он приближался к ее лицу, она спокойно отворачивалась.
«Если бы я знал, – сказал он, – я бы сам тебе его принес».
«В Судмедэкспертизе можно достать…»
Турок остановил запись и вопросительно поглядел на Славянина.
– Судебно-медицинская экспертиза, – откликнулся тот с дивана.
Славянин лежал в серой футболке; у него болела голова.
Эту запись он слушал уже второй раз. Он поднялся, прошелестел тапками на кухню, набрал воды. Таблетка проскользнула в горло; погас свет, возникло чувство вины. Вины не за что-то, а за само свое существование. За эти руки и ноги, за слюну во рту и головную боль в затылке. Он знал, что это в нем от Сожженного.
Германия истекала от зноя.
От реки тянуло прохладой и гнилью. Воды в Гере было по щиколотку. Плавали квелые утки, некоторые с утятами.
Этот сегмент сознания Сожженного, над которым они сидели уже третий день, был самым… задумался, подыскивая слово.
Сложным? Запутанным?.. Пока думал, шел обратно в комнату, где за столом, поджав под себя ногу, сидел Турок.
Другой ногой Турок отталкивался от пола; кресло крутилось.
«В Судмедэкспертизе можно достать…»
На ней было платье с серыми цветами, он подарил ей на день рождения.
Она так и не сказала ему своего имени. Каждый раз он называл ее разными именами, она спокойно слушала. Аня. Вера. Люба. «Я угадал?» – «Нет». Венера. Аня. «Анна тебе подошло бы…» – «Уже было». Гюльчатай. Она усмехалась.
Он знал, что она училась в медучилище, потом ушла. Почему? Отстранялась от его вопросов так же, как от его губ, его рук.
«Там этого добра…» – Она махнула рукой.
Это всё еще о черепе.
Повертела грецкий орех, лежавший на клеенке.
«Расколоть?» – спросил он.
Она неопределенно шевельнула бровью. Он положил орех на пол и осторожно ударил. Она наблюдала за ним. От нее пахло коньяком, хотя выпила немного; вообще пила немного.
«Неудачно…»
Ядро было смято в кашицу.
«А если я убью кого-нибудь?» – Он продолжал держать молоток.
В комнате было уже темно.
«Зачем? А, череп… – Она слегка зевнула. – Иди сюда. Сегодня тебе будет позволено поцеловать вот этот палец».
От ее голоса тоже пахло коньяком. Протянула левую руку, выставив мизинец.
«Ну ты что… сейчас откусишь…»
Резко поднялась:
«А теперь – проводи меня».
Он съездил в Самарканд. Город он нашел чужим, родителей – постаревшими. Каждый день звонил ей от соседа; дома телефон был, но были и родители. Начнется: кто, что, как зовут… Что он должен был ответить, если сам не знал ее имени? Но главное, город. Город изменился, многие уже уезжали.
Встреч с бывшими одноклассниками он избежал. Его не тянуло в прошлое. Школа, огромная светлая фабрика унижения, его больше не волновала.
Говорили, что на Афрасиабе открылась какая-то «зона», туда водили «своих». Что за зона? Кого – своих?
Он просто сходил туда, сам. Была осень, раскопки закончились, пахло землей. Он присел на землю, в джинсах.
Когда он звонил ей, она то брала трубку, то не брала. Представлял, как она глядит на звонящий телефон. Как проводит пальцем по вибрирующей поверхности и не берет.
Он сидит на земле. Вокруг – изрытое раскопками пространство. Он похудел, стал почти бесплотен; чтобы джинсы не падали, носит ремень.
Варианты? Номер один: оставить и забыть ее. Номер два: вернуться и взять ее силой. Номер три: найти череп.
Он еще раз оглядел место – Афрасиаб. Длинное, до горизонта, в ямах и извивах. Летом здесь копошились археологи. Потом сложили свои инструменты, забрали своих женщин и ушли. Осталось голое пространство – и ничейное время. И он – в куртке, джинсах, с небритым подбородком.
Оставить и забыть. Не звонить, выжечь из памяти; вокруг ходит, стоит и бегает столько других. Они все устроены одинаково, он уже проверял. Внутри бьется сердце, надуваются и опадают легкие, булькает желудок. Работают потовые железы, орошая подмышечные впадины, веки и крылья носа. Оставить и забыть. Забыть ее сердце, ее желудок, ее железы, пусть существуют, цветут и поют без него. Вокруг-столько-других. Если аккуратно опустить их головой вниз, раздастся кукольное: «Ма-ма».
Вернуться и взять силой. Грубо, с рычанием и оскаленными зубами. Он слегка оскалился. Ветер остудил его лицо. Нет, он – влюбленное дерево, дерево с нервными цветами. Он не может стрясти с себя эти цветы, пока сами не отцветут и не осыплются. Но сколько они еще будут гореть на его ветвях, причиняя ему зеленую, сосущую боль?
Оставался вариант три: череп. Костяное лукошко с терпкими, чуть недозревшими ягодами смысла. Сколько в этом лукошке ягод – бродящих, слегка светящихся во тьме. Оставив родителей, их дом, их запахи и заботу, он идет по пустоте. Пустота обрастает кустами. Кто там, за ними? Первая стрела вонзилась рядом в песок. Он поднимает ее. Всё еще наклонившись, глядит исподлобья вперед. Кусты качаются перед ним.
А родители солят капусту. Отец, не дождавшись, сам идет искать камень. Приносит, ставит в коридоре. «Думал, ты поможешь», – говорит отец. На кухне пахнет капустой и сигаретами, он обходит отца, берет кочан: «Быть или не быть», подержав, кладет обратно на стол. «Поможешь?» – снова говорит отец.
Череп – доказательство, что ты способен убить. Неспособный убить неспособен быть и любить. Цветы на руках, на шее, на груди отцветут и облетят. Чтобы завязался плод, должен пройти короткий кровавый ливень.
Угадать, за каким они кустом. За этим? Или за тем? Если не угадаешь, следующая стрела позавтракает тобой.
А если не принесет череп? Если убежит от этих кустов, уворачиваясь от стрел? Если принести ей всю любовь мира, всю нежность мира, всю преданность мира, но не принести ей костяное лукошко с выцарапанным на нем словом?
Женщина пройдет мимо. Она не скажет: «Ты, кажется, что-то забыл по дороге ко мне». Или: «Ты уверен, что это – вся любовь мира? Кажется, здесь чего-то не хватает». Просто пройдет мимо. А он так и будет стоять с кочаном капусты в руке. И вопросом отца, вращающимся в воздухе, как юла.
Но если всё же взять ее силой, напасть, вдавить в песок? На третью ночь она дождется, когда он забудется, усыпленный ее песнями, волосами и телом. И осторожно наденет на него платье с серыми цветами.
И всю оставшуюся жизнь он будет следить за очагом, доить животных и рассказывать детям сказки, как это делают старухи у ночного огня. Поэтому без черепа не обойтись.
Он вернется в Ташкент ночным автобусом; мест не будет, он устроится на полу. Утром пойдет на Алайский. Куда еще идти? Он будет долго ходить по мясному ряду, не решаясь спросить нужное.
От недосыпа и запаха крови у него разболелась голова, он пошел туда, откуда были слышны тяжелые удары: там рубили мясо. Тяжело шевеля ртом, он сказал, что ему нужно. Мясник помотал головой и ткнул черным пальцем куда-то, где висели бараньи головы… Он пошел туда. Там, под этими головами, он повторил. Что он сказал? «А человеческий у вас есть?» – сказал он. «Для девушки?» – продавец подмигнул, вытер руки о передник и ушел. Летали мухи, ползали, он отогнал одну; они были здесь хранителями времени, время тоже ползло, поблескивая крылышками, то поднимая, то опуская хоботок. Продавец вернулся. «Сегодня нет. Завтра приходи. Пусть твоя подождет… Потом сильней любить будет».
На следующий день он нес с Алайского в спортивной сумке Puma череп, завернутый в полиэтилен. Нужное слово он выцарапает на нем в общаге, слегка порезавшись гвоздем.
Может, ей нужно было принести бараний череп? И всё было бы по-другому.
Он проснулся в Эрфурте, позавтракал двумя тостами и йогуртом. Посидел, глядя в окно; день был серым, можно было открыть ноутбук и заглянуть в погоду. Не стал, просто бросил в рюкзак зонт. Допил кофе, вымыл посуду, вытер обо что-то руки. В Институте его отпустили на два дня. Что-то у них там не клеится, у этих ребят. Наткнулись на прозрачную стену и стоят перед ней, покуривая и перебрасываясь репликами. Не то курите, ребята. Не то пьете и не то едите. Ладно, пусть сами допрут. У него сегодня выходной. День прозрачный, немного серый; ветер слабый.
Он едет в Фульду.
Трамвай, мягкий, почти бесшумный, доставил его к вокзалу. Лица, витрины, булыжник на мостовой – всё было в особой резкости.
«Он из Германии туманной…» Где они, эти туманы? Он полгода здесь, не видел ни одного. Ушли вместе с эпохой романтизма. Он вышел из трамвая, пересек площадь и вошел в вокзал.
Переходя площадь, вспомнил, как впервые приехал сюда. Как его встретила большая женщина прямо у поезда. Без косметики, без лака на ногтях, натуральная, как первоматерь Ева в раю до изгнания. Попытался вспомнить форму ее губ и не вспомнил.
Тогда он еще не понимал, что его заманили в ловушку. Впрочем, он сам себя сюда заманил, в город белого колеса на кровавом поле.
«Эрфурт» переводится «Брод через Эру», как называли Геру.
Не зная броду, не суйся в воду. Он сунулся; херцлих вилькомен[7]. Теперь, пока его череп, слой за слоем, не просветят, не прощупают, не пробуравят… Можно разве что в Фульду. Фульда рядом, час с чем-то.
Фульда. Он любил пробовать слова на вкус, катая их языком и размазывая по деснам. Он в поезде; поезда успокаивали его. Движение – лучший анальгетик, утишает боль от времени. Жаль, что ненадолго – как и все анальгетики. Фульда. Название растворялось во рту, как таблетка.
«Король жил в Фульде дальней…»
Нет, там было не так. Достал, пошаркал по экрану пальцем. Да. «Король жил в Фуле дальней…», Гёте.
– Eisenach, – печально объявил машинист.
Уже Айзенах. Надо будет здесь побывать, пока есть время. А оно у него есть?
Король жил в Фуле дальней. И кубок золотой.
Он не интересовался литературой. «Вы интересуетесь литературой, герр Томас?» «Нет», – отвечал он.
Но литература иногда сама интересовалась им. Заглядывала в его голову, шаря в темноте фонариком. Подбрасывала какие-то книги; они падали на его кровать с пятнами кофе на страницах; обнаруживались в туалете; выглядывали из сумки. В период полового созревания он много читал. Теперь это были реликтовые излучения.
Вот и сейчас он уверен, что в рюкзаке, рядом с черным зонтом, лежит какая-то книга. Откуда, зачем, для чего. И двадцать седьмая страница заложена какой-нибудь дрянью вроде упаковки снотворного. В детстве он закладывал книги обертками от конфет; в юности – проездными билетами, чинаровыми листьями и презервативами.
- Король жил в Фуле дальной.
- И кубок золотой
- Хранил он, дар прощальный
- Возлюбленной одной.
Его возлюбленные золотых кубков ему не дарили. Одна чуть не одарила гонореей; спасибо, что предохранился, см. выше. Впрочем, и королем он не был. В Фульде дальней. Извините – в Фуле. Как там, кстати, в оригинале…
Он прикрыл глаза.
Резко открыл их и обернулся.
Они сидели чуть позади.
Двое совершенно голых, прикрывавшихся своими хэнди.
Один из двоих был мохнат, показалось даже, что он в свитере. Второй был смоделирован по случайному блондину из Владивостока, встреченному в районе франкфуртского вокзала.
Ну вот, отдохнул, называется.
Ладно. Иду, мои дорогие. Он поднялся и подошел к ним.
– Откуда?
Он, в принципе, уже знал ответ.
Поезд чуть качнуло, он сжал спинку кресла.
– Из лимба, – ответил второй.
Точно как тот из Владивостока, вравший, что студент по обмену.
Первый хмуро хлопал ресницами. Турок, скорее всего.
«Лимб» было кодовое название для одного из секторов подсознания.
– Почему голые?
Блондин открыл рот, чтобы соврать, но не успел.
– Значит, так, внеплановые гомункулы… Кубок с вами?
Блондин замялся, турок продолжал хлопать глазами. Вагон снова качнуло.
– Он не понимает по-русски, – блондин поднял глаза с болотным оттенком.
– Но ты-то понимаешь… как там тебя?
– Если бы у меня было имя, я бы не сидел здесь голым…
– Повторяю, – он старался говорить хрипло и строго, – где кубок?
Блондин, продолжая прижимать хэнди, наклонился к сумке с надписью Puma. Прострекотала молния. Интересно, что они еще успели прихватить из лимба?
Забрав кубок, завернутый в полиэтилен, наклонился к ним. Пакет был тяжелым.
– Ты, – мотнул подбородком на блондина, – будешь «Славянин». А этот пусть «Турок». Паспортные имена придумаете сами. Одежда – в сумке. Абгемахт?[8]
Двое быстро стали одеваться, переговариваясь на плохом немецком. Он вернулся к себе на сиденье, обдумывая, что бы сделать с кубком, не таскать же. Лучше всего незаметно бросить в реку. В Германии сложно что-то сделать незаметно. Ладно, что-то придумает… на месте…
По вагону шел контролер. Остановившись перед Славянином и Турком, спросил билеты. Значит, они успели стать видимыми; на их хэнди пришло подтверждение. Что-то показывают. Билеты?
В его подсознании уже продаются билеты Дойче Баан; что же будет дальше?
В стекле показалась серая гора. Ровная и аккуратная, проплыла и исчезла. Похожа на вулкан.
Он прилип к ней взглядом. Потом к пустоте, оставшейся после нее.
В Фульде шел дождь.
Вокзал здесь теснее, чем в Эрфурте. В конце концов, что есть дождь? Жидкое время, текущее с небес. Секунды. Капли-секунды.
В 11:20 в Фульде шел дождь.
В 11:26 в Фульде шел дождь.
В 11:32 в Фульде всё еще шел дождь. Зонт выстрелил и раскрылся, китайский зонт под немецким дождем. Зонт не спасал, джинсы быстро потемнели.
Он шел, глядя на свои ноги и мокрую брусчатку.
Шаг, шаг, шаг… А эти двое?
Они сошли вместе с ним и растворились в дожде. Турка он видел, проходя мимо вокзальной забегаловки: тот стоял и изучал витрину с сэндвичами. Или не он?
Ах да, у него ведь кубок. И кубок золотой хранил он, дар прощальный. Как бы отделаться от этого дара? С этими артефактами из подсознания всегда морока. Сейчас карета, а в двенадцать ноль-ноль – тыква. Во что может превратиться кубок? В отрезанную голову, например. «Извините, майн герр, из вашей сумки странно пахнет…»
В любом случае, таскать его по Фульде он не намерен. Зайти в какую-нибудь подворотню и хотя бы глянуть на это произведение искусства. Или в туалет без видеонаблюдения, если такие еще остались. Ноги уже промокли. Шаг, шаг.
Он вышел на площадь и остановился. Дождь обступал его со всех сторон, залетал под зонт, пропитывал. Захотелось горячего. Он увидел кафе.
Двое под одинаковыми зонтами, купленными на вокзале, оказались здесь через пять минут. В кафе заходить не стали, устроились под навесом. Дождь полил слабее.
Он спросил капучино и пирожок с чем-то. Просто ткнул в ламинированную поверхность меню, поблескивавшую от ламп. Устроился перед большим витринным окном с видом на мокрую площадь.
Принесли капучино.
Он приехал сюда из-за ведьм.
Нет, сейчас с этим всё благополучно, ни ведьм, ни колдунов; одиночные астрологи и гадалки получают патент и платят налоги.
С 1603-го по 1605-й здесь шли процессы над ведьмами, одни из самых крупных в Германии. Он отхлебнул капучино и снова посмотрел в окно.
Около двухсот пятидесяти было осуждено; в основном женщины. Сжигали их… где? может, на этой площади. Он прикрыл глаза. Для чего он приехал сюда?
Странный вопрос, майне дамен унд геррен (в нем снова включился немецкий собеседник). Айне комише фраге[9]. Он повертел чашкой. Странный вопрос для того, кто открыл слоистую структуру времени.
Ему принесли пирожок, братья мои. Нежный пирожок с ежевикой.
Раз, два, три. Прекращается дождь. Раз, два, три. Из-за нарисованного облака выезжает золотое солнце. На площадь выбегают жители, дети, собаки; в солнечных лужах купаются птицы.
Его преосвященство князь-аббат Бальтазар фон Дернбах с аппетитом поглощает пирог с ежевикой. Он полагает разумным хорошо подкрепиться, прежде чем отбыть на казнь.
Его преосвященству пятьдесят пять лет, у него узкий лоб, глаза с прищуром и пухлые губы. Щеки, усы и бородка равномерно движутся, вовлеченные в потребление пирога. Зубы, эти славные воины, ратоборствующие с твердостью пищи, рассекают и расплющивают ее. Источники влаги щедро и благовременно умягчают всё слизью.
Начинает бить колокол. Челюсти князя-аббата на мгновение замирают, дабы затем вновь продолжить свои труды.
«Бин, бин, бин» – бьет колокол.
Шел третий год нового, семнадцатого века.
Это было время (продолжает закадровый голос) великих успехов в медицине. По всей христианской Европе устраиваются анатомические театры, при университетах учреждаются и процветают кафедры анатомии. Каноник собора Модены отец Фаллопий исследовал и описал достопочтенные маточные трубы. Был изобретен термометр. Сифилис стали врачевать меркурием и сарсапарелью.
Одновременно с успехами медицины, как это обычно бывает, шло усовершенствование орудий пыток.
Его преосвященство был просвещенным человеком своего времени. Твердой рукой с помощью ученых монахов-иезуитов он насаждал среди темной своей паствы свет и образованность. Он боролся с суевериями. Он боролся с колдовством, пустившим глубокие ночные корни. Он выискивал, расследовал и выжигал эту скверну и, отправляясь на очередную казнь, подкреплялся ежевичным пирогом.
«Бин, бин, бин!»
Вот уже зашумели колокола со Святого Власия, зашевелились и забормотали на Святом Михаиле, зарокотали на Святом Сиверии и, наконец, весело и мощно ударили на соборе Спасителя, главной церкви его, Бальтазара фон Дернбаха, аббатства.
Его преосвященство заканчивает трапезу.
«Бин, бин, бин» – бьет колокол.
Словно предсказывает, кого сожгут сегодня.
Стая птиц срывается с северной башни собора и рассеивается по небу. Облака плывут быстро, точно тоже торопятся не пропустить зрелище. Горожане уже собрались; солнце висит в небе, свет его играет на перстне и на блюде с остатками пирога. Его святейшество делает знак, блюдо с солнечным светом уносят в сероватый сумрак.
Ту, которую сегодня сожгут, зовут Мерга Бин.
Та, которую сегодня сожгут, была дважды замужем, оба мужа скончались, она унаследовала их состояние. Это – первая улика.
Удар колокола.
Та, которую сегодня сожгут, в нынешнем, третьем по счету браке четырнадцать лет не имела детей. Ныне же она беременна, а ей сорок два года. Это вторая улика.
Новый удар колокола.
Для своих сорока двух лет она красива, неприятно моложава; откуда взялась эта красота? Вот и третья улика. Теперь, после полугода в башне, красота ее поблекла. Поблекла, но не исчезла.
«Мерга Бин!..»
Ее допрашивали, она всё отрицала. Поначалу все они отрицают, эти дамы с поволокой в глазах и серебряным голоском. Ее муж, вместо того чтобы смириться, все эти полгода строчил жалобы в Камеральный суд. «Ваши высокоблагородия, примите в милостивое внимание, что супруга моя непраздна и ожидает потомства». Безумец, подумал бы лучше, от кого она может при таких обстоятельствах быть непраздной. Впрочем, она сама во всем призналась. Даже пыток не потребовалось; просто показали ей инструменты и рассказали о действии каждого. Притворщица изобразила обморок. Ее подняли и облили холодной водой.
Мергу держали на псарне, с собаками. Она сидела там, забившись в угол, пузатая, поджав опухшие ноги и дрожа. Когда ее поднимали наверх, от нее несло псиной.
Когда его преосвященство вернулся в Фульду после изгнания, он первым делом решил очистить город от ведьм. Они так и сновали кругом! Не так опасны были последователи Лютера, из-за козней которых он был изгнан, как эти бабенки с поволокой в глазах, белыми шеями и ненасытностью в каждом телодвижении. Добрые немецкие мужья уже не удовлетворяли их пылающий аппетит; они отдавались нечистому, являвшемуся им то в виде длинноногого Эфиопа, то похотливого Турка, то ревнивого Мавра. Его преосвященство стал наблюдать детей, бегавших по улицам. Многие были смугловаты, с дикарской усмешкой на устах. Родня же и соседи ничего не видели; даже священники крестили их, не смущаясь их внешним видом; такова сила невежества.
Что будет дальше с этими детьми? Они вырастут. Обладая, по известной причине, изощренным умом, они станут сочинять еретические трактаты, соблазнительные картины и возбуждающие мелодии.
С весны не проходит и недели, чтобы на площади не собиралась толпа и не вспыхивал огонь.
Его преосвященство опустил взгляд на белую скатерть и сложил ладони. Колокольный шум смолк. Птицы расселись по башням, готовясь к зрелищу. Площадь вдыхала и выдыхала тихим шумом. Князь-аббат не торопился: без него не начнут.
Разлепив ладони, он поднял прищуренные глаза. На узкий лоб легла складка.
Он не стал давать знак слуге, сам поднял небольшой кубок, стоявший по правую руку от него. Этот кубок был с ним в годы изгнания. Этот кубок… Впрочем, сейчас не время для воспоминаний, дети мои. Он сделал маленький глоток.
…Золотое солнце горело над площадью, как еще один костер.
Князь-аббат прошел через площадь на свое место, благословляя толпу. Всё уже было готово. Ведьма, выпятив живот, стояла внизу, бледная, как альпийский снег. Зрители гудели, переминаясь с ноги на ногу; перегавкивались собаки, фыркали лошади.
«Мерга, я здесь!» – раздался хриплый мужской крик.
Стража бросилась в толпу, возник водоворот из голов и спин. «Ее муж», – шепнул кто-то; князь-аббат сухо кивнул. Солнце летело по небу, облака выстроились в ряд, как перед началом французского танца. Можно было начинать.
Потом они долго лежали.
Почти целый день, да? Наверно. Можно было встать и что-то делать, но вставать и что-то делать не хотелось. И лежать уже не очень хотелось, но они всё лежали, молчали, переговаривались. Время текло где-то над ними, кажется, по потолку, почти их не касаясь. По потолку бродили солнечные пятна. Сбоку шевелились зайчики от лужи, высыхавшей где-то внизу, за окном. Никогда он так долго не разглядывал потолок.
Еще качались шторы. Когда они поднимались на сквозняке, пыль из них наполняла собой длинные лучи. А они всё лежали. В одежде? Может, в одежде. Одетые в пыль и солнечный свет. Было тепло, начало сентября, но ночью уже зябнешь. И тихая, непонятная северянам радость – что лето прошло и еще не остывшие адские сковородки увозят в ангар, до следующего лета. И снова глядишь на потолок, где продолжается кино – тончайший абстракционизм, название: «Трепетание пятен». Оно шло, бесплатное, немое, лишь изредка озвучиваемое криками со двора и звуком дальнего трамвая: в Ташкенте тогда ходили трамваи. Иногда луч кинопроектора сползал с потолка и мазал по стенам, и тогда они мысленно топали ногами и кричали: «Киношника на мыло!» – и это, как всегда, не помогало. Еще они долго спорили, кому вставать и делать кофе, в итоге никто не встал, они продолжали лежать, отвернувшись друг от друга загорелыми спинами.
Потом он чувствовал на спине ее пальцы, потом ее губы.
Солнце давно уже ушло с потолка, и он был серый, обычный, посередине темнела люстра. В двух плафонах-рожках хранились пушистая пыль и мертвые мотыльки. Эти плафоны нужно было отвинтить и вымыть теплой водой, но в тот день… Нет, иногда он садился на кровати, глядел в пустоту и, сказав что-то, снова падал обратно. Иногда поднималась она, решительно пыталась опустить ногу, но что-то там не выходило с ногой, с руками, которыми она опиралась на матрас. И тоже падала, а он гладил ее по руке, от плеча к запястью, и успокаивал. Бывают дни для подвигов… сегодня просто не такой день… Подумав, она соглашалась.
Пятна немого кино стекли со стены на пол, теперь их озвучивали скворцы, их перебивал звук машины, еще одной. Он опускал руку и, пошарив в сумерках, возвращал ее с куском лепешки. Или яблоком. Яблоки лежали на газете рядом с кроватью. Откуда бралась лепешка, он не помнил.
Потом стало совсем темно, он хотел включить свет, она остановила его руку.
За деревьями в окне зажглись красные и желтые окна, затрещали сверчки.
Дневное кино сменилось ночным. Этот фильм был тревожным, кто-то должен был погибнуть; ему стало холодно. Она спросила, что он ищет. Еще одна машина, совсем рядом. Было слышно, как в ней гремит музыка. Музыка подъехала, остановилась и загремела сильнее, водитель открыл дверцу.
Они лежали, обнявшись. Пошарив, он нашел одеяло.
Музыка еще постояла над ними, отдаваясь в стеклах. Хлопнула дверца, звуки стали отъезжать. Снова стал слышен мир, сверчки, голоса мужчин. И даже отдаленный трамвай, последний трамвай того дня.
«А почему ты меня называешь Мергой?» – спросила она, зевнув.
Он промолчал и укрылся теплее.
Всё было не так. Они не лежали. Это была не осень; то есть не ранняя. Не было потолка, не было стен и яблок.
Он не называл ее Мергой. Это – поздний слой его лимба.
Была пустота.
Возможно, был трамвай.
Трамвай ехал в пустоте, иногда останавливался и открывал двери. Никто не выходил, никто не садился; внутри пахло пылью и чем-то горелым. За одну остановку до конечной вошла женщина, оглядела пустые сиденья, точно озадаченная таким большим выбором. Села на ближайшее и стала рыться в сумке.
Река Фульда была не слишком глубокой, пакет с кубком затонул легко. Погружаясь, пару раз перевернулся, полиэтилен вздувался, взлетали пузырьки. Ударился о дно, поднялось облако песка и ила. Еще несколько пузырьков, и пакет замер. Только чуть шевелился от придонного течения.
И кубок свой червонный. Осушенный до дна.
Он закрыл зонт и стряхнул на землю. Дождя уже не было; проплыли, оставляя короткий след, неизбежные уточки.
Он бросил вниз, с балкона. Где выла глубина.
Фулой древние географы называли остров-призрак на дальнем севере. Воздух там как желе, дышать им трудно. Как же там дышат?.. Одна из уток, не прерывая движения, повернула голову.
Он побывал в соборе.
Собор изнутри был белым, с нарядными серыми тенями. Это был уже не тот собор, который видела Мерга Бин, вглядываясь в толпу, откуда кричал ее муж. Тот собор был темным; внутри него стояла вечная осень и шуршали сухие листья молитв. Осень – время жатвы, время страданий. Нынешний собор был построен чуть позже в стиле барокко, последнем великом стиле Закатных Стран. Томас пройдется по нему, отдыхая от дождя, льющего снаружи. Те двое, мокрые и теплые, будут ждать на улице; они пока еще не научились жить, боялись заходить в храм, боялись наступать в лужи, напоминавшие погасшие зеркала. Шаг, шаг, еще… Собор внутри белый, как прозрачная зима. В глубине этой зимы покоились мощи святого Бонифация, крестителя Германии.
А те, на Фуле, жили на плавучем острове.
Остров медленно перемещался, все дальше к северу, где летом не бывает ночей, а зимой – дней. Народ дичал, распространились ереси и болезни. Когда сюда доплывали христианские проповедники, фульцы кидали в них горящими головнями. Они знали, что вымрут, и боялись, что христианство внесет в это ненужную тонкость. Впрочем, что такое христианство, они толком не знали, вообще мало что знали и еще меньше чего-то хотели. Могли целый день сидеть, глядя на камень, собаку или тусклое солнце. Их дома и библиотеки разрушались, женщины уходили в лес. Воздух становился всё больше похожим на студень; чтобы дышать, надевали восковые маски. Наконец остров доплыл до Мировой Воронки, разрушились остатки домов и башен, и он завертелся по спирали, уходя вниз. Мировая Воронка закрылась, и вода снова стала гладкой и неподвижной.
Он подошел к башне, обвитой диким виноградом.
В этой башне их держали. Кого их? Женщин. Каких? Каких надо.
Мерга Бин сидела в подвале с собаками. Но кормили ее отдельно от собак. Ее кормили лучше, чем собак.
Ее изображений, если они были, не сохранилось. Изображения этих женщин, их белье и обувь, всё это сжигалось. Говорили, что она была красивой. У нее были длинные, чуть выгибающиеся назад пальцы; это считалось изысканным. Даже в этой башне ее красота не погибла сразу, только глаза покраснели и возник тяжелый запах изо рта.
«Что есть жизнь?» – думала она.
«Соединение Пространства с Временем, их торжественное бракосочетание», – отвечал ей голос.
Собаки ходили вокруг нее, гремя цепью и поблескивая мужскими глазами.
Пространство в немецком – мужского рода, дер Раум.
Время – женского, ди Цайт.
На гравюрах того времени Раум-Пространство, воин в коротком плаще, сочетался браком с Цайт-Временем, полуобнаженной девой с песочными часами в деснице; верхняя луковица полна песка, нижняя пока пуста. Юный Раум прижимает к своему бугристому бедру земную сферу. В другой, протянутой его руке – небесная сфера, испещренная звездами; ее дарит он своей возлюбленной. Над новобрачными горит Солнце с одутловатым лицом и благословляет их своими лучами.
«О Изида и Осирис, дайте Дух мудрости этой новой паре!»
Нет, этого пока не было. Это будет написано почти двумя веками позже. Пока еще никаких Изид, никаких Осирисов; серая Фульда под долгим серым дождем; яд египетских мистерий еще не скоро проникнет в жилы тихих немецких городов, господа.
«А что есть смерть?»
Мерга опускается в сон, всё ниже и ниже. Сон подобен храму, растущему колокольнями вниз. Она полагала, господа, что ребенок, данный ей под старость, – от Бога. Мужчины, крысы и собаки в этой башне убедили ее, что она ошибалась. И еще маски. Металлические маски, которые они показывали ей и объясняли действие каждой. Не желаете ли примерить, милая фрау? Фрау мотала головой и проваливалась всё ниже и ниже. На голову и грудь ей лили воду.
«А что есть смерть?»
Пауза.
«Она есть разлучение Пространства и Времени».
Старуха с морщинистой грудью и обвисшим животом сжимает песочные часы. Верхняя луковица почти пуста, последние песчинки улетают вниз. Сгорбленный старик в плаще с трудом удерживает две сферы, земную и небесную; обе покрыты трещинами, земная объята пламенем. Господин Раум отворачивается от госпожи Цайт; та награждает его презрительным взглядом. Наверху, за темными облаками, изображена Луна, глаза ее скорбно прикрыты.
Следующий сеанс был назначен на четверг.
Они так и не могли преодолеть ту стену, на которую наткнулись, блуждая по его сознанию. Обычное сканирование ничего не давало. Пара бесед в белом кабинете с большим холодным креслом – тоже. «Вам не холодно?» «Нет». Светили лампы. Со стены щурился лениноподобный доктор Фогт.
Теперь он шел в другой кабинет. Всё-таки мозг. Нужен был мозг. Хорошо, если так нужно, он готов.
В кабинете полусвет; ага, новый аквариум. Он щурится, пытаясь разглядеть рыбок. Рыбок, кажется, нет, только водоросли, освещенные сбоку. Хотел спросить о рыбках, но заметил… да, забавная встреча. Слегка поджал губы; надо, наверное, улыбнуться.
Эти двое сидели рядом с аквариумом, в белых халатах. Желтоватые блики скользили по лицам и плечам.
Интересно, как ему их представят?
Стал разглядывать их уши. Единственная часть лица, которая не обманет. «Часть головы», поправил сам себя. У Славянина маленькие уши, признак живого, несложно устроенного ума. У Турка – чуть побольше и безжалостно оттопырены, он прикрывает их волосами. Всё в колеблющемся аквариумном свете.
– Как вы съездили в Фульду, господин Земан?
Сегодня он господин Земан – не забыть.
Его попросили раздеться.
Он спокойно снял куртку и вручил девице в белом халатике… Кажется, тоже новенькой.
Он коротко ответил, как съездил.
Боковым зрением он видел, как его куртку вешают на плечики.
Он снова поглядел на ухо Турка, торчавшее из-под прядей. И подумал о лабиринте. Глаз – это сфера, ухо – лабиринт.
– Подождите, – заскрипели креслом за спиной. – Сканирование еще не запущено, а вы уже начали думать…
Он обернулся на голос, в сумерках белел аппарат. За ним сидел маленький человек в халате.
– Господин Земан, – сказал белый человек спокойнее, – постарайтесь немного придержать ваши мысли.
Через пять минут он уже лежал, вытянув руки, в длинном контейнере, а на голову его наезжала темная конструкция. Когда она накрыла голову, он сделал смешную гримасу. Это они тоже заснимут?
«Внимание, идет сканирование», – сообщил мужской голос.
Звонок в полседьмого. Чего-чего… Утра.
– Мне страшно.
– Опять?
– Да.
– Приехать?
– Не надо. Справлюсь.
Молчание.
– Прости, что разбудила. Хотела услышать… чей-то голос. Скажи что-нибудь.
– Что-нибудь.
– Я серьезно.
– Хочешь, Вергилия почитаю? – Откашливается. – Ultima Cumaei venit iam…
– Ты не меняешься.
– Почему я должен меняться?
Сейчас пойдут короткие гудки.
Молчание.
Идут короткие гудки.
С Вергилием был проверенный прием. Все они почему-то ненавидели Вергилия. Все они, звонившие ему рано, не рано, поздно, совсем поздно. «Ты знаешь, который час?» – «Полвторого… ты спал?» У них всех были проблемы с чувством времени.
«У них всех…» А что, их было так много? Нет. Ноу. Нихт. Он был фаустовским человеком, а не донжуанским. Так можно сказать по-русски – «донжуанский»? В общем, да (быстрый кивок). Фаустовский человек всю жизнь ищет женщину-зеркало, чтобы отразиться в ней. Донжуанский – сам отражает в себе каждую женщину.
Он не умел отражать женщин. Они глядели в него, дышали на его холодное стекло, терли носовым платком, салфеткой, краем свитера. Глядели и не видели своего отражения. Видели, но не такое, какое хотели, боялись себя, не узнавали. «Это кто?.. Нет, это не я. Стой, еще протру…» И снова дышали, терли, глядели. Нет. Лица искажались мгновенной судорогой понимания. Следовало: хлопанье дверью, бросание трубки, арктический ветер при встрече.
Он тоже глядел в них. Наблюдал и оценивал.
Пытался добиться четкости своего отражения.
Женщина – это путь. У одних – раскаленное асфальтовое шоссе, по которому идешь, полубежишь, подскакивая, обжигая пятки. У других – дорожка в лесу, с горькими ягодами, солнцем и комарами. У третьих – бульвар после летнего ливня; бредешь по щиколотку в воде, и машины обдают тебя фонтанами счастья.
Они – двое – стоят возле стен старого эрфуртского университета.
Солнце, ветер западный. Турок в темных очках.
Этот университет был одним из первых в Германии. Так сказано в путеводителе, который держит Славянин.
Они недавно позавтракали, в желудках перевариваются остатки омлета с помидорами, двух пересушенных тостов и двух йогуртов, клубничного и вишневого. Всё это залито кофейной жижей.
Вы уверены, что эти подробности нужны? Вместо ответа раздается стук пневматического молотка: неподалеку ремонтируют дорогу.
Здание университета залито светом. Здание бывшего университета. В этом городе всё немного бывшее. Город для пенсионеров, говорят губы Славянина. И туристов, добавляют губы Турка.
В начале шестнадцатого века университет переживал свой блютецайт (расцвет).
С 1501 по 1505 год под сенью эрфуртской ферулы обучался юный Мартин Лютер, тогда еще «Мартинус Людхер из Мансфельда». Вечерами пел хрипловатым фальцетом и подыгрывал себе на лютне.
Там, где клубится музыка, неподалеку бродит ересь.
Собственно, музыка и есть ересь – просто лишенная слов.
Здесь должна стоять звездочка. Сноска, отсылающая вниз, на дно этой страницы. Но страница пока еще не заполнена.
На Рождество 1505 года он окончил университет, получив отличительные знаки магистра искусств – кольцо и шапочку.
Через восемь лет, в 1513 году, в этом университете прочтет несколько лекций коренастый человек с тонкими ногами и крупным лбом – доктор Иоганн Фауст.
Пневматический молоток замолкает. Остается урчание компрессора.
Из Ташкента пришли новые документы.
Оказывается, после третьего курса Сожженный отчислился. А через год снова восстановился.
Что он делал весь этот год?
– Кто-то должен туда съездить… – Славянин натягивает свитер. Его маленькие уши розовеют.
Наступает зима – тепло на солнце, холодно в тени. Турок в свитере, под джинсами теплое белье. Мысль о поездке в Ташкент висит давно, еще с самого следствия. Так никто и не съездил.
В воздухе уже вкусно пахнет Адвентом. Везде красные свечи и колючие венки.
– Мы живем здесь как иностранцы, – говорит Славянин.
Холодные и солнечные дни. Ветреные и пустые. Ветер раскачивает всё. Ветер раскачивает сам себя.
Институт медленно закрывается. Пока еще решают, что делать с остатками оборудования. Кто даст финансирование на поездку в Ташкент теперь, когда она никому не нужна?
Мысль съездить была, была – и сплыла. Вниз по мелкой Гере, чуть обгоняя уток и рыб, под мостами с темным исподом. Финансирования было достаточно, желающих покататься за евроденьги на экзотическую родину Сожженного тоже хватило бы. Никто не поехал.
– Мы и есть иностранцы, – помолчав, отвечает Турок.
У него красный турецкий паспорт. С немецким гражданством пока не получается.
Дальше происходит такой разговор; прибавьте, пожалуйста, громкость.
– Что мы о нем вообще знаем? – говорит Турок.
– Ты о чем? – говорит Славянин.
Еще прибавить? Спасибо.
– У него есть родители. Что мы знаем о его родителях? Только не говори, что они солили капусту.
– Я не говорю.
– У него есть друзья. У нас говорят: если ты хочешь знать человека, узнай, с кем он делал дружбу.
– У нас тоже так говорят.
– У него была женщина, – говорит Турок и чешет спину.
– Но…
Турок машет рукой:
– Я не об Анне. То, что удалось расшифровать, всё не то. Это тупик, а не женщина. Что еще? Убийство. Одно. Оно было? Предположим, но в каком смысле… и в какой реальности? А может, их было больше?
Славянин поднимает голову, он сидит на стуле:
– Ты решил порепетировать свое выступление перед ученым советом?
– Я имел их всех. – Турок садится на корточки перед Славянином. – Я хочу понять, чем мы тут занимаемся. Мы изучаем… что угодно, только не его. Этот город, например.
– Чем он тебе не нравится?
Турок молчит.
На Рыночной площади к Рождественской ярмарке устанавливают колесо обозрения. Скоро оно будет покрыто лампочками. Очень скоро, подождите.
Горизонтальная черта, маленькая звездочка. Та, что упала сверху страницы вниз, в прежнюю ташкентскую жизнь.
«Разорви мою грудь, разорви мое сердце, насыпь туда побольше перца…»
Начало сентября, еще тепло.
«Интересное желание», – заметил он, прислушавшись.
«Не нужно слушать слова».
«Почему?»
Они вышли на балкон, она закурила. Обнаружился источник: распахнутое окно сбоку. Из окна вылезла голая мужская нога, пошевелилась и исчезла обратно.
«Не мешай им привыкать к музыке, которую они будут слушать в аду».
Песня загремела громче.
«А ты уверен, что мы туда не попадем?»
Через час, уже за ужином, он добавил: «Для нас там, наверное, будет всё время звучать Бетховен. Или Стравинский. И это будет еще хуже, чем “разорви мою грудь”».
Отодвинул стул и пошел мыть посуду. На столе краснел арбуз.
Ампула пилилась с трудом.
Он успел перетащить ее на кровать; поглядывал, чтобы она, дернувшись, не свалилась. На полу длинное, размазанное пятно крови. Падая, она рассекла губу.
«Я вытру! Я всё вытру!» – кричала она минуту назад, начав приходить в себя.
Ампула хрустнула, он быстро погрузил иглу и всосал мутноватую жидкость. Как речная вода, подумал почему-то.
Достал початый «Абсолют». Где ватка? Наклонив бутыль (пузырьки), смочил ватку (снова пузырьки). «Как жалко тратить “Абсолют” на… это место, правда?» Когда она сказала это? Вчера?
Подошел к кровати. Она лежала на спине и смотрела на него. На губе болталась кровавая ватка.
«Можешь перевернуться?»
Одной рукой держа шприц, он попытался перевернуть ее на живот. Хорошо, что ничего снимать и расстегивать было не нужно: еще не успела одеться. Она была тяжелой и холодной.
Поглядев на свет, выпустил из шприца остатки воздуха.
А может, это речная вода? Речная вода в ампулах. Из реки забвения, стерильно. После инъекции они залезут в лодку и поплывут по ней.
«Давай уже, – сказала снизу. – Что смеешься?»
«Подумал, что по форме они совершенно похожи, мозг и… только извилин на ней нет».
«Думаешь, тебе первому пришла эта… Ай!»
Он медленно вводил – речную воду – воду забвения.
«Ай, больно!»
«Не напрягай… Всё».
Он вытащил шприц и приложил вату.
«Хватит ее разглядывать. – Ее голос был уже не таким хриплым. – Ну что ты делаешь…»
Он смотрел в окно. Во дворе журчали воробьи, откуда-то издали шумела музыка, и небо было обычного цвета. Ташкентского пыльно-голубого. На детской площадке проводили свое безразмерное сферическое время дети.
Что это были за приступы? Она говорила, сердце. Он не верил.
Дети разбежались с площадки, как будто хлынул ливень. Но ливня не было, всё было таким же сухим и пыльным.
А лодка с теми, кому вкололи воду забвения, уже где-то на середине реки, если у этой реки может быть середина.
Снова поднимаемся на верх страницы, цепляясь за качающиеся строки. За прозрачные воды неглубокой Фульды, неглубокой Геры. За скользкую водяную траву.
Его фамилия переводилась как «кулак». Иоганн Фауст. Иван Кулаков. Впрочем, на латыни Faustus означало «счастливый».
Если на жилистый немецкий кулак натянуть узкую перчатку латыни… Он сжимает кулак. Поглядев на него внимательно, разжимает.
Вот оно, немецкое счастье: крепкий мыслящий кулак. В перчатке латыни или другого древнего языка.
Без перчаток, кстати, в университетских аудиториях приходилось тяжко. Адский холод сковал всё в ту зиму. Школяры дышали в ладони и растирали заиндевевшие ляжки.
В аудиториях, где читал свои лекции доктор Фауст, холод особо не ощущался.
Ладонь господина доктора то сжималась в кулак, то разжималась и выдвигалась вперед на особо эффектных силлогизмах.
Аудитории, где читал доктор Фауст, были набиты студентами как сельдью. Эти господа, собравшиеся послушать знаменитого доктора и князя философов, согревали залу своим молодым дыханием и теплом.
Враги доктора поспешили объявить, что теплота эта не иначе как связана с чернокнижием, в занятии которым доктор подозревался. Что это тепло ада.
Он прискакал в Эрфурт за десять дней до этого на вороном коне.
Окрестные поля стояли пустыми, урожай был снят; небо, напротив, тяжелело облаками, напоминавшими огромные яблоки и другие плоды.
Из ноздрей господина доктора вырывались короткие струйки пара. Такие же, но покрупнее и погуще, вылетали из ноздрей коня.
Топ, топ-топ.
Если еще приглядеться к качающейся вверх-вниз докторской голове, можно заметить иней в бороде.
Прибыв в город, доктор Иоганн Фауст остановился в Доме под якорем у своего друга и покровителя Вольфганга фон Денштедта. Сам господин фон Денштедт был в отлучке, однако распорядился, чтобы его знаменитого гостя встретили со всей предупредительностью, что и было исполнено.
После доброго завтрака господину доктору предложили отдохнуть; служанка стояла перед ним со свечой, часто моргая; помаргивала и свеча.
Он вежливо отказался. Чем бессмысленно валяться на перине и кормить собой эрфуртских клопов, лучше выйти. Да, выйти (жест рукой). Господин доктор желает осмотреть город? Он кивнул. Пламя свечи снова дрогнуло. Качнулась темная докторская тень на побеленной стене.
Он не собирался осматривать город.
Все эти немецкие города похожи друг на друга, как отражения в темном зеркале. Вонючие улочки, ведущие на площадь с рынком и непременным собором, на всех рынках торгуют одним и тем же, как, впрочем, и во всех соборах… Различаются только реликвии, но ими господин доктор не слишком интересовался. Он был человеком новой эпохи. Так он считал (щелчок пальцами). Так он думал.
Университет располагался недалеко от Дома под якорем; доктор направился туда. Было солнечно, ветрено, пахло дымом и успевшими подтаять нечистотами. С ректором университета у него была переписка, его приглашали и ждали. До этого он читал лекции в университетах Виттенберга, Гейдельберга и Ингольштадта. Его слава гремела, как барабан.
Город ему не понравился. Но завтрак был хорош, он всё еще чувствовал его вкус во рту и приятную тяжесть в утробе.
В эрфуртском университете преподавалась так называемая via moderna. Приверженцы «нового пути» отрицали реальное существование абстрактных понятий вроде истины, добра или любви… Господин доктор слегка улыбнулся в бороду. Слово moderna ему нравилось. Вкусное, аппетитное слово. Как мадера, которую, правда, тогда еще не изготовляли.
Итак, истины самой по себе не существует. Нет также и любви. И… Не будем продолжать этот скользкий ряд. «За такой, герр доктор, ряд – могут вам поджарить зад!»
Свой зад господин доктор уважал – как, впрочем, и живот, ляжки и другие части своего горячего и еще нестарого тела.
Под ногами доктора весело хрустели лужи.
Все абстрактные идеи, которые нельзя увидеть, пощупать или обнюхать, объявлялись фикцией. Они, утверждали модернисты, существуют только в нашей душе и более нигде.
Но что же тогда есть сама душа? Ее разве можно увидеть, пощупать… унд зо вайтер[10]?
После того как Людовик Благоразумный запретил профессорам Сорбонны под страхом смерти исповедовать модернизм, многие бежали в немецкие земли и via moderna свила себе гнездо здесь, в этом унылом Эрфурте.
Что ж, начало положено. Тонкий яд французской философии просочился в холодные эрфуртские стены и тяжелые эрфуртские умы. Пора пускать в ход кулак, den Faust. Доктор сжал кулак и почувствовал, как следом напряглась еще одна достопочтенная часть его тела… Язык? Да, разумеется, язык. И, вспомнив служанку со свечой, усмехнулся.
Здесь должна была быть небольшая глава о Фаусте, о его пребывании в славном городе Эрфурте. О его необычных лекциях и еще более странных пирах.
О том, как, проезжая по переулку верхом на бревне, он столкнулся с монахом-августинцем. У монаха были желтоватое лицо и серые умные глаза. Звали его братом Августином, но более известен он был под своим мирским именем Мартин Лютер.
Но этой главы здесь не будет, она будет дальше. Катехон замедляет действие, катехон замедляет всё.
Сожженный понимал это.
Он любил гулять по Эрфурту. Не потому, что любил этот город (хотя, может, и любил). Не потому, что любил прогулки (хотя, возможно, они доставляли ему некоторое удовольствие). Не потому, что любил ковырять в зубах (хотя именно этим во время прогулок порой занимался).
Он любил саму возможность замедленного движения, которую давал ему этот город. Город белого колеса на красном фоне, его герб. Колесо это некогда быстро катилось, подскакивая на рытвинах немощеных улиц, потом, когда их замостили, простучало по мостовым, успело прокатиться немного по асфальту… И замерло. Теперь изредка шевелится от ветра, чуть поскрипывая.
Выйдя из своей квадратной берлоги на Картойзерштрассе, он шел, шел, потом пересекал Гагарин-ринг, широкую и ветреную, застроенную гэдээровскими коробками. В одной из них был китайский ресторан, куда он никогда не заходил.
Его обгоняли велосипедисты. По звуку казалось, что эти люди перемещаются на дрессированных стрекозах.
Он пересекал разноцветный Ангер.
В этом месте почему-то всегда ломалась зубочистка.
Он лез в карман и доставал другую.
По Ангеру чинно двигались трамваи. Он любил эти трамваи рассеянной и безразличной любовью. В трамваях чувствовался уют, особенно осенью. Он глядел в их окна, в них светились люди и казались ему ближе тех, кто ходил и стоял за пределами трамвая. Те, внутри, были объединены каким-то единством. Призрачным трамвайным братством, мимолетным и честным. Он переходил трамвайные пути.
Он шел к площади, где его потом сожгут.
Иногда, когда лил дождь и людей на площади было мало, а туристов не было совсем, он поднимался к собору. Слева на темной стене была его любимая голова. Из приоткрытого рта ее росли две тонкие лозы. Он стоял и думал, слегка намокая со спины.
Если дождя не было и были люди, он сразу шел на Петерсберг. Петерсберг был холмом, на нем было безлюдно. На Петерсберге стояла крепость, ее серые остатки. Холм был покрыт деревьями и травой, кое-где был высажен виноград. В детстве он любил обрывать виноградные усики и есть их. Здесь он, конечно, ничего не обрывал; здесь никто ничего не обрывает, это не принято. Он просто смотрел, тяжело дышал от подъема и вспоминал кислый вкус усиков. Здешнее сухое вино тоже было кислым. Казалось, его делали не из плодов, а из усиков и листьев.
Иногда здесь высаживали цветы, красные и белые, кажется флоксы. Цветы образовывали герб города. Он садился на траву, в подвижную тень от дерева. Что означали эти две лозы, росшие из приоткрытого рта? Тогда, в каком-нибудь пятнадцатом веке, всё что-то означало. Люди не могли позволить себе тратить свою краткую, как порыв ветра, жизнь на то, что лишено означаемого.
Он сидел на холме. Перед ним – широкие спины двух соборов. Внизу жил город. Пролетали самолеты, иногда военные. Он поднимал голову и смотрел в пустоту.
Военные самолеты пробуждали мысли о войне, лишениях, невыносимых звуках и полужизни под завалами битого кирпича и черепицы.
И эта война скоро будет, думал он.
В теплое время года он ложился на траву. Тихий звук города, синкопы трамваев поднимались и омывали холм. По воскресеньям били колокола. Он лежал, слегка приоткрыв рот; казалось, если пролежит еще, сквозь его затылок начнет прорастать виноград. Две лозы поползут из его рта и будут что-то означать.
Выше располагалась сама крепость, иногда он шел туда. Здесь было пусто. Попадались люди, гулявшие с детьми или собаками; несколько старых деревьев, заброшенных старых зданий. Он называл это Афрасиабом, хотя ничего, напоминавшего самаркандское городище, здесь не было, кроме пустоты.
Сидеть здесь было негде, он просто ходил по пустому пространству.
Внезапно его хэнди начинал тихонько урчать. Он смотрел на номер и старел. Звонок из другой жизни.
«Привет».
Он хрипло отвечал:
«Привет».
«А что ты мне хотел почитать из Вергилия?»
Он прикрывал глаза и начинал читать – то, что помнил. На другом конце трубки молчали, потом начинали плакать.
Он стоял над городом, цвел чертополох, над его соцветиями летали шмели. Рядом бродил мальчик, собирая улиток и складывая в шуршащий пакет.
Стоит славный год 1513-й.
Доктор Фауст проживает в Эрфурте уже полгода.
Читает лекции, совершает прогулки по городу, беседует с друзьями. Иногда их ученые конференции сопровождаются вином и музыкой.
В том же году Никколо Макиавелли заканчивает своего «Государя».
Рафаэль по заказу папы Юлия пишет «Сикстинскую Мадонну».
Нюрнбергский мастер Дюрер искусно вырезает гравюру «Рыцарь, смерть и дьявол».
Эта гравюра доктору Фаусту известна, оттиски мастера Дюрера продаются по всей Империи. У князя философов и князя живописцев общий покровитель, император Максимилиан.
Рыцарь скачет на красивом мускулистом коне. Под брюхом коня, поджав уши, бежит пес. Рядом скачет смерть, из ее головы растут змеи, в руке зажаты песочные часы. Позади движется дьявол с длинным рогом. Все трое, судя по всему, молчат.
Раз, два, три.
Вопрос. Что общего у трактата Макиавелли, полотна Рафаэля и гравюры Дюрера?
Он стоит на кухоньке в Институте.
Пахнет мятным чаем в пакетиках. Несколько вскрытых коробок с печеньем, весело поблескивает раковина. Электрочайник, вымытые чашки, у каждого своя, личная; кофеварка, несколько журналов; никогда не видел, чтобы их кто-то брал в руки. Возле раковины рулон шершавой бумаги. Он ничего не забыл? Нет-нет, всё названо.
Итак, он повторяет вопрос.
1513 год. Никколо Макиавелли заканчивает «Государя»… Хорошо, он не будет повторять, если у вас уже готов ответ. Но у вас его нет. Возможно, мы выбрали не самое лучшее место для этой викторины. Хорошо. Раз, два, три. Мы переносимся… Куда? Хотя бы в Дом под якорем, где господин доктор Фауст угощал своих друзей вином, музыкой и философией. И конечно же, розыгрышами.
Розыгрыши! Это интересно.
Помните, как в начале одной пирушки он звонко хлопнул в ладоши – и вошел невысокий тип с оттопыренными губами? «С какой быстротой ты движешься?» – спросил доктор. «С быстротой пущенной стрелы», – отвечал тот. «Нет, это слишком медленно», – морщился доктор и снова хлопал в ладоши. Прежний уходил, являлся новый. «А ты, любезный, с какою быстротой?» «С быстротой ветра», – отвечал тот со швабским выговором. «Это уже лучше», – подмигивал доктор своим приятелям. «Лучше!.. Да-да… Лучше…» – откликались те. «Н-но пока недостаточно!» – объявлял доктор; следовал новый хлопок, в дверь влетал еще один. «Я, ваше благородие, – выпаливал он, не дожидаясь вопроса, – движусь со скоростью человеческой мысли!» Доктор теребил бородку: это, пожалуй, подойдет. Подойдет? «Подойдет», – откликались из-за стола; всем не терпелось приступить к трапезе. Молодец начинал носиться туда и сюда с разными блюдами, чашами, кувшинами. Появлялись, точно из воздуха, музыкальные инструменты.
Одни говорили, что это духи тьмы, прислуживавшие доктору. Другие – что нанятые им актеры из какой-то бродячей труппы, коих развелось тогда в немецких землях видимо-невидимо.
Стояли холодные зимы; весна начиналась поздно, лето слабо отличалось от весны. Распространялась болезнь. Выражалась в подрагивании пальцев, внезапном смехе, танцах и тяжелых мыслях.
Итак, что же общее было в трактате «Государь», «Сикстинской Мадонне» и «Рыцаре»? А у всего этого вместе – с тем, что творил доктор Иоганн Фауст в славном городе Эрфурте, веселя своих друзей и стращая эрфуртских обывателей?
«Мы устали», – отвечали обыватели. «Мы не знаем ответа», – говорили они, стоя возле Дома под якорем. «Мы в глубоком недоумении». И разводили руками, вот эдак. (Следует жест.)
Теперь, пожалуйста, крупным планом доску. Да, вот эту. Белую металлическую доску, внизу лежат маркеры и почерневшие губки. Он берет маркер и, противно скрипя им, пишет: «Теа…»
«…тр», – догадываются голоса.
«Теперь всё ясно, – говорят они. – Только мы ничего не поняли».
Это был холодный год. Солнце горело слабо, точно сквозь завесу. Скоро накатит новая волна чумы. Женщины… О женщинах лучше не будем. «История» и «истерия», два греческих слова, звучат очень похоже.
Театр властвовал в воздухе. Дух театра дергал за невидимые нити, и пальцы, губы и ноги дергались, точно готовясь к танцу, а иногда и пускались в него, ох, ох, как пускались. Топ. Топ. Топ. Молодые мужчины толпами шли в актеры, в музыканты, в рисовальщики; некоторые увлекались магией и заканчивали плохо; стрелка указывает под землю. Впрочем, и многие из тех, кто не увлекался ею, а просто плясал, телесно и мысленно, пытаясь согреться в этот ледяной год. Стрелка указывает им туда же. Там, под землей, горит огонь; что в огне – сказать сложно, видимость нечеткая. Тяжелее всего было женщинам. Тем из них, кого иглы холода пронзали глубже всего. В глаза, в уши, в утробу. Они танцевали внутри себя, кружась, мотая волосами и притопывая.
Это время назовут Высоким Возрождением.
Выпьем же, господа.
Никколо Макиавелли написал трактат, в котором учил, как играть государя. Этот флорентинец с птичьим профилем глядел на дела государственные как на театр. Многие решили, что он призывает государей лицемерить; в действительности он учил государей лицедействовать. Не любительски, как они делали до того, а по законам театрального ремесла, приспособленного к политике.
Выпьем же, господа.
Выпили… Кислый вкус местных вин, колючая отрыжка. Хорошо, сейчас будут лучшие вина. Доктор бьет в ладоши.
А у Рафаэля, где же у него театр?
Что ж, пока мы еще не так пьяны, давайте-ка глянем… Как вам этот занавес? Для чего он на небе, среди облаков? Темно-зеленый занавес, для чего он?
Год 1513-й. Время театра, холодное время перед новой чумой. Только так можно понять, что творил в тот год доктор Фауст в славном городе Эрфурте, чем потешал одних и пугал других.
А «Рыцарь, смерть и дьявол»? Вы ничего не сказали об этой гравюре.
Невозможно сказать всё обо всем, мои дорогие. Иногда нужно смотреть, просто смотреть.
Дворец Фульского короля был выстроен в форме огромной раковины. Огромной улитки. Для большего сходства стены его были выложены перламутром.
Тот, кто входил в этот дворец, долго шел по холодным перламутровым залам с округлыми стенами. Залы всё более сужались, вошедший то и дело останавливался и озирался.
Вы говорите о лабиринте? Нет, он не говорит о лабиринте. Из лабиринта трудно выйти. Из дворца Фульского короля выйти было легко. Просто повернуть назад и идти в том же направлении. И тем не менее обратно никто не выходил.
Может, это был лабиринт времени? Говорят, еще в Египте умели строить такие. Чтобы в каждом зале стояли часы. И чтобы в каждом следующем зале они показывали хотя бы на минуту раньше, чем часы в предыдущем.
Фульский король сидел в самой середине дворца-раковины. Что он там делал? Кубок стоял под стеклянной призмой, с которой раз в неделю стирали пыль. Хотя никаких недель тут не было, ни дней, ничего. Как и пыли.
Говорят, что, пройдя первые два зала, посетители теряли обоняние. Еще пару залов, и начинали хуже слышать. К середине пути почти слепли.
Это было не так, ничего они не теряли. Но то, что они находили, было еще тяжелее.
Если бы можно было включить музыку, здесь бы звучала музыка. Но ее включать нельзя, ничего нельзя включать; здесь звучат только тишина и отдаленный шум волн.
Это была обычная черноморская рапана.
В домах его детства рапаны встречались часто. Использовались обычно как пепельницы. В тех домах, где не курили, эту раковину держали для гостей. Или просто ставили для красоты на окно, на стол, складывали в нее какую-то мелочь, пуговицы.
В домах побогаче были и другие раковины, и колючие веточки кораллов. Скудная мечта советского человека об экзотике, южных морях, о чем-то таком… На стенах темнели африканские маски, взятые непонятно откуда. Тоже потом смывались временем.
Он вертел раковину, собираясь поставить на место и всё не ставя.
Ему двадцать один год.
На нем темно-серый свитер, в руках – раковина.
Вместо брюк на нем старые шорты. Свитер и летние шорты. Брюки сняты в стирку, ворочаются сейчас в стиральной машине. Машина гудит из ванной. А свитер пока не такой грязный, еще можно походить. Нет, просто темный, грязь на нем не так видна. Но еще можно.
Они встречаются уже вторую неделю. Такой красивый глагол: «встречаться». Как эта раковина; он ставит ее обратно на полку. В луче деловито движется пыль. Слышно, как открывается дверь ванной, она выходит, потная, в спортивном костюме. Он для чего-то снова берет раковину, вспугнув пыль в луче.
Она входит в комнату и смотрит на него. Запахи порошка и пота входят вместе с ней. Он стоит, с голыми ногами, в свитере. И эта раковина. И эта его кривозубая улыбка.
Она начинает тихо смеяться. Такое с ней иногда случалось, в метро, в библиотеке, в постели. Смотрит на него и смеется, и плечи пляшут. Он знает. Он целует, один поцелуй, два, три раза. Он считал? Да. Потом всё проходило, даже без укола. (Что – «всё»?)
Сжимая рапану, он подошел к ней. Ее смех, запах порошка, гудение машины. Шум воды, его брюки кружатся в темной пене, где-то далеко. Набрав воздуха и присев, он берет ее на руки. «Я тяжелая», – говорит она шепотом. Он перенес ее через комнату и положил на тахту, застеленную старым красным покрывалом. «Что у тебя там?» Раковина, сказал он. Она уже не смеялась, просто лежала и смотрела на него снизу.
Кем она работала?
Их первая встреча на Алайском (это мы уже видели). Поиски черепа (это тоже). То, как долго она не подпускала его к себе, отворачивалась, медленно уходила (и это смотрели, спасибо). Итак, она была…
Билетером в кукольном театре.
Уборщицей в книжном магазине.
Машинисткой в нотариальной конторе, пять минут от дома, иногда приходила туда в тапках.
Кондуктором в трамвае.
Нужное подчеркнуть; вот карандаш.
Хорошо, только кому подчеркивать? Комната пуста.
На столе накрытый марлей арбуз, часть марли подмокла, по ней ползает муха, взлетела, села на книги, снова ползет. Книг много, на столе, на полке. Рапана на полу рядом с тахтой. Тахта застелена, подушка поставлена парусом, как в детсадах и лагерях. Так же он будет застилать свою одинокую мягкую постель на Картойзерштрассе. На стульях, на дверях и даже люстре сушится одежда. Первый этаж, как сушить на улице? На окнах решетки. «Детки в клетке», – говорила она, проводя по ним пальцем. Интересно, как это по-немецки? Киндер ин… как будет «клетка»?
В окне живет своей жизнью ташкентская осень. Кричат дети. С чинар падают листья, твердые и светящиеся. Она собирала самые большие, отборные листья и ставила в черный стакан. Там стояли еще три пыльные вербы. «Из церкви», – говорила она и становилась серьезной.
В слове «церковь» ему слышалось «кровь». «Це кровь». Так, кажется, по-украински. Почему он вспомнил украинский?
«Це кров», – исправил его кто-то из знакомых, знавших. Твердая «в». Твердая украинская «в».
Кровь всё равно оставалась. Кровь-церковь двигалась в нем, невидимая, внутренняя. Только в момент боли выступала наружу, текла из носа, пальцев, ушибленных колен.
В его Самарканде было три церкви. Георгиевская, Покровская и Алексиевская. Самой старой была Покровская, стоявшая на узкой зеленой улице.
А теперь, внимание, правильный ответ.
В ту осень она работала уборщицей в «Пропагандисте». Книжный магазин на Пушкинской напротив старой консерватории. Поэтому и встретил ее тогда на Алайском, ходила устраиваться. От «Пропагандиста» до Алайского десять минут спокойного шага. Она ходила спокойно.
В магазин приходила вечером, к закрытию; быстро переодевалась. Особой грязи не было, но уставала, магазин большой, еще склад. Делала перерывы, брала с прилавков книги, садилась в кресло, нога на ногу.
На предыдущей работе уставала больше: кондуктором в тринадцатом трамвае. Адский маршрут, самый длинный. Выдержала три месяца. Обычно кондукторами брали громких теток, реже сонных парней с трудностями ума. А она зачем? «Хотела попробовать». Утренние мужики в час пик пытались прижаться к ней. «Если б только прижаться…» Горячая брезгливость, жалость к ним, идиотам, и черная усталость. «Приползала домой – отрубалась». А теперь – полы. Полы и книги, и снова усталость. Зачем? «Хотела попробовать».
А зачем она с ним? Он не спрашивал. Не то чтобы боялся услышать что-то похожее… А может, боялся.
Измотала, высосала, выжала его своим молчанием, неприходами на встречи, неответами на звонки, бросанием трубки в середине разговора (он стоял и слушал гудки). Почему, спрашивал он глазами. «Потому что ты меня убьешь», – тихо говорила она.
Первого фантома он создаст с ней.
И снова зима, ранний морген и солнце над Эрфуртом цвета местного пива.
Доктор Фауст уезжал, тихо и незаметно, как и прибыл. Никто не вышел проводить, обнять, поцеловать обметанными губами. С друзьями и студентами он шумно простился накануне. До полуночи из Дома под якорем неслись музыка и тюрингский выговор вперемешку с латынью. Все спорили и пели песни, один доктор не пьянел и поглядывал на водяные часы.
Полтора года пробыл доктор в этом городе. Полтора года, бесплотные мои господа. Читал лекции в университете. Хотя «читать лекции» тогда не говорили: lectio само есть «чтение». Говорили: «Читал такую-то книгу перед слушателями». Он читал толкования на Гомера, пока его не изгнали.
Доктор скачет галопом, пощуриваясь на солнце, конь под ним тот же, черной масти. Невидимые струи холодного воздуха обтекают их.
Потом будут рассказывать, что его выгнали за ту соблазнительную лекцию. Толкуя Гомера, он так подробно описывал наружность Менелая, Елены, Одиссея и прочих лиц, что господа студенты возымели большое желание увидеть их воочию. И обратились к нему с почтительной просьбой.
Доктор усмехнулся и кивнул.
В назначенный день случилось великое стечение студентов, все желали увидеть прославленных героев. Одни утверждали, что господин доктор выполнит свое обещание, другие громко в этом сомневались. Доктор углубился в лекцию, но по покашливанию и прочим признакам заметил, что слушатели ждут обещанного. «Что ж, – якобы сказал он, – раз вы, господа, имеете такую охоту, так тому и быть».
Подышав в подмерзшие ладони, хлопнул в них.
И будто сразу же вошли в лекторию вышеназванные герои в доспехах и платьях своего времени, оглядываясь и вращая глазами, точно были разгневаны. Студенты сидели, остолбенев и пооткрывав рты. Замыкал шествие великан Полифем с глазом посреди лба и косматой бородой. Из пасти у него торчали ноги какого-то бедняги, которым он, вероятно, завтракал, а сам великан метал голодные взоры на студентов, особенно на пригожих и упитанных. На студентов же напал такой страх, что одни лишились речи, другие обмочили штаны, а третьи стали умолять господина доктора поскорее завершить лекцию. Доктор же Фауст, улыбаясь, снова хлопнул в ладоши, и все герои стали кланяться и уходить, кроме Полифема, который всё стучал железной дубиной и вращал глазом. Но когда господин доктор погрозил ему пальцем, то и великан, неохотно поклонившись, вышел. После чего лекция закончилась, к облегчению и неописуемой радости всех студентов. Но кто-то, как это обычно бывает, донес университетскому правительству, вмешалось духовенство, и как ни славилась Университас Эрфордензис своим свободным духом, а подобный стиль преподавания был признан нежелательным.
Всё это было, скорее всего, выдумкой, одной из тех, какие родятся в нечесаных студенческих головах после третьей-четвертой кружки эля. Конечности слабеют, в животе хрипло бурчит, зато воображение скачет почище вороного коня господина доктора, о котором тоже успели много чего насочинять. Будто бы видели, как конь этот поднимал его в воздух и проносил с ревом реактивного истребителя (каковых тогда, разумеется, еще не было) над эрфуртскими крышами. И якобы даже имелось веское доказательство этих лошадиных полетов, весьма неблаговонное, упавшее с неба на шляпу одного из обывателей. По поводу чего якобы была подана жалоба в университет с требованием запретить доктору подобное передвижение, нарушающее спокойствие горожан и представляющее угрозу для их головных уборов.
Чего о нем только не говорили за эти полтора года… Доктор поковырял в зубах, усмехнулся и натянул поводья; конь пошел медленнее.
Она придвинулась к нему, изо рта у нее пахло чем-то горьким и сладким.
«Знаешь, почему про него так говорят: “идет”?..»
«Про кого?»
«Про дождь».
Окно было открыто, она курила в темноту. От электрического света ее кожа казалось желтой. Грудь у нее была не очень правильной, она понимала это. Она многое понимала. На голове было махровое полотенце.
«Он же действительно идет… – Она поправила полотенце. – Слышишь?»
Он прислушался. Или просто сделал вид. Его кожа тоже казалась желтой. Тогда еще не было этих мертвых белых ламп, не изобрели. Они доедали арбуз.
«Как будто чьи-то шаги».
Часы стояли возле блюда с корками и показывали полночь.
«Гномов», – сказал он.
Он взял вилку и вдруг представил себе гномов, идущих по ночному городу. Не тех смешных, как рисуют в книжках. А очень маленьких людей, серых и молчаливых. Человечков, манекенов. Шли и размокали от дождя.
«Так чем там закончилось, про Фауста?» – спросила она.
Он снова уловил горький запах из ее рта. Еще от нее пахло мылом – она вымыла голову – и сигаретой. Докурив, закрыла окно, звуки маленьких шагов стали тише. А лица у нее не было. Совсем? Пауза. Совсем.
Ведро стояло в подсобке. Там же находились две швабры и несколько сухих тряпок. Тряпки при высыхании принимали странные формы. Еще была раковина.
Она стояла к нему спиной, ожидая, когда ведро наполнится.
Он подходил к ней сзади и мешал.
«Не надо», – говорила она. Ее голос заглушался шумом воды.
Он помогал ей вытащить ведро из раковины, вода выплескивалась, его матерчатые туфли промокали.
«Ну вот…» – говорила она.
Он трогал ее, она была в халате чернильного цвета. Стучало сердце. В глазах плавали маленькие медузы, было холодно. Потрогай, какие руки.
Она склонилась над ведром и купала в нем тряпку. Как ребенка, подумал он. Повернулась к нему: «Как твоя голова?»
Он сказал, что лучше. Боль уходила, оставалась тяжесть и мокрые ноги. Он поцеловал ее в шею. «Потом», – сказала она.
Она мыла полы, он смотрел книги. Головная боль почти прошла, только последние медузы еще плавали между строк, когда открывал книгу.
Ей надоедало тереть, и она начинала танцевать со шваброй. Ум-па-па… Или просто шла и тянула ее за собой, оставляя длинный влажный след, как улитка.
Потом наступало обещанное «потом». Он шел на склад и сооружал им ложе из книг. Отбирал толстые, в коленкоровых обложках, обдувал от пыли, чихал. Поверх книг ложилась его рубашка, ее халат. Всё равно было жестко. Но вначале не чувствовалось.
Она возвращалась с мокрыми и холодными руками. Заскакивала верхом на швабре, изображая полет. «Как твоя голова?»
Последние медузы выстраивались в круг и начинали танец.
«Мерга…» – говорил он, освобождая губы.
Расшифровка продолжается. Карие глаза Турка глядят в монитор. Его ресницы.
Неподалеку расположились серые глаза Славянина.
На экране – предмет, который вначале можно принять за облако. Это мозг.
Через неделю Славянин летит в Ташкент. Институт к этому времени будет уже почти закрыт, остатки оборудования демонтируют, погрузят в контейнеры и вывезут. Здание решено переоборудовать в общежитие для беженцев. Клумба исчезнет.
Погода стоит солнечная, ветер умеренный. Турок, пока не истекла страховка, приводит в порядок зубы.
Славянин никуда не ходит. Пишет проджект финализейшн репорт, лежит на диване в полосатых носках и смотрит русские передачи. «Готовлюсь к поездке», – отвечает на молчаливый вопрос Турка, что он сегодня делал.
Квартира Сожженного на Картойзерштрассе стоит пока пустой. Что с ней делать, еще не решили. Или решили, но нужно согласовать. Всё непросто в этом лучшем из миров.
Турок вернулся с новым зубом, разглядывает его в зеркале. Из комнаты доносится звук открываемой бутылки, Турок морщится. И снова гладит зуб пальцем.
Сняв куртку, заходит в комнату.
– А вот и наш Фауст. – Славянин приподнимается на диване. – Покажи зубик.
К вечеру они помирятся, Славянин уйдет умываться холодной водой и выбивать нос. Турок будет молча поджаривать сосиски и резать хлеб.
Ночью они сядут за остатки расшифровки. Осталось еще несколько темных мест в лобных долях.
– Шайсе, – говорит Славянин, подперев голову ладонью. – Здесь у него всё навалено, как мусорная куча. Узнаешь?
Турок слегка кивает и проверяет языком новый зуб.
– Хотя… – Славянину хочется поговорить. Говорит он куда-то в окно, где светится ночным светом улица. – Хотя любой мозг – это мусорная куча.
Турок смотрит на него:
– Это не твои мысли.
– Ну да, – соглашается Славянин. – Его… А давай еще по одной?
Турок мотает головой.
– А помнишь, он говорил… – Славянин встает, идет на кухню, долго и шумно там ищет. – Чтобы познать человека, нужно порыться в его мусоре? А?
Турок продолжает смотреть в экран.
А изгнали доктора Иоганна Фауста из славного Эрфурта вовсе не за магию. Копыта, копыта, копыта… Магия в те времена, кстати, вполне законно преподавалась. В Кракове, например. Как наука. Про него будут говорить, что, учась в Кракове, он водил к себе краковских девушек, после чего те исчезали.
От топота копыт пыль по полю летит.
Снежная пыль летит от топота его вороного. Зря, конечно, дал ему такое имя – Тойфель. Что поделать, если конек его прожорлив, альз Тойфель[11], и ретив, что слов нет; а уж как заржет… Да и пощекотать сытое благочестие этих господ ему очень хотелось. Немцы боятся щекотки; она разрушает их туманную задумчивость.
Кто мог представить, что имя его коня так испугает жителей Эрфурта? «Как-как, говорите, зовут вашу лошадь?» И крестятся, крестятся, не переставая жевать свою колбаску или чем у них там набит рот.
Копыта, копыта. Доктор направляется из Эрфурта в Веймар. Доктор скачет на черной лошадке.
Но изгнали его не за ту злополучную лекцийку, а за другую. Тогда сыны Божии увидели…
В ветре, бьющем по щекам, начинают гудеть голоса, беседующие и осуждающие.
Дерзнул он прочесть лекцию по богословию. И уж тут ему не простили, и припомнили, и бросились, дергая руками, точно в благочестивом танце. Полетели ему в лицо осенние листья пригоршнями, снопами мокрого огня.
Он поднял руки, защищая свой мозг. В каждом листке было чье-то кричащее лицо. Они кружили над головой и кричали ему в глаза. Была осень.
Videntes filii Dei…
Он прочел лекцию богословскую, зал был полон, несмотря на холод. Он прочел ее всего на один стих из Книги Бытия. И было холодно в зале, точно ледяной огонь облизывал всех.
Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих…
В то время спор возник в университете меж богословами: кто сии «сыны Божии»? И трещали умы, точно поленья в камине. И поднимались и опускались руки.
Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе в жены.
«Это были люди, отмеченные благодатью, князья и вельможи, – говорили одни и поднимали руки. – А дочери человеческие были простушками, уборщицами и торговками». И опускали руки.
Другие говорили, что сыны Божии были потомками Сифа, третьего сына Адама и Евы, и поднимали руки. А дочери человеческие происходили от первого преступника Каина. И опускали руки и вздыхали.
Третьи, самые ученые, говорили: «Сыны Божии были и потомками Сифа, и князьями и герцогами, ибо кем быть потомкам Сифа, как не вельможами? А потомкам Каина – как не пребывать в низком звании?» И, говоря это, то опускали, то поднимали руки, производя ими плавные движения.
Послушал их доктор Фауст и улыбнулся.
«Как следует, господин коллега, понимать вашу улыбку?» – спросили его.
Доктор Фауст снова улыбнулся. И где-то недалеко заржал его конек. А ржанье у него – что твоя пушка. Выпучились у ученых мужей глаза, и руки в движении замерли.
Рассмеялся доктор Фауст.
«Не потрудитесь ли объяснить ваш смех?» – подступили к нему богословы.
«Отчего же, – отвечал он им, – могу и объяснить, если дозволите».
Посовещались богословы, почесали свои тонзуры и – дозволили. Давно самим послушать хотелось, что это за доктор Фауст, о котором разные чудеса сообщают. Назначили день.
Разыгралась вьюга в то утро в славном городе Эрфурте. Точно не славный это Эрфурт, а дальняя и дикая Московия, где у всех, даже женщин, растут от холода бороды и по улицам на медведях ездят.
«Фуй! – говорили ученые мужи, отплевываясь от снега. – Что за погода!»
На лекцию, однако, прибыли, даже мест не хватило. Ждут, переговариваются, на скамьи коврики стелют, чтобы было теплее слушать, спорить и возмущаться.
Прискакал доктор Фауст. Пар из лошадиных ноздрей так и валит. Зашел весь в снегу, ногами потопал. Топ! Топ! За ним служка университетский едва поспевает – от снега веничком отряхнуть. А вьюга себе гудит, пляшет.
Говорил доктор в тот раз мало, без обычных риторских загогулин. Откашлявшись, быстро перешел к делу. Те сыны Божии были ангелами, только падшими. Ведь сказано далее в Писании: В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.
Откуда люди могут рождать исполинов? Не иначе как от ангелов. И снова закашлялся.
Тут кто-то из богословов поднялся: «Нам известно такое мнение. Но оно ложно: ангелы, как мы хорошо знаем, бесплотны и для бракосочетания непригодны».
«Ах, непригодны… – усмехнулся доктор. – Ну, это мы еще посмотрим».
А за стенами в то время гуляла вьюга, за два шага не увидишь, волка от свиньи не отличишь. Попрятались жители по домам, греются кто чем.
«Вы, – снова хрипло заговорил доктор, – верно, разумеете обычных ангелов, которые и правда бесплотны. Но тут говорится… – доктор замолк, точно прислушиваясь к звуку ветра, – о падших».
Кто-то перекрестился, кто-то сдвинул брови, кто-то стал разглядывать темный потолок.
«Впрочем, – сказал доктор, – если желаете, я могу продемонстрировать вам, как это происходило. Сие не составит мне труда, а вам, возможно, доставит удовольствие и насытит ваше любопытство».
Головы осторожно закивали. Некоторые, особо осторожные, правда, поднялись и, прихватив коврики и писчие инструменты, покинули зал. Но прочие, почти все, остались и стали жадно ждать.
Она лежала, неподвижная и холодная. Он смотрел на нее.
Книги, служившие им постелью, были разбросаны по всему полу. «Надо собрать», подумал он.
Снова потрогал ее. Она была холодная, как обложка книги, даже холоднее. Неподалеку стоял электрокамин и не грел.
Он поднялся и стал искать одежду, свою. Ее одежду тоже надо будет найти. Нехорошо, что она лежит голой, надо одеть. Он поднял ее халат и накрыл ее.
Ее ноги торчали из-под халата. Только сейчас он заметил, что она их брила.
Почему-то не было страха, что сейчас войдут и увидят ее. Подсобка была закрыта, но могли всё равно зайти. Он поглядел на часы.
Часы были на запястье. Даже в момент близости не снимал их.
Он подошел к раковине и стал умываться. Вода была холодной. Он намочил лицо, провел ладонью по груди. Морщась, стал мыть живот, другое. На шум воды могут прийти люди. Но страха не было, только сонная деловитость. Он судорожно зевнул.
Потом надел холодные джинсы и нашел майку.
Когда он вернулся в подсобку, ее там не было. Он не удивился. Халат, которым он накрыл ее, валялся жгутом. Это значило, что роды уже начались.
Голова его звенела, точно в ней подвесили колокол и кто-то бил в него. Бин! Бин!
«Закурить есть?» – услышал он рядом.
Позади стоял голый спортивный парень. Кожа его поблескивала, как от крема, ниже пупка зеленела татуировка. Скорпион. Недавно сам хотел себе такую сделать.
– Так вы утверждаете, что она была мертва.
– Да, – сказал он.
– Но вы говорили (шелест бумаги), что потом она вам звонила.
– В тот момент она была мертва.
– Что значит «в тот момент»?
Он покачал ногой. Вздохнул:
– Я услышал ее стон, потом… она замолкла.
– Вы что-то сделали?
– Что?
– Вы что-то с ней сделали?
– Нет. Я просто представил.
Молчание.
– «Фантома»? – Пальцы изобразили в воздухе кавычки.
– Нет.
– В одной из записей вы сказали, что нужно представить фантома…
– Это необязательно.
– Вы сказали, нужно представить его во всех деталях.
– Это потом… это всё потом… тогда еще не знал.
– Так что вы тогда представили?
Конец записи.
Пометка на полях: «Честно говоря, с этой девушкой – совершенно загадочная история; так и задумано?»
Так не задумано. Так было.
А теперь смотрим дальше.
Они поздоровались.
Ладонь Славянина была мягкой и влажной.
Вокруг поблескивает франкфуртский аэропорт. Славянин только что прилетел из Ташкента. На нем серая с зеленым верхом куртка и такой же рюкзачок за спиной. От него пахнет дорогой.
– Как? – спрашивает Турок.
Славянин отвечает. Он вообще всё время что-то говорит, но почему-то не слышно. Как будто убрали звук; слышно только тяжелое сопение Турка и скрип чемодана на колесиках. И отдаленный гул аэропорта.
Франкфуртский аэропорт – идеальное место, чтобы сбиться, затеряться, исчезнуть. Они уже пошли не туда; останавливаются и поднимают головы на указатели.
На одном обозначено, где можно помолиться. Крест, полумесяц, шестиконечная звезда – полный комплект. Не хватает только колеса дхармы. И инь-яна для пассажиров-даосов. Тогда уж и печати Бафомета, чтобы и сатанисты не скучали. Как это, интересно, там выглядит? Кабинки? Для обладателей серебряных и золотых карт – молитва с повышенным комфортом. И с гарантией, что будет услышана, хотя бы отчасти.
Турок за рулем; весело свистит дорога.
Славянин нажимает, стекло поднимается, свист угасает.
– Он учился в духовном училище, – говорит Славянин. – В православном.
Турок молчит. Он еще не очень уверен за рулем, губы сжаты.
«В православном…» немного висит в подвижном воздухе, гаснет, исчезает.
Новая волна дорожной усталости накрывает Славянина, он трет подбородок.
– Что он там делал? – спрашивает Турок.
– Учился.
Какие-то деревья, какие-то дома. Знак ограничения скорости. Небо в мятых облаках и самолетных росчерках.
Славянин хочет спросить, что нового, но не спрашивает. «Как дела? Что нового? Как ты тут без меня?» Вопросы-атавизмы. Зачем? Он прекрасно знает, какие у этого человека за рулем дела и что у него нового. Переговаривались каждый день. Наелись друг другом – даже больше, чем когда жили вместе, пользовались одной кофеваркой, одной ванной и одним видом из окна.
Запах нового автомобиля.
О том, что Сожженный учился в духовном училище, Славянин, правда, не писал: берёг. Турок слушал спокойно. Что ему сейчас Сожженный? Проект почти завершен (отдаленный шум аплодисментов). Пробоины от последнего экзистенциального кризиса залатаны, взята в кредит машина, он врастает в немецкую жизнь.
– Уже десять минут едет за нами. – Турок мотнул головой в стекло.
Славянин оборачивается, хотя можно было бы просто глянуть в рюкшпигель… как это по-русски? Механический голос: «Зеркало заднего вида».
Обычная машина.
«Уже десять минут едет за нами» продолжает висеть в воздухе и колоть сознание.
Копыта, копыта…
Всадник скачет по лесному пространству.
Звучит голос: «Люди того времени проводили изрядную часть своих дней на лошади. Перебор копыт задавал ритм их мысли, музыки, поэзии. Ритм верховой езды определял смену аргументов в ученом диспуте, пульсацию мысли в философских трактатах, движение тезисов и антитезисов, вплоть до системы Гегеля. Перебор копыт создал старую поэзию с ее твердым ритмом, чередование ударных и безударных слогов».
- Doktor Faustus hat ein Pferd,
- Dieses Pferd ist sehr gelehrt! [12]
Это, верно, лесные духи поют голосами его эрфуртских студентов.
Голос продолжает: «Когда современный человек сошел с лошади, он сошел со всей старой культуры. Перестук копыт перестал звучать в его ушах, в его сознании. Какое-то время в нем звучал перестук колес поезда. Но потом поезда стали ездить тише, и этот ритмичный звук тоже исчез. Машины, самолеты… Их голоса лишены ритма, четкого организующего начала. Это хаос звуков, создающий хаос мыслей».
- Er gibt ihm zum Mittagessen
- Ein Zauberbuch zu lesen! [13]
Чьи это голоса? Неважно. Доктор тяжело дышит. Он въезжает в лес; птица пролетает над его головой.
Конь выдохнул облако пара и остановился, поводя мордой.
Доктор Фауст еще немного подумал, встретить ли ему преследователя на коне или спешиться. Вздохнув, соскочил на землю; хрустнул снег.
До Веймара оставалось не так далеко.
Дорога была мятой, натоптанной, хотя и выбрал непрямой путь. Он редко выбирал прямые и удобные пути. «Дороги дураков», называл он их.
Он чувствовал преследование уже давно. Иногда нарочно пришпоривал коня и оглядывался назад, щурясь от ветра. Но и преследователь, точно играя с ним, сразу отставал. Пару раз он видел в просветах между буками серого коня и всадника в плаще.
Сколько играть в прятки, Verstecken spielen?
Когда играешь в прятки, закрываешь лицо ладонями. Вот так… Доктор поднял ладони и прикрыл ими глаза.
Ладони были холодны и пахли поводьями.
«Раз, два, три, четыре, пять», – сказал он темноте.
Он чувствовал ладонями, как движутся его губы и усы.
«Но я не пойду искать, – продолжил он. – Ты сам найдешь меня, если тебе это надобно».
Донесся топот; докторский конь дернулся и заржал. Раздалось ответное ржание.
Доктор снял ладони с глаз и усмехнулся:
«Salve, pater Martinus! [14]»
Монах-августинец весело соскочил с лошади и размял спину. Он был чуть моложе доктора и выбрит. Глаза его были ледяного оттенка.
«С трудом… с трудом нагнал вас, доктор!» – говорил он, приближаясь. Шел он, как медведь, слегка переваливаясь.
Они медленно ехали и переговаривались.
Говорил своим шумным, как труба, голосом отец Мартин:
«Верно говорят про вас: что вы точно по небу на своем коне мчитесь…»
Доктор Фауст разглядывал дорогу и ждал.
Ожидание – тоже искусство, подобное ваянию. Только в нем ты должен подражать не ваятелю, а скульптуре.
Отец Мартин когда-то учился в Эрфурте и начинал в здешнем монастыре послушником, теперь бывал здесь редко. Сидел в своем Виттенберге, этом гнезде учености. Но Эрфурт не забывал.
Доктор поднял глаза. Сейчас выйдет солнце, – подумал, глядя вверх.
И солнце выкатилось, белое и тяжелое. Лес осветился слабым светом.
Каждый мужчина, каждый немецкий мужчина когда-то приходит в этот лес. Название ему – Лес женщин.
Вместо деревьев там стоят женщины и смотрят на небо. Их лица не видны, они скрыты корой и листьями. В коре есть прорези для глаз, как в маске.
Мужчина приходит в лес, чтобы срубить дерево и жениться на нем. Не на нем, а на ней. Да, на ней. Что это он держит? Череп. Пусть слегка приподнимет, чтобы всем было видно. Кому это – всем? Всем нам.
Он приподнимает череп и кладет его на траву. Какая трава, ведь сейчас зима? На зимнюю траву. Над головой его медленно пролетает птица. В клюве зажата огненно-желтая ягода.
Прежде чем срубить дерево, он должен обнять его. Его ладони, его щеки должны почувствовать кору. Должны почувствовать биение серой крови под ней. Серой зеленой крови.
Обнимая, он должен что-то тихо и быстро говорить. Если он замолкнет хотя бы ненадолго, из коры выступит яд, похожий на смолу.
Что он должен говорить? Неважно. Он может говорить о доме, где родился и вырос. Может перечислять своих родственников, друзей, любимых музыкантов и игроков любимой команды, это классные ребята, знаешь… (Быстрый смех.) Может рассказывать таблицу умножения или читать стихи. Дерево будет слушать. Его кора будет всё мягче и теплее, а в прорезях для глаз зажжется голубой свет, будто туда забрался светляк.
Тогда мужчине нужно, не зевая, срубить дерево.
Оно будет кричать и трясти ветвями. Оно будет призывать на помощь лесных зверей, чтобы они разорвали его, и птиц, чтобы они заклевали его. Оно будет заклинать лесных духов, чтобы они лишили его мужской силы.
Чтобы остановить этот крик, после первого удара надо дать стечь серому соку. Надо поднести череп к раненому стволу и наполнить череп этим соком. Надо держать его так, чтобы сок не вытек сразу из глазниц на траву. На какую траву, ведь сейчас зима? На зимнюю траву.
Частью этого сока надо натереть лицо. Только лицо? Да. Некоторые натирают им спину и голени. Но это не требуется. Некоторые пьют его. Но это не дозволяется.
Часть сока выходит, и женщина замолкает. Превращается в тишину и смирение.
Волки, прибежавшие на ее крик, разбегаются обратно по своим лесным делам. Налетевшие вороны, сороки и дятлы удаляются в свои небесные дома. Лесные духи прячутся обратно в пни, в черные трухлявые стволы и обросшие мхом камни.
Теперь нужно срубить ствол полностью. Широко расставив ноги и помолившись своему небесному покровителю, мужчина довершает рубку.
И дерево падает. Шумно и страшно, с сухим стоном.
Стоящие рядом деревья вздрагивают и тихонько постанывают. Клейкий сок страха и зависти выступает на них.
Теперь можно лечь рядом с деревом, положить топор под голову и заснуть.
Когда он проснется, рядом будет лежать женщина.
Она будет листать журнал, скребя ногтями по бумаге. Или глядеть в планшет, а рядом будет тарелочка с миндалем в шоколаде, и миндалины будут перекатываться по ней. Она положит одну миндалину в рот и наклонится к нему. Ее губы, его губы. Его губы приоткроются, и он почувствует скользкую шоколадную ягоду у себя во рту. Миндалину? Да, но это не имеет значения. Журнал на ковре, рядом опрокинутая чашка кофе.
«Так почему вы ушли из монастыря?» – спрашивает отец Мартин.
«Для того, чтобы вы могли поступить в него».
День продолжается, братья мои. Они едут среди темных стволов бука. День их беседы.
«Мой отец был рудокопом, – говорит отец Мартин. – А мать собирала в лесу дрова. У них были разные боги: у отца – подземные, у матери – лесные».
«Разве Бог не один?»
Отец Мартин глядит на доктора с хмурой улыбкой:
«Один. Но демоны у всех разные… Меня никто не любил. Ни отец, ни мать. Они любили свой труд и своих демонов. Для детей у них оставались только холод, тяжелая забота и пустота».
«А я захлебывался от родительской любви».
«Мы жили в местечке рудокопов, – прикрывает глаза отец Мартин. – Одни печи. В каждом дворе были печи. Когда шел снег, он падал черным от дыма. Когда я стал подростком…»
«Когда я стал подростком, – говорит доктор, – и начал делать первые шаги в науке любви, три женщины сразу увлеклись мной. Они желали, чтобы я сделал выбор, и вручили мне яблоко. Как те богини… Я должен был бросить его одной из них. Они стояли возле старой мельницы, приодетые, и ждали».
«В моем местечке у мельницы стояли три старухи. У них было четыре зуба на троих».
«Я прогнал их и съел яблоко сам. И чуть не умер: оно оказалось заговоренным. Или отравленным. Три дня меня выворачивало. С тех пор я стал серьезнее относиться к любви. Шепот влюбленного – это крик о помощи. Нельзя пройти мимо, не протянув руку».
«…Чтобы увлечь его еще глубже в пропасть. Плотская любовь, как голодная волчица, начинает с руки, потом принимается за плечо, грудь, правое и левое бедро и не отступит, пока не пожрет своими огненными зубами всего».
При слове «пропасть» начинает играть музыка. Откуда? Видно, незримые музыканты пробрались в лес и встали за темными стволами бука.
«Бук» по-немецки звучит почти так же, как «книга»: «Бух».
«Бух, бух…» – топают копыта по снегу.
Прежде они сталкивались в Эрфурте, доктор и монах. Так рассказывали. Первый раз доктор ехал верхом на бревне. Отец Мартин встал на его пути и прочел молитву. Бревно застыло в воздухе, а затем рухнуло на землю.
Второй раз отец Мартин подошел к доктору в университете; дело было после той лекции с явлением баснословных героев. Произнеся короткую гневную речь, отец Мартин завершил ее словами: «…Из чего следует, что вы продали свою душу дьяволу!» «А вы свою ему подарили», – тихо отвечал доктор.
Обе истории были вымыслом.
Доктор Фауст не скакал на бревне, а отец Мартин на той злополучной лекции не присутствовал, будучи в то время в Виттенберге.
«Бух, бух…»
Der Ersatzmann.
Множественное число: die Ersatzmänner.
«Так почему вы ушли из монастыря?» – повторяет вопрос монах. Всё ему нужно знать, этому монаху-августинцу.
«Мы не можем идти одной и той же дорогой. Чтобы вы могли стать монахом, я должен был перестать быть им».
Иоганн Фауст покидает монастырь и поступает в университет. Нет, он был просто послушником, он не успел стать монахом.
«Однажды моя мать тяжело заболела, – говорит отец Мартин. – Болезнь была необычной. Она лежала и мычала, как корова. Мы, дети, прятались и затыкали уши. Дело было в соседке, она была ведьмой. Так говорили. Отец собрал дары и сходил к ней. Может, дело не обошлось одними дарами…»
«Я мог оставить женщин, но не мог оставить игру на лютне. Я сжег лютню, но каждое утро находил новую у изголовья».
Отец Мартин мотнул головой: «В том, что я стал монахом, виновны мои родители. Но когда я ушел в монастырь, отец проклял меня. Он желал, чтобы я стал законником. Он топал ногами. Но я уже дал клятву».
«В конце концов, разница между женщиной и музыкальным инструментом довольно незначительна, – кивнул на это доктор. – Важно лишь разумно определить, к какому роду инструментов та или иная женщина относится: струнному, духовому или ударному. Что касается меня, я предпочитаю общество струнных».
Отец Мартин снова помотал головой: «Когда мне был двадцать один год, я шел пешком из дома родителей в Эрфурт, случилась страшная гроза. Молнии так и сверкали, укрыться же было негде. Одна ударила рядом, я почувствовал ее головой, упал и решил, что я мертв. Мне казалось, она вошла мне в голову. “Святая Анна, спаси меня, и я стану монахом!” – закричал я. Мне пришлось стать монахом…»
«Этот буковый лес никогда не закончится, – вздохнул доктор. – Вот уже полдня мы едем по нему, а солнце всё висит на одном и том же месте, бледное и пустое. Вы заметили? Оно не светит. Оно втягивает в себя весь свет с земли».
«Я тоже играл на лютне. Когда я брался за струны, леса и реки подпевали мне. Но женщины проходили мимо: их отталкивал запах страха. Этот запах пропитал меня с детства, мои вещи, мои книги, мою одежду. Когда я начинал молиться, холодный пот бежал по мне, как ручьи в Тюрингском лесу. Появились головные боли, они изводили меня, особенно ночами. Верно, какая-то тонкая молния всё же вошла в мою голову. И тогда я сжег свою лютню. И вот что я скажу: Бог есть боль».
«Как называется это место, по которому мы кружим, как по воронке?» – Доктор остановился и поглядел на отца Мартина.
«Так и называется, – ответил тот. – Буковый лес. Бухенвальд. Для чего вы это спрашиваете, доктор?»
Der Ersatzmann.
Можно перевести как «человек-заменитель». Можно – как «заменитель человека».
Дублер, попросту говоря.
Дублеры почти никогда не встречаются при жизни. Если такая встреча всё же происходит, они разговаривают, почти не слыша друг друга.
Если между ними поместить часы, минутная стрелка будет двигаться вперед, часовая – назад, а секундная застынет на месте.
«Вы хотите сказать, что если бы Реформацию не совершил Мартин Лютер, то…»
Да, лучше вот так. Многоточие, кавычки, конец прямой речи.
И два всадника на снежном пригорке. И солнце; вы забыли про зимнее солнце.
– Так почему он ушел из этой… семинарии?
Движущееся лицо Славянина; за спиной качается, слегка подпрыгивая, фон: стена, витрина с манекеном, часть дерева.
Лицо Турка, тот же фон, только видна еще улица, плечи и головы и немного небо.
Они идут по Франкфурту. Машину Турок оставил у одного из друзей. Почему? Для тех, кто выходил на время из зала: была слежка.
Кому нужны эти двое?
Все кому-то нужны. Раньше только Большой Брат смотрел на тебя, теперь к нему прибавились Средний, Младший и даже Такой, О Котором Ты Еще Не Подозреваешь.
Все эти братья дружно смотрят на тебя, записывают на камеру, фиксируют сайты, куда ты заглядываешь, и помечают белым крестом дома, где ты бываешь. Они берут у тебя кровь, слюну, сперму, требуют прижать палец к стеклу, сильнее, еще сильнее…
Небо в серой пленке; они идут по центру в районе вокзала. «Нужно пообедать», мигают сквозь одежду их внутренние лампочки. На улицу выставлены столы, столики, люди сидят, держат вилки, трут пальцами кружки пива, разговаривают.
В темном турецком желудке Турка выделяется турецкий желудочный сок. В темном славянском желудке Славянина выделяется славянский желудочный сок.
Славянина кормили в самолете.
Его рот ел курицу; тонкую, как соленая бумага, колбасу; рис и курагу, его рот запивал это томатным соком, чаем, водой. Его глаза ели длинные облака, буквы самолетного журнала, фильм, мелькавший над головой, людей, снова журнал и снова облака. Его ладони ели подлокотник кресла, гладкую обложку журнала, хрупкую поверхность пластмассовой вилки.
Что ели его уши? Они остались голодны. Гул двигателей, звуки летящих людей, объявления пристегнуть ремни – слишком сухая и непитательная пища. Он бы мог послушать музыку. Посмотреть фильм, погружаясь в воронку звуков. Почему вы не включили музыку, Славянин? Он дергает плечами.
Они переходят узкую улицу. Турок с кем-то говорит по хэнди. На турецком.
«Жил да был Крокодил, – думает Славянин. – Он по улице ходил. Папиросы курил. По-турецки говорил».
Турок не курит папирос. Он вообще не курит.
Интересно, если тот Крокодил говорил по-турецки, как его вокруг понимали?
Они сидят в турецкой кафешке. Что там в тарелке? Кебаб, кебаб и еще кебаб. Вкусно? Он что-то мычит в ответ. Во рту танцуют зубы, извивается язык. Как в восточной пляске. Вверх-вниз, бедрами, бедрами. Какие бедра у языка? Воображаемые.
Нет, алкоголь здесь не подают. Славянин вздыхает; небо становится еще более белесым. Турок пеленгует этот вздох, но молчит. Рот его занят кебабом, нос музыкально посвистывает. Губы слегка приплясывают.
Славянин быстро устает от еды, откидывается назад. Он слегка опьянел от кебаба и от Франкфурта. В уши ползет музыка, конечно турецкая. Турецкая еда, турецкая музыка, турецкое кресло, в котором он сидит. Пластмассовые от усталости ноги. Рот приоткрывается, из него выползает зевок.
Турок смотрит, как зевок Славянина поднимается к потолку, покачиваясь от легких ударов песни.
В переводе она будет что-то вроде: «Разорви мою грудь, разорви мое сердце…»
Зевок Славянина достигает потолка и расплывается по нему зеленоватым пятном. Недолго посветившись, гаснет и сжимается.
А Крокодил первоначально ходил не «по улицам», а «по Невскому». И говорил не по-турецки, а по-немецки. Что и вызвало возмущение: шли первые месяцы Великой войны, по стране пронеслась волна немецких погромов.
Накануне войны немцы были второй по численности народностью российской столицы. Каждый пятый петербуржец.
Военные, чиновники и купцы срочно переодевали фамилии. Новые русские фамилии сидели на них слегка мешковато, но со временем к ним надеялись привыкнуть.
А тут Крокодил. Ходит по главной улице империи, еще и по-немецки говорит. Население нахмурилось. Зрачки населения сузились, верхняя губа поднялась, обнажив зубы с развитыми клыками. Закапала слюна. «Как ты смеешь тут ходить, по-немецки говорить? По-немецки говорить запрещается!» Так писали тогда в магазинах, присутственных местах, везде. «По-немецки говорить запрещается!»
И Крокодил заговорил по-турецки. Это ему, как известно, тоже не помогло. «Как ты смеешь тут ходить, по-турецки говорить?»
Пятно от зевка на потолке окончательно погасло и испарилось.
Принесли кофе. Принесли пахлаву.
Они стоят на франкфуртском вокзале. Они решили возвращаться на поезде, на интерсити, так легче сбить слежку или что это там было. Глупо. Те, кому они нужны, отследят их и здесь. Но что делать, мой мальчик (моя девочка). Ум не в том, чтобы делать умности, а в том, чтобы выбирать между глупостями наименьшую.
Стеклянный вокзал; во рту сладкий фантом от пахлавы. Кофе – ускоритель времени. Время побежало и уперлось в стеклянный вокзал. Вдоль перрона выстроилась разноцветная публика с преобладанием мягких темных тонов. Поезд, разумеется, опаздывал. Обычная в последние годы картина.
Турок разговаривает с кем-то. Славянин разглядывает вокзал.
С кем разговаривает Турок? Еще один портрет в темных тонах. Охра, жженая умбра, сепия. Волосы набрасываем сажей. Усы, бородка. Переступает с ноги на ногу. И Турок переступает с ноги на ногу. А поезд (взгляд на часы) опаздывает.
– Они строят мечеть, – сообщает Турок, попрощавшись со своим охристым собеседником.
– Где?
– В Эрфурте. – Турок поднимает брови. Типа все об этом должны знать.
Поезда всё нет.
Вот он, тихий, в пушистых тапочках подкравшийся «закатевропы».
– Он ахмадиец. – Турок продолжает покачиваться. – Ахмадийцам разрешили строить свою мечеть. Нам – нет.
Кажется, едет… Нет, показалось.
– Ахмадийцы – еретики, – Турок слегка зевает.
Славянин заражается этим зевком и тоже прикрывает рот.
Проходящая мимо эфиопка с голубыми контактными линзами быстро и незаметно фотографирует их.
На фотографии они стоят в одинаковых позах и прикрывают ладонью рот. Зевок. Рефлекторный дыхательный акт, объединяющий все расы и культуры. Заразительный, интернациональный и безобидный. Когда-то был еще смех. Что? Смех. Поглядите, здесь, на вокзале, за его стеклянными стенами, вы видите, чтобы одновременно смеялось несколько людей? Смех ушел вместе с эпохой тоталитаризма. Остался его бесшумный, аккуратный двойник. Легкое напряжение челюстных мышц, приоткрытая голосовая щель.
Поезд опоздал на двадцать семь минут.
Эта их осень напоминала зоопарк.
Иногда они играли в бабочек. Он кружился по комнате, размахивая голыми руками, задевая стены, люстру и книжный шкаф. Потом слетал на нее. Она тоже размахивала руками, била ими по разложенной тахте, поднимая солнечную пыль. «Это пыльца с крыльев», – говорила она. Какое-то время они оба размахивали руками, всё медленнее. Первым не выдерживал он. «Нечестно… – возникал ее шепот в его левом (или правом?) ухе. – Бабочки не обнимаются…» Ему приходилось снова махать руками. Вверх-вниз. Вверх… вниз…
Следующий раз они могли быть крокодилами.
Он вставал на четвереньки и носился за ней по квартире. «Нечестно! – кричала она, запыхавшись. – Крокодилы не бегают… они ползают!» «Бегают, еще как бегают», – отвечал он, клацая зубами. Он знал.
О том, как происходит размножение у животных, он читал в библиотеке имени Алишера Навои, попросту Навоишке.
Во взрослый зал его еще не пускали, он шел наверх, в юношеский. Снимал куртку, мокрую, если был дождь, и сухую, если светило холодное солнце, и протягивал гардеробщице. Став на несколько грамм легче, шел к лестнице, выкрашенной суриком. Мимо гипсовой статуи Навои. Поэт и государственный деятель улыбался пыльной улыбкой.
Отдел выдачи был слева. Там сидели женщины в платьях цвета старых обложек.
В ту осень он пробовал читать Гегеля. Стопка серых томов лежала перед ним, он открывал какой-нибудь, водил глазами, в зале становилось темно, солнце уходило.
Первый том с ранними произведениями был прочитан. Тяжеловесно, но терпимо. Дальше Гегель принялся ухудшать и расчленять язык. Язык должен был погибнуть, чтобы родилась мысль. Но мысль всё не рождалась.
Гегель сидел во Франкфурте, дружил с Гёльдерлином и писал трактат о любви. И портил язык – пока умеренно, еще не так сильно, как потом в Йене. А Гёльдерлин писал трагедию «Смерть Эмпедокла» – о философе, бросившемся в жерло вулкана, Этны. Вулкан переварил тело Эмпедокла и выплюнул медную сандалию. Да, он помнит, он уже говорил об этом.
Потом они оба уехали из Франкфурта, Гегель и Гёльдерлин.
Гёльдерлин начал сходить с ума, и его поместили в клинику доктора фон Аутенрита, создателя известной «аутенритовой маски». Эту кожаную маску натягивали на голову больных, чтобы они не могли кричать, а только мычали, как коровы. Иногда с этой же целью в рот им вставляли деревянную грушу. Но некоторые ухитрялись ее выплюнуть.
Надевали ли на Гёльдерлина такую маску? Это неизвестно.
Эмпедокл стоит на кромке Этны. Вытянув руки вперед, как ныряльщик на трамплине, он бросается вниз. Внизу шевелится магма. Ниже, еще ниже.
В 1807 году Гёльдерлина как неизлечимого передадут плотнику Циммеру, поклоннику поэта. Еще тридцать шесть лет он будет жить у Циммера в доме с башней, никого не узнавая и ничего не понимая. Под окнами будет течь река, дом будет прозван «Башней Гёльдерлина».
Когда он умрет, из окна вылетит медная сандалия и шлепнется в речку, вспугнув двух уток и селезня.
В том же 1807 году Гегель напишет свою «Феноменологию духа» – первый памятник своего философского безумия.
Гёльдерлин пытался бороться со своим безумием через язык, поэтический язык. И потерпел поражение (башня, река, неузнавание). Гегель впустил безумие в свой язык. Он сам вложил себе в уста деревянную грушу косноязычия. Сам стянул лицо кожаной маской – если посмотреть на его поздние портреты, эту маску легко увидеть. Вот и вот.
«Лишь духовное есть то, что действительно, – писал он. – Оно есть сущность или в-себе-сущее











