Читать онлайн Таинственный сад
- Автор: Фрэнсис Элиза Ходжсон Бёрнетт
- Жанр: Детская проза, Зарубежная классика, Зарубежные детские книги, Литература 20 века
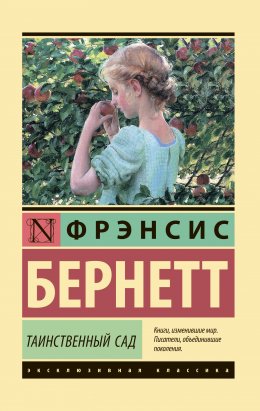
© Перевод. И. Доронина, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Глава I. Никого не осталось
Когда Мэри Леннокс прислали к дяде в поместье Мисслтуэйт-Мэнор, где ей предстояло теперь жить, все сочли ее там самой неприятной девочкой, какую им доводилось видеть. И это было правдой. Именно такое впечатление производили маленькое худое личико и маленькое тщедушное тельце, жидкие тонкие волосы и угрюмый взгляд Мэри. Волосы у нее были желтыми, безжизненными, и кожа под стать им – желтушная, потому что родилась она в Индии и постоянно чем-нибудь болела. Ее отец занимал некий пост в британской колониальной администрации, поэтому всегда был занят и сам часто болел, а мать, выдающуюся красавицу, интересовали только светские мероприятия и развлечения в веселых компаниях. Ребенок ей был совершенно ни к чему, и, когда родилась Мэри, мать полностью перепоручила ее заботам айи[1], которой ясно дали понять: если она хочет угодить мэм-саиб[2], то должна держать малышку подальше насколько это возможно. Поэтому, когда девочка была болезненным беспокойным уродливым младенцем, делалось все, чтобы она не попадалась матери на глаза, а когда стала болезненной беспокойной топтыгой – и подавно. Мэри не помнила, чтобы рядом с ней был кто-нибудь помимо айи и других смуглых туземных слуг, а поскольку они опасались, что плачущий ребенок вызовет гнев хозяйки, то потакали девочке, позволяя ей делать все, что заблагорассудится; и к шести годам Мэри превратилась в самое деспотичное и эгоистичное маленькое существо на свете. Молодая гувернантка, которую выписали из Англии, чтобы учить девочку читать и писать, так намучилась с ней, что через три месяца отказалась от места, а все последующие, сменявшие друг друга, сбегали еще быстрее. Так что, если бы Мэри в конце концов сама не захотела читать книжки, она бы вообще никогда не выучила букв.
…Одним чудовищно жарким утром девятилетняя Мэри проснулась ужасно недовольной и рассердилась еще больше, увидев, что у кровати стоит не ее айя, а какая-то другая служанка.
– Ты что здесь делаешь? – рявкнула она на незнакомую женщину. – Не желаю тебя видеть. Пришли сюда мою айю.
Испуганная женщина смогла лишь пробормотать, запинаясь, что айя не может прийти, и даже когда Мэри, взбесившись, стала бить и лягать ее ногами, она, испугавшись еще больше, только повторила, что айя никак не сумеет прийти к мисси-саиб.
Какая-то неуловимая тревога витала тем утром в воздухе. Ничто не шло заведенным чередом, и некоторые слуги-туземцы, казалось, куда-то пропали, между тем как те, которых Мэри видела, сновали туда-сюда, крадучись, с посеревшими испуганными лицами. Но никто ничего ей не говорил, а айя все не появлялась. Мэри оставили практически без присмотра, и в конце концов она забрела в сад и стала одна играть под деревом возле веранды. Делая вид, что сажает клумбу, она втыкала большие алые цветки гибискуса в маленькие кучки земли, все больше распаляясь и бормоча себе под нос ругательства, которыми собиралась осыпать айю, когда та наконец объявится.
– Свинья! Свинья! Свиное отребье! – твердила она, потому что назвать туземку свиньей было худшим оскорблением.
Скрежеща зубами, она повторяла это снова и снова, пока не услышала, как на веранду, с кем-то разговаривая, вышла мама. Ее собеседником оказался белокурый юноша, они стояли и беседовали приглушенными тревожными голосами. Мэри знала, что этот юноша, почти мальчик, – молодой офицер, только что прибывший из Англии. Девочка с интересом уставилась на них, но главным образом – на мать. Она всегда, когда выпадала возможность, смотрела на нее во все глаза, потому что мэм-саиб – так она чаще всего называла мать – была высокой, стройной, красивой и чудесно одевалась. Ее волосы напоминали волнистый шелк, маленький носик выглядел изящно, но все это казалось незначительным по сравнению с огромными смеющимися глазами. Все платья матери, сшитые из тончайших струящихся тканей, «тонули в кружевах», как говорила Мэри. Нынешним утром кружев, казалось, было больше, чем обычно, но расширившиеся мамины глаза совсем не смеялись. Она с мольбой смотрела на юного светловолосого офицера, и в ее взгляде стоял страх. Мэри услышала, как мама спросила:
– Неужели все так плохо? О, неужели?
– Ужасно, – дрожащим голосом ответил офицер. – Ужасно, миссис Леннокс. Вам следовало уехать в горы еще две недели назад.
Мэм-саиб заломила руки.
– О, я знаю, что должна была! – воскликнула она. – Осталась только ради того, чтобы пойти на этот злосчастный званый обед. Как же я сглупила!
В ту же секунду со стороны хижин прислуги раздался такой громкий вой, что женщина стиснула руку молодого человека, а Мэри с головы до ног покрылась мурашками от ужаса. Вой все нарастал.
– Что это? Что это такое?! – задохнувшись, вскрикнула миссис Леннокс.
– Кто-то умер, – ответил мальчик-офицер. – Вы не говорили, что несчастье добралось и до ваших слуг.
– Я не знала! – воскликнула мэм-саиб. – Идемте со мной! Идемте со мной! – Она развернулась и забежала в дом.
После этого стали происходить страшные события, и непонятная тревожность, царившая в доме в то утро, разъяснилась. Оказалось, что в округе разразилась эпидемия самой опасной формы холеры, и людей повально косила смерть. Айя заболела ночью, и именно ее смерть вызвала тот дикий вой в лачугах прислуги. В этот же день умерло еще трое слуг, остальные в ужасе бежали. Повсюду царила паника, во всех хижинах кто-то умирал.
Посреди всеобщего замешательства и неразберихи Мэри спряталась в детской, и домочадцы про нее даже не вспомнили. Никто о ней не думал, никому она не была нужна, а за дверью происходили странные вещи, которых она совершенно не понимала. Часами Мэри то плакала, то спала. Знала она только то, что люди болеют, и слышала загадочные пугающие звуки. Один раз она прокралась в столовую и нашла ее пустой, хотя на столе стояли остатки обеда; стулья и тарелки были беспорядочно сдвинуты, словно обедавшие почему-то вдруг поспешно повскакивали со своих мест. Девочка съела несколько фруктов и печений и, поскольку хотела пить, выпила стоявший на столе почти полный бокал вина. Вино оказалось сладким, и она не догадалась, насколько оно крепкое. Очень скоро ее начал одолевать сон, она отправилась обратно в детскую и закрыла за собой дверь, напуганная криками, которые доносились из хижин прислуги, и суетливым топотом ног. От вина Мэри сделалась такой сонной, что веки у нее слипались; она легла на кровать и надолго забылась.
Многое происходило в те часы, которые она провела в глубоком забытьи, ее не разбудили ни вопли, ни грохот вносимых и выносимых из хижин вещей.
Проснувшись, Мэри лежала, уставившись в стену. В доме стояла мертвая тишина. Никогда прежде не было в нем так тихо. Ни голосов, ни шагов. Может быть, все выздоровели и беда миновала? – подумала она. И еще: кто же теперь будет заботиться о ней, раз айя умерла? Наверное, будет другая айя, которая, возможно, знает новые сказки. Старые Мэри порядком надоели. Она не плакала из-за смерти своей няни, поскольку не была ласковым ребенком и никогда ни к кому особенно не привязывалась. Шум, суета и вой по умершим от холеры напугали ее, и она злилась, потому что никто, судя по всему, не вспомнил, что она-то жива. Все были слишком охвачены паникой, чтобы думать о девочке, которую никто не любил. Когда бушует холера, похоже, люди думают только о себе. Но, если все снова станут здоровы, кто-нибудь, разумеется, вспомнит и придет за ней.
Но никто так и не пришел, она продолжала лежать в своей комнате, а дом, казалось, все больше погружался в тишину. Девочка услышала какое-то шуршание на циновке у кровати и, посмотрев вниз, увидела маленькую змейку, скользившую по полу и наблюдавшую за ней глазками, похожими на драгоценные камешки. Мэри не испугалась, потому что это было безобидное маленькое существо, которое не могло причинить ей вреда, к тому же, казалось, оно спешило выбраться из комнаты. Девочка проследила, как змейка юркнула под дверь.
– Как странно и тихо вокруг, – вслух произнесла она. – Как будто в доме, кроме меня и змеи, никого нет.
И в следующий миг она услышала шаги на участке возле дома, потом на веранде. Это были мужские шаги. Мужчины вошли в дом, тихо переговариваясь. Никто не вышел им навстречу и не заговорил с ними, и они, похоже, двинулись по дому, открывая все двери и заглядывая в комнаты.
– Какое несчастье! – произнес один из голосов. – Такая милая, красивая женщина… Полагаю, то же случилось и с ребенком. Я слышал, что у нее была дочь, хотя никогда ее не видел.
Когда несколько минут спустя они открыли дверь детской, Мэри стояла посреди комнаты. Выглядела она неприятно: сердитое маленькое создание, хмурившее брови, потому что давно проголодалось и чувствовало себя предательски брошенным. Первым вошел крупный мужчина, офицер, однажды Мэри видела, как он разговаривал с ее отцом. Он казался усталым и озабоченным, но, увидев девочку, так испугался от неожиданности, что чуть не отскочил назад.
– Барни! – крикнул он. – Тут ребенок! Один! В таком месте! Господи помилуй, кто она?
– Я Мэри Леннокс, – горделиво выпрямившись, объявила девочка. Она сочла, что этот человек нарушил правила приличия, самовольно войдя в дом ее отца и к тому же невежливо назвав его «таким местом». – Когда у всех началась холера, я заснула и только что проснулась. Почему ко мне никто не приходит?
– Нет, вы когда-нибудь видели такого ребенка? – воскликнул мужчина, поворачиваясь к своим спутникам. – А ведь о ней и в самом деле все забыли!
– Почему обо мне забыли? – Мэри топнула ногой. – Почему никто ко мне не приходит?
Молодой человек, которого звали Барни, печально посмотрел на нее. Мэри даже показалось, что он моргнул, смахнув слезу.
– Бедное дитя! – сказал он. – Некому приходить. Никого не осталось.
Вот при таких странных обстоятельствах и так внезапно Мэри узнала, что у нее нет больше ни отца, ни матери, что они умерли и их унесли ночью, что несколько слуг, оставшихся в живых, покинули дом так быстро, как только смогли, и никто из них даже не вспомнил, что жила в нем некая мисси-саиб. Вот почему было так тихо. Потому что в доме не осталось никого, кроме нее и маленькой шуршащей змейки.
Глава II. Госпожа Мэри-Всё-Наперекор
Мэри любила смотреть на свою маму издали, находила ее очень красивой, но, поскольку она очень мало знала ее, едва ли стоило ожидать, что она будет любить ее и скучать по ней, когда той не стало. По правде говоря, она совсем по ней не тосковала и, будучи ребенком, сосредоточенным только на себе, только о себе теперь и думала, как, впрочем, и всегда. Будь она постарше, ее бы, безусловно, очень обеспокоило то, что она осталась одна на белом свете, но она была еще очень юна и, поскольку о ней всегда кто-то заботился, предполагала, что так будет вечно. О чем она действительно думала, так это о том, попадет ли она к добрым людям, которые станут обращаться с ней почтительно и дадут возможность, как делали ее айя и остальные слуги-туземцы, всегда поступать по-своему.
Мэри знала, что не задержится в доме английского священника, куда ее в конце концов определили. Она и сама не хотела там оставаться. Священник был беден, имел пятерых детей, близких по возрасту, которые ходили в потрепанной одежде, вечно ссорились и отнимали друг у друга игрушки. Мэри ненавидела их неряшливое бунгало и так дурно относилась к ним самим, что уже на второй или третий день никто из детей не хотел с ней играть. Почти сразу по ее приезде дети дали ей прозвище, которое ее бесило.
Придумал его Бейзил – маленький мальчик с дерзким взглядом голубых глаз и курносым носом, Мэри его возненавидела. Она играла под деревом сама с собой, точно так, как в тот день, когда разразилась холера – сгребала землю в кучки и прокладывала между ними дорожки, чтобы устроить сад, – когда Бейзил подошел и стал наблюдать за ней. Его заинтересовало то, что она делала, и внезапно он даже выступил с предложением:
– Почему бы тебе не сделать горку из камней вон там – будет вроде японского садика, – сказал он. – Вон там, посередине. – Он склонился над ней, чтобы показать место.
– Убирайся! – закричала Мэри. – Не нужны мне никакие мальчишки. Убирайся!
На какой-то миг Бейзил рассердился, а потом стал дразниться. Он привык дразнить своих сестер. Пританцовывая, он бегал вокруг Мэри, корчил гримасы, хохотал и пел:
- Злючка Мэри-Всё-Наперекор,
- Чем засажен твой садовый двор?
- Колокольчики, ракушки, ослиные ушки,
- И посередке – большой мухомор.
Он повторял это до тех пор, пока не услышали другие дети. Они прибежали и, хохоча, подхватили песенку. И чем больше злилась Мэри, тем громче они кричали: «Злючка Мэри-Всё-Наперекор», и потом, пока она оставалась в их доме, называли ее между собой – а иногда и при ней – только «Мэри-Всё-Наперекор».
– Тебя отправят домой в конце недели, – как-то сказал ей Бейзил, – и мы все очень этому рады.
– Я тоже рада, – ответила Мэри – А где этот дом?
– Она не знает, где ее дом! – наигранно-издевательски, как умеют семилетние мальчишки, воскликнул Бейзил. – В Англии, разумеется. Наша бабушка там живет, и нашу сестру Мейбел отправили к ней в прошлом году. А тебя к бабушке не пошлют. У тебя ее нет. Ты поедешь к своему дяде. Его зовут мистер Арчибальд Крейвен.
– Не знаю я никакого дяди, – огрызнулась Мэри.
– Знаю, что не знаешь, – ответил Бейзил. – Ты вообще ничего не знаешь. Как все девчонки. Я слышал, как папа с мамой про него говорили. Он живет в огромном старом заброшенном доме в деревне, и мимо него даже никто не ездит. Мистер Крейвен такой злой, что никому этого не позволяет, да даже если бы позволял, никто бы не стал туда соваться. Он горбун и очень страшный.
– Я тебе не верю, – сказала Мэри, отвернулась от него и заткнула уши пальцами – она больше ничего не желала знать.
Но позже она долго размышляла об услышанном, и когда мистер Кроуфорд вечером сообщил ей, что через несколько дней ее отправят на пароходе в Англию, к ее дяде мистеру Арчибальду Крейвену, который живет в поместье Мисслтуэйт-Мэнор, вид у нее был такой каменный и невозмутимо-равнодушный, что священник с женой не знали, что и думать. Они старались быть с ней ласковыми, но она лишь отвернулась, когда миссис Кроуфорд попыталась ее поцеловать, и держалась нарочито чопорно, когда мистер Кроуфорд похлопал ее по плечу.
– Она такая неказистая, – жалостно сказала потом миссис Кроуфорд, – а ведь мать у нее была красавицей с безупречными манерами, а такого невоспитанного ребенка, как Мэри, я в жизни еще не видела. Дети называют ее Мэри-Всё-Наперекор, и, хотя это грубо с их стороны, я могу их понять.
– Возможно, если бы ее мать чаще являла свое прекрасное лицо и свои прекрасные манеры в детской, Мэри тоже научилась бы чему-нибудь хорошему. Теперь, когда ее нет в живых, грустно вспоминать, что многие даже не знали, что у этого несчастного красивого создания был ребенок.
– Думаю, Мэри почти никогда и не видела свою мать, – вздохнула миссис Кроуфорд. – Когда умерла ее айя, о маленькой девочке никто даже не вспомнил. Ты только представь себе, как слуги убегают сломя голову, оставив ее одну в опустевшем доме. Полковник Макгрю рассказывал, что чуть не подпрыгнул от испуга, когда открыл дверь и увидел, как она стоит одна посреди комнаты.
Путь в Англию Мэри проделала под присмотром жены одного офицера, которая везла своих детей в школу-интернат. Слишком поглощенная сыном и дочерью, она с облегчением передала чужого ребенка женщине, которую мистер Арчибальд Крейвен прислал за Мэри в Лондон. Это оказалась его экономка из Мисслтуэйт-Мэнора, миссис Медлок – коренастая женщина с очень румяными щеками и острым взглядом черных глаз. На ней было темно-лиловое платье, поверх него – черная шелковая пелерина, отороченная бахромой, а на голове черная шляпка с лиловыми бархатными цветами, которые торчали кверху и колыхались, когда она качала головой. Мэри экономка сразу не понравилась, но ей вообще редко кто нравился, так что в этом не было ничего удивительного, а кроме того, не вызывало сомнений, что миссис Медлок ее ни в грош не ставит.
– Подумать только! Такая дурнушка, – сказала она. – А ведь мы слышали, что мать ее была красавицей. Не много же она оставила дочке в наследство, не так ли, мэм?
– Вероятно, с возрастом она похорошеет, – доброжелательно отозвалась офицерская жена. – Это все желтая кожа и хмурый вид, а черты лица у нее совсем не дурны. Дети сильно меняются с годами.
– Ей придется очень сильно измениться, – ответила миссис Медлок. – А Мисслтуэйт – не то место, которое способствует исправлению детских характеров, если хотите знать мое мнение.
Они думали, что Мэри не слышит их, поскольку та стояла в стороне, у окна частной гостиницы, где им предстояло переночевать. Она наблюдала за проезжавшими мимо автобусами и кэбами, за пешеходами, но очень хорошо все слышала, и ее разбирало любопытство: какие они, ее дядя и место, где он живет? Как выглядит это место и как выглядит дядя? Что такое горбун? Она никогда не видела горбатых людей. Возможно, в Индии их просто нет?
С тех пор как она жила в чужих домах и не имела айи, она начала чувствовать себя одиноко, и в голову ей приходили странные, новые для нее мысли. Мэри задавалась вопросом, почему она всегда оставалась как бы ничьей, даже при жизни мамы с папой. Другие дети были сыновьями и дочерями своих родителей, но только не она. У нее были слуги, была еда и одежда, но никто никогда не обращал на нее никакого внимания. Она не понимала, что все это из-за ее дурного характера, часто находила неприятными других людей, но ей и в голову не приходило, что неприятна она сама.
Миссис Медлок с ее грубым румяным лицом и вульгарной шляпкой она считала самым противным человеком на свете. На следующий по ее прибытии в Англию день, когда они отправлялись в Йоркшир, девочка, идя через вокзальный вестибюль к платформе, старалась держаться как можно дальше от экономки, потому что не хотела, чтобы подумали, будто они вместе. Она бы страшно разозлилась, если бы кто-нибудь принял ее за дочку этой тетки.
Но миссис Медлок ничуть не волновала ни сама Мэри, ни ее думы. Она была из той породы женщин, которые «не потерпят никакого вздора со стороны детей». По крайней мере, именно так бы она выразилась, если бы ее спросили. Ей не хотелось ехать в Лондон именно тогда, когда выходила замуж дочь ее сестры, но она боялась потерять завидное, хорошо оплачиваемое место домоправительницы в Мисслтуэйт-Мэноре, поэтому делала то, что приказывал мистер Арчибальд Крейвен. Она никогда не осмеливалась даже вопроса ему задать.
– Капитан Леннокс и его жена умерли от холеры, – коротко и сухо сообщил ей мистер Крейвен. – Капитан Леннокс был братом моей жены, и я опекун его дочери. Ребенка привезут сюда. Вы поедете в Лондон и доставите девочку лично.
Таким образом, миссис Медлок упаковала свой маленький саквояж и отправилась в путь.
В вагоне невзрачная девочка уселась в углу и выглядела, как обычно, раздраженной. Поскольку читать ей было нечего и смотреть не на что, она сложила свои тонкие ручки в черных перчатках на коленях. Черное платье еще больше подчеркивало желтизну ее кожи, из-под черной креповой шляпки выбивались тусклые светлые волосы.
«В жизни не видела более ломливого ребенка», – подумала миссис Медлок. (Это было специфическое йоркширское слово, обозначавшее «избалованный» и «капризный».) Она и впрямь никогда не встречала ребенка, который так долго сидел бы неподвижно, ничего не делая, но в конце концов ей надоело молча наблюдать за девочкой, и она заговорила бодрым грубым голосом:
– Полагаю, мне следует рассказать тебе что-нибудь о том месте, куда ты направляешься. Ты что-нибудь знаешь о своем дяде?
– Нет, – ответила Мэри.
– Никогда не слышала, чтобы твои папа и мама о нем говорили?
– Нет. – Мэри нахмурилась. Нахмурилась, так как вспомнила, что ее папа и мама вообще почти ни о чем с ней не разговаривали. И, разумеется, ни о чем не рассказывали.
– Гм, – пробормотала миссис Медлок, глядя на странно-непроницаемое маленькое лицо. Помолчав несколько минут, она продолжила: – Думаю, кое-что нужно тебе рассказать, чтобы подготовить. Ты едешь в странное место.
Мэри ничего не ответила, и миссис Медлок весьма расстроило ее явное безразличие, но, сделав глубокий вдох, она заговорила снова:
– Хотя на свой лад это шикарное место, и мистер Крейвен даже по-своему гордится его мрачностью – оно и впрямь такое. Дому шестьсот лет, он стоит на краю вересковой пустоши, в нем около ста комнат, хотя большинство из них заперты на замок. В доме много картин, прекрасной старой мебели и разных вещей, которые хранятся там веками, а вокруг – большой парк, сады, огороды и деревья, у которых ветви свисают до земли – ну, у некоторых. – Она помолчала и снова набрала воздуха в легкие. – Но больше там ничего нет, – неожиданно закончила она.
Мэри невольно начала прислушиваться. Это было так непохоже на Индию, а все новое ее весьма привлекало. Но она не собиралась выдавать своего интереса. Такова была одна из неприятных особенностей ее поведения. Она продолжала сидеть неподвижно.
– Ну, – сказала миссис Медлок, – что ты об этом думаешь?
– Ничего, – ответила Мэри. – Я про такие места ничего не знаю.
Миссис Медлок издала что-то вроде короткого смешка.
– Эй, да ты прямо как старушка, – сказала она. – Неужели тебе все равно?
– Это неважно, – ответила Мэри, – все равно мне или нет.
– Тут ты в общем права, – согласилась миссис Медлок. – Это неважно. Зачем тебя селят в Мисслтуэйт-Мэноре, я не знаю, разве что так проще всего. Дядя заботиться о тебе не собирается, это уж будь уверена. Он никогда ни о ком не заботится.
Она запнулась, словно вдруг что-то вовремя вспомнила.
– У него спина горбатая, – сказала она. – Оттого он с рождения какой-то несуразный. В молодости был угрюмым и не получал никакой радости ни от своих денег, ни от большого поместья, пока не женился.
Несмотря на свое решение оставаться безучастной, Мэри невольно перевела взгляд на экономку. Она никогда не думала, что горбун может жениться, и чуточку удивилась. Миссис Медлок заметила это и, поскольку была женщиной разговорчивой, продолжила с бóльшим воодушевлением. Во всяком случае, беседа позволяла скоротать время.
– Его невеста была милой и очень хорошенькой, и он готов был, пожелай она, луну для нее с неба достать. Никто не думал, что она за него выйдет, а она вышла, и люди стали говорить, что она сделала это из-за денег. Но это не так… определенно не так, – уверенно сказала миссис Медлок. – Когда она умерла…
Мэри непроизвольно вздрогнула.
– О! Она умерла? – воскликнула девочка, сама того не желая, и вспомнила французскую сказку «Рике-хохолок», которую когда-то читала. Это была сказка о бедном горбуне и прекрасной принцессе, и ей вдруг стало жалко мистера Арчибальда Крейвена.
– Да, умерла, – подтвердила миссис Медлок. – И от этого он сделался еще более угрюмым, чем прежде. Никого не любит. Никого не желает видеть. Бóльшую часть времени бывает в отъезде, а когда возвращается в Мисслтуэйт, закрывается наверху, в западном крыле, и не позволяет никому ходить туда, кроме Питчера. Питчер – старик, который заботился о мистере Крейвене, когда тот был еще ребенком, и поэтому знает, как с ним обращаться.
Все это звучало как история из книги, и бодрости Мэри не прибавило. Сотня комнат, почти все они заперты, дом на краю вересковой пустоши – что бы это ни значило… Звучит страшновато. А чего стоит горбун, закрывшийся у себя наверху! Плотно стиснув губы, Мэри смотрела в окно, за которым, вторя ее настроению, серыми косыми струями полил дождь, вскипая фонтанчиками капель и стекая по стеклу. Если бы красавица-жена была жива, она могла бы сделать жизнь в мрачном доме повеселее, заменив Мэри мать, она ездила бы на всякие балы в платьях, «тонущих в кружевах», как ее собственная мама. Но ее больше нет.
– Тебе нечего бояться встречи с ним, так как – десять к одному – ты его не увидишь, – сказала миссис Медлок. – И не жди, что кто-то будет с тобой разговаривать. Тебе укажут, в какие комнаты можно входить, а от каких надо держаться подальше. В саду места много, но слоняться по дому и проявлять любопытство – ни-ни. Мистер Крейвен этого не потерпит.
– Я не собираюсь проявлять любопытство, – угрюмо ответила маленькая Мэри. Жалость к мистеру Арчибальду Крейвену испарилась так же внезапно, как нахлынула, и она подумала, что такой противный человек заслуживает всего того дурного, что с ним случилось.
Отвернувшись к окну, она уставилась на серую пелену ливня и смотрела на нее так долго и неотрывно, что мгла в конце концов стала сгущаться, глаза Мэри закрылись и она уснула.
Глава III. Через вересковую пустошь
Проспала Мэри долго. К тому времени, когда она проснулась, миссис Медлок купила на какой-то станции корзинку со снедью – цыпленком, холодной говядиной, хлебом с маслом и горячим чаем, – и они пообедали. Ливень, казалось, хлестал сильнее прежнего, и все люди на перронах были в мокрых блестящих дождевиках. Кондуктор зажег в вагоне фонари, а миссис Медлок после еды повеселела. Она съела львиную долю купленного и вскоре сама заснула, а Мэри сидела, глядя на нее и на ее съехавшую набок шляпку, пока тоже вновь не задремала, прикорнув в уголке, убаюканная шумом дождя и стуком колес. Когда она проснулась, уже стемнело. Поезд стоял на станции, и миссис Медлок теребила ее.
– Хватит спать! – говорила она. – Пора просыпаться! Мы уже на станции Туэйт, и нам еще предстоит долгий путь.
Пока миссис Медлок собирала вещи, Мэри стояла, с трудом борясь с желанием снова закрыть глаза. Она не предложила экономке помощь, потому что в Индии багаж всегда собирали и носили слуги-туземцы, и ей казалось совершенно естественным, что одни люди обслуживают других.
Станция была маленькой, и, похоже, никто кроме них с поезда не сошел. Начальник станции обратился к миссис Медлок грубым, но добродушным голосом, странно растягивая слова, что, как впоследствии выяснила Мэри, делали почти все йоркширцы.
– А-а, гляжу ты уж вороти-илась, – сказал он. – И привезла с собой ту саму осталицу[3].
– Знамо, эт’ она и есть, – ответила миссис Медлок с таким же йоркширским акцентом, головой указывая на Мэри. – Как твоя жонка?
– Да ничо, кажись, очухалась. Экипаж ждет тебя у входа.
Двухместная карета стояла на дороге у маленькой внешней платформы. Мэри заметила, что экипаж выглядит элегантно, как и лакей, который помог ей сесть в карету. Его длинный плащ-дождевик и шляпа с непромокаемым покрытием блестели, и с них, как и со всего прочего, включая дородного начальника станции, капала вода.
Когда, захлопнув дверцу, лакей поднялся на козлы, сел рядом с кучером и они двинулись в путь, девочка уютно устроилась в углу сидения, обложившись подушками, однако на сей раз спать не собиралась. Она смотрела в окно, стараясь увидеть хоть что-нибудь по дороге в странное место, описанное миссис Медлок. Мэри отнюдь не была робким ребенком и не то чтобы испытывала страх, но чувствовала, что всякое может случиться в доме с сотней комнат – да еще по большей части закрытых, – стоящем на краю вересковой пустоши.
– Что такое вересковая пустошь? – вдруг спросила она у миссис Медлок.
– Выгляни в окно минут через десять – увидишь, – ответила та. – Нам придется около десяти миль проехать по Мисслской пустоши, чтобы попасть в поместье. Ты не больно-то много увидишь, потому что сейчас темно, но кое-что все же поймешь.
Больше Мэри вопросов не задавала, просто ждала, затаившись в темноте своего уголка и не отводя глаз от окна. Каретные фонари освещали лишь короткий участок дороги впереди, но порой выхватывали из темноты и какие-то силуэты на обочине. Отъехав от станции, они покатили через крохотную деревушку, Мэри видела побеленные коттеджи и освещенный паб. Потом миновали церковь, дом викария, небольшую витрину магазина или чего-то в этом роде, в которой были выставлены игрушки, сладости и что-то еще. Дальше потянулась большая дорога, обрамленная кустами и деревьями. По ней они ехали очень долго, по крайней мере, так показалось Мэри.
Наконец лошади замедлили шаг, словно начали подниматься в горку, и вот уже кусты и деревья вдоль дороги исчезли. В сущности, теперь Мэри не видела ничего, кроме насыщенной влагой темноты, обступавшей с обеих сторон. Она наклонилась и прижалась лицом к окну как раз в тот момент, когда карета резко дернулась.
– Ага! Ну, теперь мы точно на пустоши, – сказала миссис Медлок.
Каретные фонари отбрасывали желтый свет на ухабистую дорогу, которая, казалось, была прорублена через заросли невысокой растительности, терявшейся в глубинах темноты и явно далеко расстилавшейся вокруг. Поднялся ветер, издавая необычные, низкие шипящие звуки.
– Это же… это ведь не море? – спросила Мэри, повернувшись к своей спутнице.
– Нет, не море, – ответила миссис Медлок. – И не поля, и не горы, это многие, многие, многие мили дикой земли, на которой ничто не растет, кроме вереска, дрока и ракитника, и на которой никто не водится, кроме диких пони и овец.
– Это походило бы на море, будь там вода, – сказала Мэри. – Звучит как море.
– Это ветер шумит в кустах, – объяснила миссис Медлок. – По мне так довольно жуткое, дикое место, особенно когда цветет вереск.
Они ехали и ехали сквозь темноту, и, хотя дождь прекратился, вокруг шуршал, свистел и издавал еще какие-то странные звуки ветер. Дорога шла то вверх, то вниз, несколько раз карета проезжала через маленькие мостики, под которыми очень быстро, с громким шумом бежала вода. Мэри казалось, что это путешествие никогда не закончится и что необъятная тусклая пустошь – это широкие черные просторы океана, через который она перебирается по узкой полоске сухой земли.
«Мне это не нравится, – призналась себе девочка. – Совсем не нравится». И еще плотнее стиснула тонкие губы.
Лошади взбирались на пригорок, когда она впервые заметила вдалеке свет. Миссис Медлок тоже увидела его и издала долгий выдох облегчения.
– Ох, как же я рада этому огоньку, – воскликнула она. – Это свет в окне сторожки. Скоро мы сможем выпить по доброй чашке чая.
Обещанное ею «скоро» наступило не так уж скоро, потому что после того, как карета миновала парковые ворота, оставалось проехать еще две мили по аллее, ведущей к дому; кроны росших по бокам деревьев почти смыкались над головой, создавая впечатление, будто едешь через длинную темную пещеру.
Выехав на открытое пространство, карета остановилась перед невероятно длинным, но приземистым домом, опоясывающим мощеный двор. Сначала Мэри показалось, что ни одно окно не горит, но, выйдя из кареты, она заметила тусклый свет в угловой комнате наверху.
Входная дверь казалась огромной, сделанной из массивных, замысловато-резных дубовых панелей, утыканных большими железными шипами и стянутых широкими железными прутами. Дверь вела в гигантский холл, столь тускло освещенный, что Мэри опасалась смотреть на развешенные по стенам портреты, с которых взирали на нее фигуры в рыцарских доспехах. На каменном полу посреди этого величественного холла ее маленькая черная фигурка выглядела потерянной и странной – именно так Мэри себя и чувствовала.
Рядом со слугой, открывшим дверь, стоял безукоризненно одетый худой старик.
– Отведите ее в комнату, – сказал он хриплым голосом. – Хозяин не хочет ее видеть. Утром он уезжает в Лондон.
– Хорошо, мистер Питчер, – ответила миссис Медлок. – Если я буду знать, что от меня требуется, я все сделаю.
– Что от вас требуется, миссис Медлок, – сказал мистер Питчер, – так это сделать так, чтобы его не беспокоили и чтобы он не видел того, чего видеть не хочет.
После этого Мэри Леннокс повели наверх по широкой лестнице, потом по длинному коридору, по еще одному, короткому пролету ступенек, по еще одному коридору и по еще одному, пока в стене не открылась дверь и она не очутилась в комнате с камином. На столе уже стоял ужин.
Миссис Медлок без церемоний сказала:
– Ну вот ты и на месте. Эта и соседняя комнаты – место, где ты будешь жить. И ты должна оставаться в его пределах. Не забывай об этом!
Вот так госпожу Мэри водворили в Мисслтуэйт-Мэнор, и, пожалуй, еще никогда в жизни она не чувствовала себя настолько «наперекор».
Глава IV. Марта
Мэри проснулась оттого, что молодая горничная, пришедшая разжечь огонь, шумно выгребала золу, стоя на коленях на коврике перед камином.
Мэри лежала и наблюдала за ней несколько мгновений, а затем принялась осматриваться. Она никогда не видела такой странной и мрачной комнаты. На стенах висели гобелены с вышитым на них лесным пейзажем. Под деревьями стояли диковинно одетые люди, а вдалеке виднелись башенки замка. Тут были охотники и дамы, лошади, собаки. Мэри чувствовала себя так, словно находилась в этом лесу вместе с ними. Через глубокое окно она могла видеть огромный, уходящий ввысь склон без единого деревца, который скорее походил на необъятное бледно-пурпурное море.
– Что это? – спросила Мэри, указывая в окно.
Марта, молодая горничная, которая только что поднялась на ноги, тоже взглянула.
– Вон тама?
– Да.
– Дак это пустошь. – Ответила та с добродушной улыбкой. – По нраву тебе?
– Нет, – ответила Мэри. – Отвратительно.
– Эт’ потому как ты не привыкла, – сказала Марта, снова принимаясь за чистку камина. – Мнится, что она больно уж большая и голая. Но она тебе придется по нраву.
– А тебе нравится? – поинтересовалась Мэри.
– Ой-ёй! Еще как! – ответила Марта, бодро отскребая каминную решетку. – Я ее страсть как обожаю. И ничуть она не голая. Она ж вся заросшая, и так сладко пахнет. Весной так любо, и летом тож, когда дрок и ракитник и вереск цветут. Медом пахнет, и воздух такой свежий… А небо какое высокое! И пчелы с жаворонками так ладно жужжать и поють. Эх! Да я бы ни за какие коврижки не согласилась жить там, где нет пустошей.
Мэри слушала ее с мрачно-озадаченным видом. Туземные слуги, к которым она привыкла в Индии, ничуть не походили на Марту. Услужливые и раболепные, они не осмеливались разговаривать с хозяевами на равных. Они лишь почтительно кланялись господам и величали их «защитниками бедных» или еще как-нибудь в этом роде. Индийским слугам приказывали, их не просили. Им не было принято говорить «пожалуйста» и «спасибо», и Мэри, когда сердилась, отвешивала своей айе пощечины. Марта же – пухленькое, румяное, добродушное существо, – имела такой уверенный вид, что госпожа Мэри задумалась: не даст ли служанка сдачи, если получит пощечину всего лишь от маленькой девочки.
– Странная ты служанка, – сказала она весьма высокомерно, покоясь на подушках.
Опустившись на корточки с кистью для покраски отчищенной решетки в руке, Марта засмеялась без малейшего признака недовольства.
– Ох, да знаю я. Коли б в Мисслтуэйте была большая миссус, я б никогда и младшей горничной не стала. Ну, может, до судомойни меня б еще и допустили, но наверху работать точно бы не позволили. Простая я больно и говорю слишком уж по-йоркширски. Но дом этот, хоть и такой богатый, очень странный. Как будто в нем нет ни хозяина, ни хозяйки, кроме мистера Питчера и миссис Медлок. Мистеру Крейвену, ему на все плевать, когда он тут, а тут его почти никогда не бывает. Миссис Медлок по доброте своей дала мне это место. И еще сказала, что ни в жисть бы такого не сделала, когда б Мисслтуэйт был нормальным богатым домом, как другие.
– Так ты будешь моей служанкой? – спросила Мэри в своей привычной надменной манере.
Марта снова принялась скрести решетку.
– Я слушаюсь миссис Медлок, – твердо ответила она. – А она – мистера Крейвена. Но мне велено исполнять работу горничной тут, наверху, ну и тебе немного прислуживать. Но тебе мало что понадобится.
– А кто будет меня одевать? – властно поинтересовалась Мэри.
Марта откинулась на пятки, уставилась на нее и с изумлением спросила на свой йоркширский манер:
– Ой чой-то? Сама не сдюжишь?
– Что ты такое говоришь? Не понимаю я твоего языка, – сказала Мэри.
– Ай-ай! Забыла! – воскликнула Марта. – Миссис Медлок наказывала, чтоб я правильно говорила, а то ты меня не поймешь. Я хотела сказать: ты что, сама не можешь одежду на себя натянуть?
– Нет! – ответила Мэри с негодованием. – Я никогда в жизни этого не делала. Разумеется, меня одевала моя айя.
– Ну коли так, – сказала Марта, явно даже не догадываясь, что ведет себя бесцеремонно, – пора научиться. Ты уже не маленькая. Полезно тебе будет чуток самой себя пообслуживать. Моя матенька всегда говорит: диво, что у богатых дети не вырастают полными чурбанами, при том, что их нянчат, моют, одевают и выгуливают, как щенят!
– А вот в Индии все не так, – презрительно сказала госпожа Мэри. Она едва сдерживала гнев.
Но на Марту это не произвело никакого впечатления.
– Ну да, знамо дело, не так, – ответила она почти сочувственно. – Бьюсь об заклад, это потому, что там тьма тьмущая черных вместо уважаемых белых людей. Я когда услыхала, что ты едешь из Индии, так подумала, что ты тоже черная.
Мэри в ярости села на кровати.
– Что?! – закричала она. – Что?! Ты думала, что я туземка? Ты… ты… свиное отребье!
Марта уставилась на нее с весьма грозным видом.
– Да кто ты такая, чтоб обзываться? – сказала она. – Нечего так яриться. Молодые леди так себя не ведут. Я против черных ничего не имею. В разных книжечках про них пишут, что они очень набожные, что черные – наши братья. А я никогда не видела черного человека и радовалась, что увижу теперь одного вблизи. Я когда утром сегодня пришла к тебе разжечь камин, то подкралась к кровати и осторожненько оттянула одеяло, чтобы глянуть на тебя. А ты, – добавила она разочарованно, – оказалась не чернее меня, хотя почему-то желтая.
От такого унижения Мэри перестала сдерживать гнев.
– Ты подумала, что я туземка! Да как ты посмела?! Ты ничего не знаешь о туземцах! Они – не люди, они – слуги, которые должны кланяться и подчиняться. Ты ничего не знаешь об Индии. Ты вообще ничего не знаешь!
Она совершенно распалилась, испытывала полное бессилие под простодушным взглядом Марты, и вдруг почувствовала себя такой одинокой, такой далекой от всего, что ей понятно, от окружения, в котором ее поведение было естественным, что, зарывшись лицом в подушку, горько разрыдалась. Рыдала она так безудержно, что добросердечная йоркширка даже немного испугалась, ей стало жалко девочку. Она подошла к кровати и склонилась над ней.
– Эй! Ну хорош уже так голосить! – взмолилась она. – Точно тебе говорю. Я не думала, что ты так расстроишься. Я и впрямь ничего ни про что не знаю – как ты и сказала. Ну, прости меня, мисс. И перестань плакать.
Было что-то утешающее и искренне дружелюбное в ее странном йоркширском говоре и ее непоколебимой уверенности, и это оказало на Мэри благотворное воздействие. Рыдания стали затихать, и наконец она успокоилась. Марта почувствовала облегчение.
– Ну, а теперь тебе пора вставать, – сказала она. – Миссис Медлок велела, чтоб я приносила тебе завтрак, обед и чай в соседнюю комнату. Ее приспособили как твою детскую. Вылазь из кровати, я помогу тебе с одеванием. Если у тебя застежка на спине, ты сама с пуговицами не управишься.
Когда Мэри наконец соблаговолила встать, оказалось, что Марта вынула из гардероба совсем не те вещи, в которых она была накануне, когда они с миссис Медлок приехали в Мисслтуэйт-Мэнор.
– Это не мое платье, – сказала она. – Мое черное. – Однако, осмотрев платье и пальто из плотной белой шерсти, она сдержанно признала: – Но эти вещи лучше моих.
– Вот их и надевай, – ответила Марта. – Мистер Крейвен приказал миссис Медлок купить их в Лондоне. Он сказал: «Я не потерплю, чтобы по дому разгуливал ребенок в черном, как какая-то потерянная душа. – Вот что он сказал. И еще: – От этого дом будет еще печальней, чем он есть. Так что оденьте ее во что-нибудь посветлей». Матенька моя так сразу сказала, что понимает, что он имел в виду. Она всегда знает, что значит правильно одеться. И сама черное не жалует.
– Я тоже ненавижу черную одежду, – сказала Мэри.
Процесс одевания кое-чему научил их обеих. Марте приходилось «упаковывать» своих младших сестер и братьев, но она никогда не видела, чтобы ребенок стоял так неподвижно и ждал, когда кто-то другой сделает все за него, словно у него самого нет ни рук, ни ног.
– А чего ты сама-то туфли не наденешь? – спросила она, когда Мэри протянула ей ногу.
– Это всегда делала моя айя, – ответила Мэри, ощетинившись. – Так принято.
Она очень часто повторяла: «Так принято». Научилась этому у слуг-туземцев. Если кто-то велел им сделать то, чего их предки не делали на протяжении тысячи лет, они спокойно смотрели на этого человека и отвечали: «Так не принято», и человек знал, что настаивать бессмысленно.
Не было принято, чтобы госпожа Мэри делала что-то помимо того, как стоять и позволять одевать себя, как куклу, но теперь, еще до того, как оказаться готовой к завтраку, Мэри стала подозревать, что жизнь в Мисслтуэйт-Мэноре в конце концов научит ее многому совершенно для нее новому – например, самой надевать чулки и туфли и поднимать вещи, которые уронила. Будь Марта хорошо вышколенной горничной для молодой леди, услужливой и почтительной, она знала бы, что это ее обязанность – расчесывать хозяйке волосы, застегивать ботинки, подбирать и класть на место оброненные ею вещи. Но она была всего лишь необученной деревенской девушкой, выросшей в домике посреди йоркширских вересковых пустошей вместе с ватагой маленьких братьев и сестер, которые и помыслить не могли о том, чтобы кто-то их обслуживал, они всё делали сами – для себя и для младших, поскольку те были либо еще младенцами, которых требовалось носить на руках, либо малышами, только начинающими ходить и обо все спотыкающимися.
Если бы Мэри Леннокс росла жизнерадостным ребенком, она бы, возможно, только посмеялась над болтливостью Марты, но Мэри слушала горничную холодно и удивлялась свободе ее поведения. Поначалу ей вовсе не было интересно, но постепенно, по мере того как девушка все тарахтела и тарахтела в своей добродушной безыскусной манере, Мэри начала прислушиваться к тому, что та говорит.
– Эх, видела бы ты их всех! – рассказывала Марта. – Нас двенадцать душ, а мой папаша зарабатывает всего шестнадцать шиллингов в неделю. Матенька наизнанку выворачивается, чтобы хоть каши на всех наварить. Младшие целый день играют на пустошах, и матенька говорит, что свежий воздух их кормит. Она думает, что они там едят траву, как дикие пони. У Дикона нашего, ему двенадцать, даже есть там жеребенок, которого он считает своим.
– Где же он его взял? – спросила Мэри.
– Да там же, на пустоши и нашел. Жеребенок бродил там со своей мамой, когда был еще совсем маленький, и они с Диконом подружились, Дикон ему приносил кусочки хлеба и рвал для него молоденькую травку, и жеребенок к нему так привязался, что ходит за ним по пятам и разрешает на себе ездить. Дикон добрый, его все животные любят.
У Мэри никогда не было никакого домашнего животного, а ей хотелось кого-нибудь иметь. Поэтому рассказ о Диконе ее немного заинтересовал, а поскольку ее раньше никогда никто не интересовал, кроме нее самой, становилось ясно, что в ней начало пробуждаться какое-то новое, хорошее чувство.
Войдя в комнату, переделанную для нее в детскую, Мэри обнаружила, что она мало чем отличается от первой. В ней, собственно, и не было ничего детского, обычная взрослая комната с унылыми старыми картинами на стенах и тяжелыми старинными стульями. В центре комнаты на столе стоял обильный завтрак. Но Мэри всегда отличалась плохим аппетитом и на первое блюдо, поставленное перед ней Мартой, посмотрела с полным безразличием.
– Я этого не хочу, – сказала она.
– Не хочешь каши?! – не веря своим ушам, воскликнула Марта.
– Не хочу.
– Да ты просто не знаешь, какая она вкусная. Полей ее немного патокой или присыпь сахарком.
– Я ее есть не буду, – повторила Мэри.
– Эге! – сказала Марта. – Мне даже смотреть невмоготу, как добрая еда пропадает. Посади моих братьев-сестер за этот стол, они бы за пять минут все смели.
– Почему? – холодно осведомилась Мэри.
– Почему? – эхом отозвалась Марта. – Да потому, что им почти никогда в жизни не доводилось наесться досыта. Они всегда голодные, как ястребы да лисы.
– Я не знаю, что значит быть голодной, – сказала Мэри с безразличием невежества.
Марта посмотрела на нее с возмущением.
– А не мешало бы узнать. Я-то очень хорошо это себе представляю, – откровенно высказалась она. – Терпеть не могу людей, которые сидят, крошат хлеб и лениво ковыряют кусок мяса на тарелке. Господи! Вот бы все, что тут понаставлено, оказалось в желудках у моих Дикона, Фила, Джейн и остальных.
– Ну так и отнеси им, – предложила Мэри.
– Это не мое, – с достоинством ответила Марта. – И сегодня у меня не выходной. Выходной у меня бывает раз в месяц, как и у всей здешней прислуги. Тогда я иду домой и делаю там уборку, чтобы и маме дать хоть денек отдохнуть.
Мэри выпила немного чаю и съела кусочек тоста с джемом.
– А теперь оденься потеплей и беги поиграй на воздухе, – сказала Марта. – Это пойдет тебе на пользу – аппетит к обеду нагуляешь.
Мэри подошла к окну. За ним расстилался сад с дорожками и большими деревьями, но выглядело все по-зимнему уныло.
– На воздухе? Почему я должна выходить из дома в такую погоду?
– Ну, если ты не пойдешь гулять, тебе придется сидеть тут, а что ты тут будешь делать?
Мэри огляделась вокруг. Делать было действительно нечего. Когда миссис Медлок обустраивала эту комнату, о развлечениях она не подумала. Может, и впрямь лучше пойти посмотреть, что представляет собой этот сад?
– А кто пойдет со мной? – спросила она.
Марта удивленно уставилась на нее.
– Сама пойдешь, – ответила она. – Тебе надо учиться играть, как играют другие дети, у которых нет братьев и сестер. Наш Дикон уходит в пустоши один и играет там часами. Так-то он и подружился с пони. У него там, в пустошах, и овцы знакомые имеются, и птицы, которые едят у него с рук. Как бы мало у нас ни было еды, он всегда приберегает хлебные крошки для своих любимцев.
Именно упоминание Дикона заставило Мэри решиться выйти из дома, хотя сама она этого и не осознавала. Там, в саду, наверное, есть птицы, хотя пони и овец, конечно, нет. Это совсем не такие птицы, как в Индии, может, будет любопытно на них посмотреть.
Марта подала ей пальто, шляпу, пару крепких маленьких башмаков и проводила вниз по лестнице.
– Если обойдешь кругом, вон там попадешь в сад, – сказала она, указывая на ворота в плотной стене кустарника. – Летом там полно цветов, но сейчас ничего не цветет. – Поколебавшись с минуту, она добавила: – Только одна часть сада заперта. Там уже десять лет никто не бывал.
– Почему? – невольно вырвалось у Мэри. Еще одна запертая дверь вдобавок к сотне внутри дома.
– Мистер Крейвен велел запереть ее сразу, как умерла его жена. Он никому не позволяет туда ходить. Это был ее сад. Он запер вход, вырыл ямку и похоронил в ней ключ. Ой, миссис Медлок звонит в колокольчик, мне надо бежать.
После ухода Марты Мэри направилась по дорожке, которая привела ее к воротам, встроенным в живую изгородь. Она никак не могла выкинуть из головы мысль о саде, в котором никто не бывал уже десять лет. Интересно, как он выглядит, думала она, сохранились ли в нем какие-нибудь цветы? Пройдя через ворота в кустах, она очутилась в большом саду с широкими лужайками и извилистыми дорожками, окаймленными подстриженными кустами. В саду обнаружились деревья, клумбы, вечнозеленые растения, причудливо подстриженные, и большой пруд со старым серым фонтаном посередине. Но клумбы стояли по-зимнему голые, а фонтан не работал. Это был не тот, не запертый сад. Да и как сад может быть запертым? Ведь в сад всегда можно войти со всех сторон.
Мэри размышляла об этом, когда увидела в конце тропинки, по которой шла, длинную стену, сплошь увитую плющом. Девочка слишком мало знала Англию, чтобы понимать, что за такими стенами обычно располагаются огороды, где выращивают овощи и фрукты. Подойдя к стене, она обнаружила в ней зеленую дверцу, прятавшуюся под плющом. Дверца была открыта. Этот сад явно не является запретным, и, стало быть, в него можно войти.
Пройдя через дверь, Мэри увидела, что это огород, окруженный стеной, и что это лишь один из нескольких разделенных стенами огородов: в противоположном конце ждала еще одна зеленая дверь, тоже открытая, и за ней виднелись кусты и грядки, на которых росли зимние овощи. Фруктовые деревья выстроились в ряд вдоль стены, а некоторые участки грядок были накрыты застекленными каркасами. Место выглядело голым и уродливым, как показалось Мэри. Летом, когда все зазеленеет, тут, должно быть, станет приятней, но пока ничего красивого в этом нет.
Через дверь, ведущую во второй огород, вышел старик с лопатой, закинутой на плечо. Увидев Мэри, он испугался от неожиданности, но потом вежливо приложил руку к шапке. У него было неприветливое старческое лицо, и, судя по всему, увидев Мэри, он вовсе не обрадовался, но ведь и ей не понравился его огород, и обычное для нее выражение лица «всё наперекор» свидетельствовало о том, что ей эта встреча отнюдь не доставляет удовольствия.
– Это что тут? – спросила она.
– Один из огородов, – ответил старик.
– А там? – Мэри указала на другую зеленую дверь.
– Еще один. – Сухо и коротко. – Есть еще один, по ту сторону стены, а с другой стороны – фруктовый сад.
– Я могу туда пройти? – спросила Мэри.
– Если хочешь. Но там нечего смотреть.
Мэри не удостоила его ответом. Прошагав вперед по дорожке, она вышла в другую дверь и там снова нашла стены, зимние овощи, стеклянные теплицы, но в дальней стене имелась еще одна дверь, и вот она-то была закрыта. Может, это она ведет в сад, где уже десять лет никто не бывал? Будучи девочкой отнюдь не робкой и имея привычку делать все, что хочется, Мэри подошла к двери и повернула ручку. Она надеялась, что дверь не откроется, так как хотела убедиться, что нашла тайный сад, но дверь легко открылась, Мэри прошла через нее и очутилась во фруктовом саду. Он тоже был окружен стеной, голые фруктовые деревья росли и вдоль нее, и вообще повсюду, поднимаясь из коричневой, побитой зимним холодом травы, но больше никакой зеленой двери нигде видно не было. Мэри поискала и, дойдя до дальнего конца сада, заметила, что стена там не кончается, а поворачивает, похоже, огораживая какое-то место. Остановившись, Мэри оглядела верхушки деревьев, поднимавшиеся над стеной, и увидела птицу с ярко-красной грудкой, сидящую на самой верхней ветке одного из них; внезапно птица залилась своей зимней песней – словно, увидев Мэри, звала ее.
Мэри замерла, заслушавшись, и каким-то образом бодрое дружелюбное птичье пение вызвало у нее приятное чувство – ведь даже маленькая девочка с тяжелым характером может ощущать себя одинокой, а этот большой дом с запертыми комнатами, эти обширные голые пустоши и этот большой голый сад заставили Мэри почувствовать себя так, словно на свете не осталось никого кроме нее. Будь она ласковым ребенком, привыкшим жить в любви, это разбило бы ей сердце, но даже такая, какой она была, «злючка Мэри-Всё-Наперекор» чувствовала себя брошенной, и маленькая красногрудая птичка вызвала на ее вечно угрюмом лице подобие улыбки. Мэри слушала пение, пока птичка не улетела. Она не походила на индийских птиц и понравилась Мэри. Вот бы увидеть ее снова! Может, эта птица живет в тайном саду и все о нем знает?
Вероятно, потому, что ей совсем нечего было делать, Мэри так много думала о таинственном саде. Ее разбирало любопытство, хотелось увидеть, как он выглядит. Зачем мистер Арчибальд Крейвен похоронил ключ? Если он так любил свою жену, почему так ненавидит ее сад? Мэри было интересно, увидит ли она когда-нибудь своего дядю, но она знала, что, если увидит, он ей не понравится, и она не понравится ему и будет стоять и смотреть на него молча, хотя ей до смерти захочется спросить, почему он так странно поступил.
«Меня никто никогда не любил, и я никогда никого не любила, – думала она. – И я никогда не смогу вести себя так, как дети Кроуфордов, – те всегда болтают, смеются и шумят.»
Мэри подумала о птичке, о том, как та словно бы пела специально для нее, и, представив себе верхушку дерева, на которой та сидела, вдруг остановилась посреди дорожки как вкопанная.
«Это дерево растет в секретном саду, я почти уверена, – мысленно произнесла она. – То место окружает стена, и в ней нет двери».
Мэри вернулась в первый огород и застала там старика, перекапывающего землю. Встав рядом, она несколько минут наблюдала за его работой со свойственной ей легкой надменностью. Поскольку он не обращал на нее никакого внимания, в конце концов пришлось ей самой заговорить с ним:
– Я прошлась по другому огороду, – сказала она.
– Это не возбраняется, – раздраженно ответил старик.
– И заходила во фруктовый сад.
– Сторожевых собак там, вроде, нет, покусать тебя было некому, – заметил он.
– Но в другой сад оттуда пройти нельзя – нет двери, – продолжила девочка.
– В какой такой другой сад? – резко спросил старик, перестав копать.
– В тот, что за стеной, – ответила госпожа Мэри. – Там растут деревья, я видела их верхушки. На одной из них сидела птица и пела.
К ее удивлению, выражение его угрюмого обветренного лица изменилось. По нему медленно расползлась улыбка, и садовник показался ей другим человеком. Это навело ее на мысль: насколько приятней выглядит человек, когда улыбается. Ей никогда раньше не приходило это в голову.
Садовник повернулся в ту сторону, где располагался фруктовый сад, и начал тихо и мелодично свистеть. Мэри не могла понять, как такой угрюмый человек может издавать столь чудесные звуки.
И почти тут же произошло нечто удивительное. Мэри услышала приближавшийся тихий шорох в воздухе – это к ним подлетала красногрудая птичка; она села на большой ком земли прямо у ног садовника.
– А вот и он, – усмехнулся садовник и заговорил с птицей, как с ребенком: – И где ж ты был, безуёмной бродяга-попрошайка? – сказал он. – Сколько уж я тебя не видал. Неужто женихаться начал? Вроде весна еще не пришла. Больно ты ранний.
Птичка склонила голову набок и кротко посмотрела на него блестящим глазом, напоминавшим черную каплю росы. Судя по всему, птаха была хорошо знакома с садовником и ничуть его не боялась. Потом она принялась прыгать и клювом бодро разбрасывать землю в поисках семян и насекомых. На сердце у Мэри потеплело от незнакомого чувства: птичка казалась такой хорошенькой, веселой и какой-то… человечной. У нее было крохотное округлое тельце, изящный клювик и тоненькие стройные ножки.
– Птенец всегда прилетает, когда вы его зовете? – едва ли не шепотом спросила она.
– Ага, завсегда. Я его знаю с тех пор, как он еще был почти неоперившимся. Попробовал вылететь из гнезда и очутился на соседнем огороде, а перелететь через стену обратно у него еще силенок не хватало, вот я его и выхаживал несколько дней, так мы подружились. А когда он смог перебраться через стену снова, оказалось, что выводок его улетел, он остался один и вернулся ко мне.
– А что это за птица? – спросила Мэри.
– А ты не знаешь? Это красногрудая малиновка, по-другому – робин, они самые ласковые и самые любопытные птицы на свете. Почти такие же ласковые, как собаки, – если знаешь, как с ними поладить. Он прилетает время от времени, прыгает здесь, клюет и зыркает на нас. Он и сейчас знает, что мы про него говорим.
Этот старик был самым странным человеком, какого Мэри когда-либо видела. Он смотрел на кругленькую птичку в красной жилетке так, словно любил ее и гордился ею.
– Он кичливый, – усмехнулся старик, – любит, когда про него речь. И любопытный – в жизни не видал таких любопытных и настырных. Всегда прилетает глянуть, что я сажаю. Знает все, до чего мистеру Роучу и дела нет. Если уж тут и есть главный садовник, так это он.
Пернатый «садовник» прыгал вокруг, деловито расклевывая землю, а время от времени останавливался и смотрел на них. Мэри казалось, что его черные глазки-росинки глядят на нее с большим любопытством. Похоже, он и впрямь хотел все о ней узнать. У Мэри еще больше потеплело на сердце, что было для нее очень непривычно.
– А куда улетел остальной выводок? – спросила она.
– Кто ж его знает? Родители выталкивают их из гнезда, заставляют махать крыльями, и они тут же разлетаются – глазом моргнуть не успеешь. Этот-то сметливый, враз докумекал, что остался один.
Мэри на шаг приблизилась к птице и пристально вгляделась в нее.
– Я тоже одна, – произнесла она.
До того момента она не сознавала, что именно этот факт и сделал ее угрюмой и вечно сердитой. Понимание пришло в тот момент, когда птица посмотрела на нее, а она посмотрела на птицу.
Старый садовник, сдвинув на затылок шапку со своей лысой головы, с минуту внимательно смотрел на нее.
– Видать, ты и есть та осталица из Индии? – спросил он.
Мэри кивнула.
– Тогда неудивительно, что ты одинёшенька. Только тут тебе лучше не станет, – сказал он и снова принялся копать, глубоко вонзая лопату в черную жирную землю. Птица продолжала деловито скакать поблизости.
– Как вас зовут? – поинтересовалась Мэри.
Он распрямился и ответил:
– Бен Уизерстафф. – А потом добавил с мрачным смешком: – Я и сам один – вот разве что он у меня есть. – Он ткнул пальцем в сторону робина. – Он – мой единственный свет в окошке.
– А у меня нет друзей, – сказала Мэри. – И никогда не было. Моя айя меня не любила, и я никогда ни с кем не играла.
У йоркширцев принято говорить что думаешь с откровенной прямотой, а Бен Уизерстафф был настоящим йоркширцем, всю жизнь прожившим на вересковых пустошах.
– Ну, тады мы с тобой два сапога пара, – сказал он. – Сделаны из одного теста. И лицом оба не вышли, и норовы у нас обоих – голову даю на отрез – поганые, под стать мрачному виду.
Такая прямота не была привычна Мэри Леннокс, ей никогда в жизни никто не говорил в глаза правду о ней самой. Слуги-туземцы только кланялись и повиновались, что бы она ни делала. А о своей внешности она особенно не задумывалась, но теперь ей стало интересно: действительно ли она так же непривлекательна, как Бен Уизерстафф, и на самом ли деле у нее такой же угрюмый вид, какой был у него до того, как прилетел его пернатый друг? Более того, ей стало интересно, правда ли, что у нее «поганый характер». Мэри почувствовала себя неуютно.
Внезапно позади нее раздался чистый журчащий звук. Она стояла в двух шагах от молодой яблони, а робин, взлетев на одну из ветвей, разразился короткой мелодичной трелью. Бен Уизерстафф от души рассмеялся.
– Зачем он это сделал? – спросила Мэри.
– Задумал подружиться с тобой, – ответил Бен. – Будь я проклят, если ты ему не приглянулась.
– Я? – удивилась Мэри. Она осторожно подошла к деревцу и запрокинула голову.
– Хочешь стать моим другом? – спросила она птицу так, будто разговаривала с человеком. – Хочешь? – И сказала она это не своим резким высоким голосом и не своим «индийским» повелительным тоном, а таким мягким, умоляющим и исполненным надежды, что Бен Уизерстафф удивился так же, как удивилась она, услышав, как он свистом подзывает птицу.
– Ого, – воскликнул Бен, – да ты, видать, можешь говорить ласково, по-людски, как будто ты и впрямь настоящий ребенок, а не сварливая старуха. Ты с ним разговариваешь, прям как Дикон со своими дикими животными на пустоши.
– Вы знаете Дикона? – Мэри стремительно повернулась к нему.
– Кто ж его не знает. Он везде шлёндрает. Его каждый куст и каждая ягода знают. Не сомневаюсь, что лисы спокойно показывают ему свои норы с лисятами и жаворонки не прячут своих гнезд.
Мэри хотелось задать еще несколько вопросов. Дикон возбуждал ее любопытство почти так же, как заброшенный сад. Но как раз в этот миг робин, закончив свою песню, вздрогнул крылышками, расправил их и улетел. Визит был окончен, его ждали другие дела.
– Он перелетел через стену! – воскликнула Мэри, провожая его взглядом. – А теперь через другую, во фруктовый сад! А теперь в тот сад, где нет двери!
– Он там живет, – сказал старик Бен. – Там он вылупился из яйца. Если он женихается, то обхаживает каку-нить мадаму малиновку, которая тож живет там в старом розовом дереве.
– Розовом дереве? Разве бывают розы, которые растут на деревьях?
Бен Уизерстафф снова взялся за лопату и продолжил копать.
– Десять лет назад были, – пробормотал он.
– Я бы хотела на них посмотреть, – сказала Мэри. – Где дверь, которая ведет в тот сад? Должна же где-то быть дверь.
Бен вонзил лопату глубоко в землю и стал таким же неприветливым, каким был в первый момент их встречи.
– Была десять лет назад, а тепере нетуть, – сказал он.
– Как это нет двери? – воскликнула Мэри. – Должна быть.
– Должна, да никому ее не найти. И не твоего ума это дело. Не будь настырной, не суй свой нос куда не след. Ладно, мне робить надо. Иди отсюдова, поиграй где-нить в другом месте. Нету у меня времени лясы точить с тобой.
Он выдернул лопату из земли, закинул ее на плечо и ушел, не взглянув на Мэри и даже не попрощавшись.
Глава V. Плач в коридоре
Поначалу каждый следующий день был для Мэри Леннокс точно таким же, как все остальные. Утром она просыпалась в своей устланной коврами комнате и видела Марту, стоящую на коленях у камина и разжигающую в нем огонь, потом завтракала в детской, где не было ничего интересного, потом смотрела в окно на необъятные пустоши, расстилающиеся во все стороны и, казалось, карабкающиеся в небо на горизонте; она понимала, что, если останется в доме, делать ей будет совершенно нечего, и выходила наружу. Девочка не знала, что это лучшее, что она могла сделать для себя: когда она быстро шла, а иногда и бежала по дорожкам и по подъездной аллее, кровь начинала быстрее циркулировать по ее жилам, и, сопротивляясь ветру, который дул из пустоши, она становилась сильней. Мэри бегала лишь для того, чтобы согреться, и ненавидела ветер, кидавшийся ей в лицо, ревевший и толкавший ее назад, словно какой-то невидимый великан, но, глубоко вдыхая порывистый свежий воздух, несшийся над вереском, она наполняла легкие чем-то полезным для своего худенького тела, и это придавало румянца ее щекам и блеска ее обычно тусклым глазам, хотя сама она и не отдавала себе в этом отчета.
Однако после нескольких дней, почти полностью проведенных вне дома, однажды утром она проснулась и поняла, что такое чувство голода. Сев завтракать, она не посмотрела на кашу с презрением и не отодвинула тарелку, как обычно, а взяла ложку, начала есть и не останавливалась, пока тарелка не опустела.
– Ого, вижу, сегодня ты отлично управилась, – сказала Марта.
– Каша сегодня вкусная, – ответила Мэри, сама себе немного удивляясь.
– Это все воздух пустоши, он нагоняет аппетит, – объяснила Марта. – На твое счастье, у тебя есть чем насытиться. У нас в доме двенадцать желудков с хорошим аппетитом, только заполнять их нечем. Вот будешь каждый день играть на воздухе – и мясца нагуляешь, и желтушность у тебя пройдет.
– Я там не играю, – сказала Мэри. – Там не с чем играть.
– Не с чем играть! – воскликнула Марта. – Да у нас дети и палки, и камни для игры приспосабливают. И просто гоняют, вопят и все вокруг разглядывают.
Мэри не вопила, но разглядывать разглядывала. Больше нечего было делать. Она раз за разом обходила огороды и дорожки в парке. Иногда ей хотелось повстречаться с Беном Уизерстаффом, но, хотя она и видела его несколько раз, он был слишком занят работой или чересчур неприветлив. Однажды, едва она направилась к нему, он нарочно поднял лопату и повернулся, как будто собираясь уйти.
Было место, куда она ходила чаще, чем в другие: длинная дорожка с внешней стороны стены, окружавшей сады и огороды. Вдоль нее тянулись оголенные сейчас цветочные бордюры, а сама стена густо заросла плющом. В одном месте темно-зеленый покров казался плотнее, чем везде, – как будто к нему давно никто не прикасался, – остальной плющ был аккуратно подстрижен, но здесь, в дальнем конце дорожки, выглядел так, словно его не стригли вообще никогда.
Это место Мэри заметила через несколько дней после разговора с Беном Уизерстаффом и, остановившись, задумалась: почему так? Она как раз стояла в раздумье и смотрела вверх, на длинный побег плюща, который трепал ветер, когда алый всполох промелькнул в воздухе, она услышала звонкий щебет и на верху стены увидела робина – красногрудого друга Бена Уизерстаффа, он сидел, свесившись вниз, склонив головку набок, и разглядывал ее.
– Ой, это ты! – воскликнула Мэри. – Это ты? – И ее вовсе не удивило, что она разговаривает с ним так, словно уверена, что он ее понимает и отвечает ей.
Он действительно отвечал: щебетал и чирикал, прыгая по стене, как будто что-то рассказывал. И госпоже Мэри показалось, что она понимает его без слов, как если бы он сказал: «Доброе утро! Чудесный ветер, правда? Чудесное солнце. Все чудесно, правда? Давай вместе почирикаем и попрыгаем. Ну, давай! Давай!»
Мэри начала смеяться и побежала за ним, скакавшим по стене и время от времени перелетавшим с места на место. Бледная, худенькая, низкорослая и некрасивая Мэри выглядела в этот миг почти миленькой.
– Ты такой хороший! Такой хороший! – кричала она, топая по дорожке и пытаясь чирикать и свистеть на ходу, хотя совсем не умела этого делать. Но робин, похоже, был вполне доволен и отвечал ей таким же чириканьем и свистом. Наконец, расправив крылышки, он стрелой взлетел на вершину дерева, уселся там и громко запел.
Это напомнило Мэри их первую встречу. Он раскачивался тогда на ветке, а она стояла под деревом. Теперь она вышла сюда другой дорогой, но дерево явно было тем же самым.
«Там за стеной сад, в который никто не может войти, – мысленно сказала Мэри. – Сад без дверей. Робин там живет. Как бы мне хотелось увидеть этот сад!»
Она побежала по дорожке до зеленой двери, через которую вошла в то первое утро, и дальше – до следующей двери, во второй огород, потом – во фруктовый сад. Подняв голову, она увидела верхушку дерева, росшего по другую сторону поперечной стены, и сидевшего на ней робина, который, закончив петь, принялся клювом чистить перышки.
– Это тот самый сад, – сказала она. – Я уверена, что это он.
Мэри пошла вдоль стены, тщательно осматривая ее, но обнаружила лишь то же, что и прежде: двери в ней не было. Она промчалась назад через огороды, выбежала на внешнюю дорожку и снова двинулась вдоль длинной, увитой плющом стены в самый дальний конец, внимательно присматриваясь, но никакой двери не находилось. Тогда она отправилась в противоположный конец, снова внимательно вглядываясь, но и тут двери не оказалось.
– Это очень странно, – сказала она. – Бен Уизерстафф говорил, что двери нет, и ее действительно нет. Но ведь была же она десять лет назад, иначе что за ключ похоронил мистер Крейвен?
Это так занимало все ее мысли и становилось так интересно, что она уже ничуть не жалела о своем приезде в Мисслтуэйт-Мэнор. B Индии всегда было жарко, и Мэри чувствовала себя слишком вялой, чтобы чем-то интересоваться. Следовало признать, что свежий ветер с пустоши начал сдувать паутину с ее юных мозгов и немного взбодрил ее.
Мэри провела на воздухе весь день, и вечером, когда села ужинать, была голодной, сонной и довольной. Она вовсе не сердилась на Марту за то, что та болтала без умолку. Девочке даже нравилось слушать ее, и в конце концов она решила задать вопрос. Покончив с ужином, Мэри уселась на коврик перед камином и спросила:
– А почему мистер Крейвен ненавидит тот сад?
Она попросила Марту задержаться, и горничная ничего не имела против. Девушка была очень молода и привыкла к шумному дому, полному братьев и сестер, поэтому скучала в большой комнате для прислуги внизу, где лакей и старшие горничные насмехались над ней из-за ее йоркширского говора, считали ее деревенщиной и шептались только друг с другом. А Марта любила поговорить, и странная девочка, жившая в Индии и привыкшая к тому, что ее обслуживали «черные», была в новинку и привлекала ее.
Не дожидаясь приглашения, она тоже уселась перед камином.
– Ты никак не можешь позабыть тот сад? – сказала она. – Я так и знала. Со мной творилось то же самое, когда я впервые про него услыхала.
– Так почему он его ненавидит? – повторила свой вопрос Мэри.
Поджав под себя ноги, Марта уселась поудобней.
– Слышь, как ветер уландает вокруг дома? – сказала она. – Ты б вряд ли на ногах устояла, окажись сегодня ночью на пустоши.
Мэри не знала, что значит «уландает», пока не прислушалась. Должно быть, так Марта называла тот глухой, вызывающий содрогание рев, который носился и носился вокруг дома, словно какой-то никому не видимый великан бился в его стены и окна, желая ворваться внутрь. Но поскольку было ясно, что сделать это ему не удастся, Мэри чувствовала себя в тепле и безопасности, сидя в комнате, где жарко горел камин.
– Так почему все же он так его ненавидит? – перестав прислушиваться к ветру, повторила она, твердо вознамерившись получить от Марты ответ, если та его знает.
Наконец Марта сдалась.
– Только имей в виду, – сказала она, – что миссис Медлок не велела болтать про это. В этом доме полно такого, про что нельзя болтать. Так приказал местер Крейвен. Он говорит, что заботы прислуги его не касаются. Если б не тот сад, он не стал бы таким, какой он теперь. Это был сад миссус Крейвен, она сама его устроила, как только они поженились. Она его обожала, и они вдвоем, бывало, растили там цветы, а никому из садовников и носа казать не разрешалось. Заходили они туда вдвоем, закрывали дверь и проводили там много часов – читали и разговаривали. Она-то совсем еще девочкой была. И росло в том саду старое дерево. Одна ветка на нем изогнулась, прямо как кресло. Миссус Крейвен посадила розы так, что они обвивали ее, и любила на ней сидеть. Но один раз, когда она на ней сидела, ветка обломилась, миссус Крейвен упала на землю да так повредилась, что невдóлги померла. Врачи думали, что хозяин сойдет с ума и сам умрет. Вот почему он так ненавидит тот сад. С тех пор никто туда не входил, и он запрещает всем даже говорить про него.
Больше Мэри вопросов не задавала. Она сидела, глядя на полыхающий огонь, прислушивалась к тому, как «уландает» ветер, и ей казалось, что «уландал» он теперь громче, чем прежде.
В этот момент с ней происходило нечто замечательное. Четыре хороших события случились в ее жизни с тех пор, как она приехала в Мисслтуэйт-Мэнор: она почувствовала, что понимает робина и он понимает ее; бегая на ветру, разогнала в себе кровь, и та стала горячей; впервые в жизни испытала чувство здорового голода и вот теперь обнаружила, что значит почувствовать жалость к другому человеку. Мэри выздоравливала.
Но, прислушиваясь к ветру, она вдруг стала различать и какой-то другой звук. Она не понимала, что это, потому что поначалу почти не выделяла его из шума ветра. Звук был странным – как будто где-то плакал ребенок, а ветер и сам иногда выл, как ребенок, но в конце концов госпоже Мэри стало ясно, что звук идет изнутри дома, а не снаружи. Издалека, но изнутри. Она повернулась к Марте.
– Слышишь? Как будто кто-то плачет, – сказала она.
Марта вдруг смутилась.
– Нет, – ответила она. – Это ветер. Иногда он воет так, будто кто-то заблудился на пустоши и плачет. Ветер вообще по-разному может завывать.
– Да ты прислушайся, – настаивала Мэри. – Это здесь, в доме, в конце одного из тех длинных коридоров.
В этот момент где-то внизу как будто открылась дверь, потому что сильно потянуло сквозняком, и дверь комнаты, в которой они сидели, с треском распахнулась. Обе они от испуга вскочили на ноги, порывом воздуха задуло свечи, и плач донесся до них из дальнего коридора отчетливей, чем прежде.
– Вот! – воскликнула Мэри. – Я же тебе говорила! Кто-то плачет. И это не взрослый человек.
Марта бросилась к двери, прикрыла ее и заперла на ключ, но прежде чем она это сделала, они обе услышали звук со стуком захлопнувшейся где-то в конце коридора другой двери, после чего наступила полная тишина, даже ветер на несколько мгновений перестал «уландать».
– Это был ветер, – упрямо повторила Марта. – А если не он, так крошка Бетти Баттеруорт, судомойка. У нее сегодня весь день зуб болел.
Но Мэри почувствовала тревогу и неловкость в ее словах и очень пристально взглянула на нее. Она не поверила Марте.
Глава VI. «Там кто-то плакал… плакал!»
На следующий день на землю обрушился шквальный ливень, и когда Мэри выглянула в окно, пустошь была почти скрыта за пеленой серого тумана и облаков. О том, чтобы выйти на прогулку, не могло быть и речи.
– Что вы делаете дома, когда идет такой дождь? – спросила она у Марты.
– Главное – стараемся не путаться друг у друга под ногами, – ответила та. – Нас сразу становится так много! У нашей матеньки добрый нрав, но даже она не выдерживает. Старшие уходят в хлев и там играют. Дикону, тому мокрядь нипочем. Он все одно выходит, как будто там солнце светит. Говорит, что в дождь видит все таким, каким оно не бывает в хорошую погоду. Раз в сильный ливень нашел лисьего щенка, почти утонувшего в своей норе, и притащил его домой за пазухой, чтоб тот не замерз. Лисицу-мать застрелили поблизости, нору затопило, и весь остальной помет утонул. Теперь лисенок у нас живет. А в другой раз нашел почти потонувшего ворона и приручил. Его зовут Сажа, такой он черный, и он везде прыгает и летает за Диконом.
Прошло то время, когда Мэри возмущала непринужденная болтовня Марты. Она даже стала находить ее занятной и жалела, когда Марта замолкала или уходила. Истории, которые рассказывала ей айя, когда она жила в Индии, были совершенно непохожи на Мартины истории о доме среди пустоши, вмещающем четырнадцать человек, живущих в четырех маленьких комнатах и никогда не наедавшихся досыта. Дети, судя по всему, толклись в нем и сами себя занимали, как выводок добродушных щенков колли. Больше всего Мэри интересовали мать и Дикон. Когда Марта рассказывала о том, что сказала или сделала «матенька», это всегда действовало успокаивающе.
– Если бы у меня был ворон или лисенок, я бы могла с ним играть, – сказала Мэри. – Но у меня никого нет.
Марта посмотрела на нее растерянно.
– Ты вязать умеешь? – спросила она.
– Нет, – ответила Мэри.
– А шить?
– Нет.
– А читать?
– Это умею.
– Тогда почему бы тебе что-нибудь не почитать? Или не поучиться немного письму? Ты уже достаточно большая, чтобы самой учиться по книжкам.
– Нет у меня никаких книг, – ответила Мэри. – Те, что были, остались в Индии.
– Жалко, – сказала Марта. – Если б миссис Медлок разрешила тебе пойти в библиотеку, там этих книжек навалом.
Мэри не спросила, где находится библиотека, потому что внезапно ей в голову пришла новая идея. Она решила, что сама найдет ее. Насчет миссис Медлок она не беспокоилась – та всегда сидела внизу, в своей удобной гостиной. В этом странном доме люди вообще редко встречались друг с другом. Собственно, и встречаться-то было не с кем, кроме слуг, а когда хозяин отсутствовал, те вольготно проводили время внизу, в огромной кухне, увешанной сверкающей медной и оловянной посудой, и в просторной людской, где ежедневно по четыре-пять раз обильно трапезничали и устраивали себе шумные развлечения, если миссис Медлок не было поблизости.
Мэри кормили исправно, по расписанию, и Марта прислуживала ей за столом, но никому не было до нее никакого дела. Миссис Медлок наведывалась к ней каждый день или раз в два дня, но никто не интересовался, чем она занимается, и не говорил ей, что делать. Она предполагала, что в Англии именно так принято обращаться с детьми. В Индии айя находилась при ней неотлучно, следовала за ней повсюду и служила ей верой и правдой. Ее присутствие зачастую даже утомляло Мэри. Теперь никто за ней не ходил, и она училась одеваться сама, потому что, если она желала, чтобы Марта подавала ей вещи или помогала их надевать, та смотрела на нее, как на дурочку-неумеху.
– Ты в своем уме? – сказала она ей однажды, когда Мэри стояла и ждала, чтобы Марта надела ей перчатки. – Наша Сьюзен-Энн вдвое сообразительней тебя, хотя ей всего четыре года. Иногда кажется, что у тебя мозги набекрень.
После этого Мэри целый час хранила недовольную мину, но это заставило ее взглянуть на некоторые вещи по-новому.
Тем утром, после того как Марта последний раз раздула угли в камине и ушла вниз, она, минут десять глядя в окно, размышляла над новой идеей, которая пришла ей в голову, когда она услышала о библиотеке. Сама по себе библиотека не очень ее интересовала, потому что она не была большой любительницей чтения, но упоминание о ней снова навело ее на мысль о сотне комнат, запертых на ключ. Интересно, действительно ли они заперты и что она обнаружит, если ей удастся проникнуть в какую-нибудь из них? Неужели их действительно сто? Почему бы ей не пройтись и не проверить, сколько дверей она насчитает? В такой день, когда на улицу не выйдешь из-за дождя, это будет каким-никаким занятием. Ее никогда не учили спрашивать разрешения что-либо сделать, и для нее не существовало никаких авторитетов, поэтому ей бы и в голову не пришло спросить у миссис Медлок, можно ли походить по дому, даже если бы она с ней встретилась.
Открыв дверь, Мэри вышла в коридор и пустилась в странствие. От этого длинного коридора отходило много других, в конце концов он привел ее к короткому лестничному маршу; поднявшись по ступенькам, девочка очутилась в еще одном коридоре, тоже заканчивавшемся лесенкой. И повсюду – двери, двери, двери… А на стенах – картины. На некоторых были изображены темные странные пейзажи, но чаще всего встречались портреты мужчин и женщин в причудливых величественных костюмах из шелка и бархата. В одной галерее все стены занимали такие портреты. Мэри и представить себе не могла, что в доме их может быть так много. Медленно двигаясь вдоль этой галереи, она разглядывала лица, которые как будто тоже глазели на нее. Ей казалось, что все эти люди недоумевали: что делает в их доме маленькая девочка из Индии? На некоторых портретах были изображены дети – маленькие девочки в пышных шелковых платьях, доходивших до пола и колоколом стоявших на своих кринолинах, и мальчики с длинными волосами, в костюмах с рукавами-буфами, кружевными воротниками или нарядными рюшами вокруг шеи. У детских портретов она всегда задерживалась, ей доставляло удовольствие гадать, как звали этих детей, куда они подевались и почему так странно одеты. Была среди них одна чопорная некрасивая девочка, чем-то похожая на нее. Одетая в зеленое парчовое платье, на пальце она держала зеленого попугая, а в ее остром взгляде сквозило любопытство.
– Где ты теперь? – вслух обратилась к ней Мэри. – Вот бы ты оказалась здесь.
Наверняка ни одной другой девочке не доводилось так странно проводить утро. Казалось, что во всем этом необъятном замысловато построенном доме нет никого, кроме нее самой, маленькой девочки, бродящей вверх-вниз по лестницам, по широким и узким коридорам, по которым, как ей казалось, до нее никто не ходил. Раз в доме столько комнат, кто-то должен был когда-то в них жить, но кругом царила такая пустота, что в это не верилось.
Только поднявшись на второй этаж, Мэри попробовала поворачивать дверные ручки. Все двери оказались заперты, как и говорила миссис Медлок, но после многих безуспешных попыток одна из них поддалась. В первый момент Мэри даже испугалась, почувствовав, что ручка поворачивается без труда, а когда она толкнула саму дверь, та медленно и тяжело отворилась. Массивная дверь вела в просторную спальню. Ее стены были украшены расшитыми драпировками, повсюду стояла инкрустированная мебель, какую она видела в Индии. Широкое окно с освинцованными стеклянными панелями выходило на пустошь, а над каминной полкой висел еще один портрет той самой чопорной некрасивой девочки, которая смотрела на Мэри с еще большим любопытством.
«Может, она когда-то спала здесь? – подумала Мэри. – Она на меня так смотрит, что делается не по себе».
После этого Мэри открывала другие двери, еще и еще, насмотрелась на такое количество комнат, что даже устала, и, хотя не считала их, начала верить, что их действительно сто. Во всех висели старинные портреты или ковры, на которых были вытканы чудные сцены. Почти в каждой она находила необычные предметы мебели и диковенные орнаменты.
В одной комнате, которая выглядела, как дамская гостиная, висели портьеры из вышитого бархата, а в застекленном шкафу стояло около сотни маленьких слонов из слоновой кости. Они различались по размеру, у некоторых на спинах высились паланкины и сидели погонщики. Были довольно большие слоны и совсем маленькие, которые казались слонятами. Мэри видела резные фигурки из слоновой кости в Индии и знала о слонах все. Открыв шкаф, она встала на ножную скамеечку и довольно долго играла со слониками, пока ей в голову не стукнуло, что она ушла далеко от собственной комнаты и точно не знает, где находится.
– Боюсь, я опять повернула не туда, – сказала она, остановившись в конце короткого коридора с ковром на стене, – и теперь не знаю, куда идти. Как тут тихо!
Как только она это произнесла, тишину нарушил какой-то звук. Он походил на плач, но не совсем такой, как тот, что она слышала накануне вечером; это было капризное детское нытье, которое скрадывали стены.
– Сейчас он ближе, чем вчера, – сказала Мэри, сердце ее учащенно забилось. – И это действительно плач.
Она случайно оперлась о ковер, возле которого стояла, и отскочила в испуге назад: ковер прикрывал дверь, та открылась от ее прикосновения, и Мэри увидела за ней еще один коридор, по которому шла миссис Медлок со связкой ключей в руке, вид у нее был очень сердитый.
– Ты что тут делаешь? – грозно спросила она и, схватив Мэри за руку, потащила ее прочь. – Что я тебе говорила?
– Я свернула не за тот угол, – объяснила Мэри. – Не знала, куда идти, и услышала чей-то плач.
В этот момент она почти ненавидела миссис Медлок, но в следующий возненавидела ее еще больше.
– Ничего подобного ты не слышала, – заявила экономка. – Сейчас же отправляйся в свою детскую, или я надеру тебе уши.
Продолжая держать девочку за руку, она потащила ее, подталкивая, по одному коридору, затем по другому и втолкнула в детскую.
– А теперь сиди там, где тебе велено сидеть, иначе я тебя запру. Лучше бы хозяин нанял тебе гувернантку, как собирался. За тобой нужен глаз да глаз. У меня других забот полон рот.
Она вышла, громко хлопнув дверью, а Мэри, побледнев от гнева, подошла к камину и уселась на коврик. Она не плакала, она скрежетала зубами.
– Там кто-то плакал…плакал…плакал! – повторяла девочка.
Она дважды слышала его и твердо вознамерилась все выяснить. Этим утром она уже много выяснила. Ей казалось, что она совершила долгое путешествие, по крайней мере, было чем занять себя: она поиграла со слониками и увидела серую мышь с ее выводком в гнезде, устроенном в бархатной подушке.
Глава VII. Ключ от сада
Два дня спустя Мэри, открыв глаза, тут же села в постели и окликнула Марту:
– Посмотри на пустошь! Посмотри на пустошь!
Ночью ливень прекратился, ветер разогнал серый туман и облака и сам стих – сверкающее темно-синее небо высокой аркой накрывало пустошь. Никогда, никогда в жизни Мэри даже во сне не видела такого синего неба. В Индии небо было раскаленным и резало глаз, а прохладная синева этого неба искрилась, как вода прекрасного бездонного озера, и далеко-далеко вверху под куполом его синевы плыли маленькие облачка, напоминающие белоснежное овечье руно. Далеко расстилавшийся простор самой пустоши был уже не мрачным фиолетово-черным и не тоскливо-серым, а нежно-голубым.
– Знамо! – с радостной улыбкой ответила Марта. – Ураган стих покуда. В это время года тут завсегда так. В одну ночь от него и следа не остается, как будто и не было его, и он не собирается возвращаться. Это потому что скоро весна. До нее еще далеко, но она уже идет.
– А я думала, что в Англии всегда дождь и пасмурно, – сказала Мэри.
– Да ты чо! Не-а! – заверила ее Марта, усевшись на пятки посреди своих разбросанных щеток и кистей. – Да ни сродясь!
– Что это значит? – серьезно спросила Мэри. В Индии туземные слуги говорили на разных диалектах, иные из которых порой понимало всего несколько человек, поэтому она не удивлялась, когда Марта употребляла слова, ей неизвестные.
Марта рассмеялась так, как в то, первое утро, и ответила:
– Эва, опять я забалакала по-йоркширски, как не велит миссис Медлок. «Да ни сродясь» значит «да ничего подобного, никогда в жизни», только это проговаривать больно долго. Йоркшир – самое солнечное место на земле, когда солнце светит. Я ж тебе говорила, что пустошь тебе понравится, когда чуток пообвыкнешь. А вот погоди чо будет, когда золотой дрок да ракитник, да вереск зацветут! Везде лиловые колокольцы и тьма-тьмущая бабочек порхает, и пчелы жужжат, и жаворонки летают и заливаются. Как пить дать тебе захочется бежать туда на рассвете и целый день там околачиваться – как нашему Дикону.
– Доберусь ли я туда когда-нибудь? – мечтательно сказала Мэри, глядя в окно на голубую даль. Вид был таким новым для нее, таким необозримым и чудесным, раскрашенным в такие божественные цвета!
– Уж не знаю, – ответила Марта. – По моему разумению, так ты ногами не работала с самого рождения. Так пять миль не пройдешь. А дотуда, как до нашего дома – аккурат пять миль.
– Я хотела бы посмотреть на ваш дом.
Марта с любопытством взглянула на нее, потом вернулась к своим щеткам и кистям и снова принялась драить каминную решетку. Она отметила, что маленькое некрасивое личико девочки уже не такое кислое, как в то утро, когда она увидела его впервые. Оно чуть-чуть напоминало ей лицо сестренки Сьюзен-Энн, когда той чего-нибудь до смерти хочется.
– Я спрошу у мамы, – сказала она. – Мама почти всегда знает, как все устроить. У меня выходной сегодня, пойду домой. Ох! Я так рада. Миссис Медлок высоко ставит мою маму. Может, маме удастся ее уговорить.
– Мне нравится твоя мама, – сказала Мэри.
– Она не может не понравиться, – согласилась Марта, не переставая работать.
– Хоть я ее никогда не видела, – добавила Мэри.
– Ну да, не видела, – ответила Марта. Она снова села на пятки, озадаченно потерла кончик носа тыльной стороной ладони, но закончила уверенно: – Знаешь, она такая добрая, такая работящая и чистоплотная, что ее нельзя не полюбить, видел ты ее или нет. Я когда иду домой в выходной день и перехожу через пустошь, мне прямо скакать от радости хочется.
– И Дикон мне нравится, – сказала Мэри. – Хотя его я тоже никогда не видела.
– Ну, – спокойно ответила Марта, – я ж тебе говорила, что его и птицы любят, и кролики, и дикие овцы, и даже лисы. Интересно, – она задумчиво посмотрела на Мэри, – что Дикон подумает о тебе?
– Я ему не понравлюсь, – предположила Мэри в своей чопорной холодной манере. – Я никому не нравлюсь.
Марта снова задумчиво посмотрела на нее.
– А сама-то ты себе нравишься? – поинтересовалась она так, словно действительно хотела это узнать.
Мэри замялась и, поразмыслив, ответила:
– Ничуть. Правда. Но я об этом никогда прежде не задумывалась.
Марта усмехнулась, словно ей пришло на ум какое-то домашнее воспоминание.
– Однажды матенька мне кое-что сказала. Она стирала белье в лохани, а у меня было смурное настроение, и я плохо говорила про всех подряд. Тогда она повернулась ко мне и сказала: «Ты прям как маленькая ведьмочка! Стоишь тут и ворчишь: этот тебе не нравится, тот не нравится. А сама ты себе нравишься?» Я рассмеялась, и это меня вмиг растормошило.
Накормив Мэри завтраком, она удалилась в хорошем настроении. Ей предстояло пройти пять миль через пустошь до своего дома, помочь своей маме со стиркой, потом напечь хлеба на целую неделю, но она собиралась получить от всего этого удовольствие.
Зная, что Марты нет в доме, Мэри чувствовала себя еще более одинокой. Она поскорее собралась, вышла в сад и первым делом десять раз обежала цветник вокруг фонтана, добросовестно считая круги. Закончив пробежку, она почувствовала себя гораздо лучше. В солнечном свете вся окрестность выглядела по-другому. Высокое синее небо выгибалось аркой над Мисслтуэйт-Мэнором так же, как над пустошью. Запрокинув голову, Мэри пыталась представить, каково было бы лежать на одном из маленьких белоснежных облаков и плыть по небу. Отправившись в первый огород, она застала работавших там Бена Уизерстаффа и еще двух садовников. Перемена погоды, похоже, оказала на Бена благотворное влияние. Он по собственной инициативе заговорил с ней.
– Весна на подходе. Чуешь, как ею запахло? – спросил он.
Мэри глубоко вдохнула и действительно что-то учуяла.
– Пахнет чем-то приятным – свежим и влажным, – сказала она.
– Это добрая жирная земля, – ответил он, продолжая копать. – У ней хорошее настроение, она готовится дать жизни растеньям. Она завсегда возвеселяется, ковды настает время посадок. А зимой, ковды ей неча делать, горюнится. Тамотка, в цветочном саду, в глубине земли семена уже прочкнуться готовы. Солнце их согревает. Невдо́лги увидишь, как из черной земли острые зеленые ростки проклюнутся.
– А что это будут за цветы? – спросила Мэри.
– Крокусы, подснежники, желтые нарциссы. Видала их когда-нить?
– Нет, – ответила Мэри. – В Индии после дождей сразу становится жарко, влажно, и все вокруг зеленое. Я думала, что растения вырастают за одну ночь.
– Энти за ночь не вырастают, – сказал Уизерстафф. – Придется тебе подождать. Они потихоньку становятся чуть выше тут, выбрасывают новый побег там, сегодня один листок развернется, завтра другой. Ты понаблюдай.
– Обязательно, – ответила Мэри.
Вскоре она услышала тихий шорох крыльев и сразу поняла, что робин прилетел снова. Он был очень бойкий, жизнерадостный, прыгал совсем рядом с ее ногами, склонял головку набок и так хитро поглядывал на нее, что Мэри спросила Бена Уизерстаффа:
– Думаете, он меня узнал?
– Узнал ли он тебя? – возмущенно воскликнул садовник. – Да он помнит каждую капустную кочерыжку на огороде, чо уж говорить о людях. Он отродясь не видал тут девчонки, так что желает все о тебе разведать. И от него ажно[4] не пытайся ничо скрыть.
– А в том саду, где он живет, растения тоже под землей просыпаются? – поинтересовалась Мэри.
– В каком саду? – проворчал Уизерстафф и снова сделался угрюмым.
– В том, где растут старые розовые деревья. – Мэри так хотелось узнать что-нибудь о том саде, что она не сдержалась и все-таки задала вопрос. – Там все цветы умерли или некоторые из них оживут летом? А розы там еще есть?
– У него спроси. – Бен дернул плечом в сторону робина. – Это знает только он. Никто другой в тот сад не заглядывал уже десять лет.
Десять лет – это долго, подумала Мэри. Десять лет назад она родилась.
Продолжая размышлять, она медленно направилась прочь. Этот сад начинал ей нравиться так же, как начинали нравиться робин, и Дикон, и мама Марты. И Марта ей тоже начинала нравиться. Оказывается, людей, которые могут нравиться, очень много – особенно, если ты не привык испытывать симпатию к кому бы то ни было. В число людей Мэри, не задумываясь, включила и робина. Она вышла на дорожку, окружавшую увитую плющом стену, над которой виднелись верхушки деревьев, и, когда проходила по ней второй раз, случилось нечто в высшей степени интересное и волнующее – и все благодаря робину.
Услышав чириканье, Мэри взглянула на голый цветочный бордюр слева от себя и увидела прыгавшего по нему робина, который притворялся, будто выклевывает что-то из земли, чтобы она не заподозрила, что он за ней следит. Но она поняла, что именно это он и делает, и ее охватил такой восторг, что она даже задрожала.
– Так ты меня помнишь! – воскликнула она. – Помнишь! Ты – самое милое существо на свете!
Она стала чирикать, говорить с ним, приманивать, а он скакал, кокетливо махал хвостиком и щебетал. Создавалось впечатление, что он с ней разговаривает. Его красная жилетка казалась шелковой, он раздувал грудку и выглядел таким красивым, таким великолепным и таким милым, что и впрямь казалось, будто он демонстрирует ей, каким важным и похожим на человека может быть робин. Госпожа Мэри напрочь забыла о том, что еще недавно была капризной и несговорчивой, когда он позволил ей подойти ближе, потом еще ближе, наклониться и попытаться «заговорить» с ним на его языке.
О, подумать только, что он позволил ей так к себе приблизиться! Он знал, что ни за что на свете она не протянет к нему руку и никоим образом не напугает его. Он знал это, потому что был совсем как человек, только милее любого человека. Мэри чувствовала себя такой счастливой, что едва дышала.
Цветочный бордюр оказался не совсем голым. На нем не осталось цветов, потому что многолетние растения срéзали на зиму, чтобы дать им отдых, но за бордюром росли смыкающиеся высокие и низкие кустики; робин прыгал под ними, и Мэри увидела, как он вскочил на маленькую кучку свежевырытой земли, остановился и стал искать червячка. Землю разрыли довольно глубоко – видимо, собака пыталась откопать крота.
Мэри заглянула в ямку, не зная, откуда она тут взялась, и увидела, что в глубине ее что-то поблескивает. Это было нечто вроде ржавого железного или медного колечка, и, когда робин взлетел на ближайшее дерево, она протянула руку и подняла железку. Однако это оказалось не просто колечко: на нем висел старый ключ, который, судя по всему, пролежал в земле очень долго.
Госпожа Мэри распрямилась и стала разглядывать его почти с испугом.
– Может, это его закопали десять лет назад? – шепотом сказала она. – Может, это и есть ключ от того самого сада?!
Глава VIII. Робин показывает дорогу
Она довольно долго разглядывала ключ, вертела его так и эдак и размышляла. Как уже говорилось, Мэри не учили спрашивать разрешения или советоваться о чем-нибудь со взрослыми. Она думала лишь о том, что, если это действительно ключ от запертого сада и ей удастся найти дверь, вероятно, она сможет открыть ее и увидеть, что там, за стеной и что случилось со старым розовым деревом. Именно потому, что сад был так долго недоступен, ей хотелось увидеть его. Наверняка он не такой, как другие сады, за десять лет в нем, должно быть, произошло что-нибудь необычное. А кроме того, если ей там понравится, она сможет ходить туда каждый день, запирать за собой дверь, придумает какую-нибудь игру, чтобы играть в нее сама с собой, потому что никто никогда не узнает, где она, все будут считать, что дверь по-прежнему заперта и ключ зарыт в землю. Эта идея ей очень понравилась.
Жизнь, какую она вела – в полном одиночестве, в доме с сотней загадочных запертых комнат, – и отсутствие занятий, которые могли бы ее развлечь, расшевелили ее пассивный до той поры мозг и заставили работать воображение. Не приходилось сомневаться, что свежий, бодрящий чистый воздух пустошей сыграл в этом большую роль. Так же, как он пробудил в ней аппетит, так же как бег против ветра разогнал ее кровь, так же все это вместе взятое всколыхнуло мысли. В Индии всегда стояла жара, Мэри была слишком вялой и слабой, чтобы вообще о чем-то думать, но здесь она начала размышлять, и ей захотелось делать что-нибудь новое. А еще она стала не такой «наперекор», как прежде, хотя сама не знала почему.
Спрятав ключ в карман, она принялась ходить по дорожке взад-вперед. Судя по всему, никто, кроме нее, сюда не заглядывал, поэтому она могла идти медленно, внимательно всматриваясь в стену, а точнее, в оплетавший ее плющ. Этот плющ сильно усложнял дело. Как пристально она его ни изучала, ничего, кроме гущи блестящих темно-зеленых листьев, видно не было. Это очень расстраивало Мэри. Она даже почувствовала, что к ней отчасти возвращается ее капризность. В который уж раз проходя по дорожке и видя верхушки деревьев над стеной, она говорила себе: как глупо быть так близко и не иметь возможности проникнуть внутрь. Она вернулась домой с ключом в кармане и решила, что всегда будет носить его с собой, выходя на прогулку, чтобы быть наготове, если когда-нибудь ей все же повстречается заветная дверь.
Миссис Медлок позволила Марте переночевать дома, но велела утром быть на работе с румянцем во всю щеку и в наилучшем настроении.
– Я встала в четыре часа утра, – рассказывала Марта. – Ох, как же расчудесно в пустоши на рассвете: птицы просыпаются, кролики шныряют туда-сюда. И не пришлось всю дорогу топать на своих двоих: какой-то человек подвез меня на телеге. Ой, я прям балдела от удовольствия!
Истории о том, как она провела выходной, так и сыпались из нее. Мама была очень рада ее видеть, и они перестирали все что можно и напекли хлеба, и Марта даже испекла каждому из своих сестер и братьев по пирожку с начинкой из коричневого сахара.
– Они были с пылу с жару, когда ребята прибежали с пустоши, где играли. И в доме так приятно пахло пирогами, и огонь в очаге хорошо горел – они аж завопили от радости. А Дикон сказал, что в таком доме, как наш, сам король мог бы жить.
Вечером они все расселись вокруг очага, Марта и ее мама ставили заплатки на порванную одежду и штопали чулки, и Марта рассказывала им о девочке, которая приехала из Индии и которой там всю жизнь прислуживали те, кого Марта называла «черными», и поэтому девочка не умела сама даже чулки надевать.
– Знаешь, им понравилось про тебя слушать, – сказала Марта. – Они хотели узнать все про черных и про корабль, на котором ты приплыла. Я всего и не знала, про что они спрашивали.
Мэри немного подумала.
– До твоего следующего выходного, – сказала она, – я расскажу тебе много нового, чтобы тебе было о чем им поведать. Думаю, им будет интересно узнать, как ездят на слонах и верблюдах, и о том, как офицеры охотятся на тигров.
– Господи помилуй! – с восторгом воскликнула Марта. – Да у них бóшки снесет. А что, они и вправду это делают, мисс? Это ж будет почище зверинца, который, говорят, один раз привозили в Йорк.
– Индия совсем не похожа на Йоркшир, – медленно, в раздумье произнесла Мэри. – Я никогда об этом не думала. А Дикону и твоей маме тоже было интересно, когда ты про меня рассказывала?
– Еще как! У нашего Дикона прям чуть глаза на лоб не повылазили, такие они стали круглые, – ответила Марта. – А мама, та ужасно расстроилась из-за того, что ты живешь сама по себе. Она так и сказала: «Неужели мистер Крейвен не нанял для нее ни гувернантку, ни няню?» А я ответила: «Не-а, не нанял, хотя миссис Медлок говорит, что наймет, если вспомнит, только он может не вспомнить про это еще два или три года».
– Не нужна мне никакая гувернантка! – резко вставила Мэри.
– Но мама говорит, что в твоем возрасте уже надо учиться по книжкам и что должна быть женщина, которая присматривала бы за тобой, и еще она сказала: «Вот представь себе, Марта, как бы ты себя чувствовала в таком огромном доме, без мамы, совсем одна. Ты уж постарайся ее подбадривать». Я обещала.
Мэри посмотрела на нее долгим серьезным взглядом.
– А ты меня и подбадриваешь, – сказала она. – Я люблю слушать твои рассказы.
Под конец Марта вышла из комнаты и вскоре вернулась, пряча что-то под фартуком.
– А теперь посмотри, что я тебе принесла, – сказала она с веселой улыбкой. – Подарок.
– Подарок! – воскликнула госпожа Мэри, а про себя подумала: как семья, в которой четырнадцать голодных ртов, может еще кому-то делать подарки?!
– Через пустошь ехал торговец мелочовкой, и он остановил свою телегу возле наших дверей, – объяснила Марта. – Он вез кастрюли, сковородки и всякую всячину, но у мамы ни на что не было денег. Он уже собирался уезжать, как наша Лизабет-Эллен крикнула: «Мама, у него там скакалки с полосатыми красно-синими ручками!» И мама вдруг снова окликнула разносчика: «Послушайте, мистер, вернитесь! Сколько они стоят?» Он: «Два пенса». И мама начала шарить в карманах, а потом и говорит мне: «Марта, ты как хорошая девочка принесла мне свое жалованье. У меня каждый пенни на счету, но я хочу взять из этих денег два пенса, чтобы купить скакалку для ребенка, про которого ты рассказывала». И купила. Вот она, эта скакалка.
Она достала ее из-под фартука и с гордостью продемонстрировала. Это была крепкая гибкая веревка с полосатыми красно-синими ручками на обоих концах, но Мэри Леннокс никогда прежде скакалки не видела, поэтому смотрела на нее с недоумением.
– А это для чего? – с любопытством спросила она.
– Для чего?! – воскликнула Марта. – Ты хочешь сказать, что в Индии нету скакалок? Слоны есть, верблюды и тигры есть, а скакалок нету? Неудивительно, что большинство людей там черные. Вот для чего она – смотри!
Она выбежала на середину комнаты, взяла одну ручку скакалки в одну руку, другую – в другую и принялась прыгать, прыгать, прыгать. Развернувшись к ней лицом, Мэри неотрывно следила за ней, и люди на старых портретах, казалось, тоже наблюдали за Мартой, недоумевая: что эта простая служанка имеет наглость делать в их доме, прямо у них под носом? Но Марта их даже не замечала. Ее радовали удивление и любопытство, отражавшиеся на лице Мэри, и она продолжала скакать, считая вслух, пока не досчитала до ста.
– Я и больше могла пропрыгать, – сказала она, остановившись. – В двенадцать лет я до пяти сотен допрыгивала, но тогда я была не такая толстая, как сейчас, и навыку не теряла.
Мэри встала со стула в большом волнении.
– Это так здорово, – сказала она. – Твоя мама – добрая женщина. Думаешь, я когда-нибудь тоже сумею так прыгать?
– А ты попробуй, – предложила Марта, протягивая ей скакалку. – Сто раз сразу не прыгнешь, но, если навостришься, сможешь. Мама сказала: «Скакалка для нее – самое лучшее, что можно придумать. Самая полезная игрушка для ребенка. Пусть прыгает на свежем воздухе, разминает ноги и руки, от этого в них будет прибавляться силы».
То, что силы в ногах и руках у госпожи Мэри маловато, стало ясно сразу, как только она начала прыгать. У нее не слишком ловко получалось, но ей так нравилось, что она не хотела останавливаться.
– Одевайся и иди прыгать на улицу, – сказала Марта. – Мама велела сказать тебе, чтобы ты проводила на воздухе столько времени, сколько можешь, даже если дождик моросит, только одевайся потеплей.
Надев пальто и шляпку, Мэри взяла скакалку и уже открыла дверь, но вдруг кое-что вспомнила и вернулась.
– Марта, – сказала она, – это же были деньги из твоего жалованья. Твои два пенса. Спасибо тебе. – Получилось у нее неловко, потому что она не привыкла благодарить людей или замечать, что они что-то для нее сделали. – Спасибо, – повторила она и скованно протянула Марте руку, потому что не знала, что еще сделать.
Марта неуклюже потрясла ее руку, как будто тоже была непривычна к изъявлениям благодарности. А потом рассмеялась.
– Эй! Ты прям как какая-то чуднáя старушка, – сказала она. – Наша Лизабет-Эллен кинулась бы ко мне на шею и расцеловала.
Мэри еще больше смутилась.
– Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала?
Марта опять расхохоталась.
– Да нет, не во мне дело. Если б ты была другой, ты б, может, сама захотела. Но ты не такая. Ладно, беги на улицу и попрыгай там вволю через свою скакалку.
Выходя из комнаты, госпожа Мэри была немного обескуражена. Странные люди эти йоркширцы, Марта всегда оставалась для нее отчасти загадкой. Сначала она ее даже невзлюбила, но теперь все переменилось.
Скакалка оказалась замечательной вещью. Мэри прыгала и считала, считала и прыгала, пока щеки у нее не раскраснелись; ей было так весело, как никогда в жизни. Светило солнце, дул ветерок – не сильный порывистый ветер, а ласковый, он овевал лицо и нес приятный запах свежевспаханной земли. Она проскакала вокруг фонтана, потом по одной дорожке, по другой, пока не припрыгала в первый огород; там Бен Уизерстафф копал землю и разговаривал с робином, приплясывавшим вокруг него. Мэри, продолжая прыгать, приблизилась к ним. Садовник поднял голову и с любопытством посмотрел на нее. Мэри очень хотелось, чтобы он заметил, что она прыгает через скакалку.
– Ого! – воскликнул он. – Вот это да! Может, ты все ж и впрямь девчонка и в жилах у тебя течет детская кровь, а не жидкая пахта? Это прыганье нагнало краски в твои щеки, не будь я Бен Уизерстафф. Я бы и не поверил, если б своими глазами не увидал.
– Я никогда раньше не прыгала, – призналась Мэри. – Только учусь. Пока могу допрыгать всего до двадцати.
– А ты продолжай, – посоветовал Бен. – Для девчонки, всю жизнь прожившей посередь язычников, у тебя неплохо получается. Ты глянь, как он за тобой наблюдает. – Бен дернул плечом в сторону робина. – Он вчера за тобой полетел. И сегодня, небось, полетит. Ему кровь из носу захочется узнать, что такое скакалка. Он ее никогда не видал. Эй! – Он покачал головой, повернувшись к птице. – Гляди в оба, а то как бы твое любопытство тебя не сгубило.
Отдыхая каждые несколько минут, Мэри обскакала оба огорода и фруктовый сад, потом перебралась на свою особую дорожку, решив попробовать пропрыгать ее всю. Дистанция была длинной, поэтому начала она медленно, но, добравшись лишь до середины, так распарилась и запыхалась, что пришлось остановиться. Она не очень расстроилась, потому что досчитала уже до тридцати. Тихо рассмеявшись от удовольствия, Мэри вдруг заметила – о чудо! – робина, который качался чуть дальше впереди на длинном стебле плюща. Он действительно полетел за ней и теперь приветствовал ее коротким «чик-чирик». Запрыгав по направлению к нему, Мэри ощутила что-то тяжелое в кармане, бившееся о ее ногу при каждом подскоке, и сказала со смехом:











