Читать онлайн Просвещенное сердце. Автономия личности в тоталитарном обществе. Как остаться человеком в нечеловеческих условиях
- Автор: Беттельхейм Бруно
- Жанр: Саморазвитие, Личностный рост
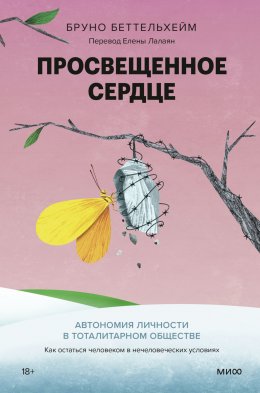
Предисловие научного редактора
В этой книге Бруно Беттельхейм пытается ответить на вопросы, какое общество более всего соответствует человеческой природе; как, соприкасаясь с обществом, человек реагирует на него, подстраивается и пробует что-то менять вокруг себя. В первую очередь он рассматривает адаптационные механизмы, исследует, как психика приспосабливается к внешнему социальному миру, представленному ближним и дальним окружением. И далее он наблюдает и описывает, как волны большого мира захлестывают маленький мир вокруг человека и как тот старается не захлебнуться в них и остаться на плаву. Во-вторых, он анализирует, что в личности человека помогает ему выстоять перед напором очевидно бесчеловечного социума, а что может сделать его частью машины уничтожения гуманного в человеке. Беттельхейм задается вопросом, как человек влияет на общество, и с этого начинает свою книгу. Его волнует, какие люди и как создают то общество, в котором далее живет и раскрывается человек.
«Я задавался вопросом, действительно ли хорошее общество справится с задачей производить хороших людей, а те потом будут поддерживать его? Или ныне существующий человек в принципе неспособен создать хорошее общество и хорошо жить в нем, потому что стремление все разрушить – в самой человеческой природе? Если верно первое, значит, хорошее общество должно быть построено – во что бы то ни стало, даже ценой великих страданий не одного поколения, поскольку такой социум станет колыбелью хороших людей. С другой стороны, если построить хорошее общество способны только хорошие люди, значит, проблема в том, чтобы преобразовать существующего человека в хорошего. А он затем по своему подобию создаст и будет поддерживать хорошее общество. Из всех известных методов воздействия на личность психоанализ представлялся самым перспективным в плане способности радикально изменить нынешнего человека к лучшему. Личностные перемены, которые я наблюдал в друзьях, говорили не в пользу способности психоанализа создать хорошего человека, который потом создаст хорошее общество».
Первую часть книги Беттельхейм посвящает исследованию того общества и тех социальных отношений, которые могут способствовать развитию в человеке моральных чувств и талантов. Несмотря на то что книга написана после войны, автор полон веры в лучшее в человеке и человечестве. Он постоянно делает акцент на силе влечения к жизни «либидо» и его победе над влечением к смерти в истории человечества даже на примере того ужасного опыта, который он пережил. Беттельхейм ищет рецепт, который может помочь человеку сохранять человеческое, строить его, доставать из глубин психики. В начале повествования и в начале его социального пути психоанализ выступает средством, которое помогает человеку понять себя и обуздать свои разрушительные порывы. Однако достаточно быстро Беттельхейм понимает, что психоанализ имеет существенные ограничения влияния на поведение человека. Беттельхейму кажется, что осмысленное, осознанное поведение меняет человека, что тот, кто прошел психоанализ, уже не совершит дурных поступков. После попадания в концлагерь он быстро убеждается в своем заблуждении: «Поначалу смутно, а затем все более отчетливо я видел, что поступки человека вскоре меняли его личность. Стойко переносившие заключение становились лучше, те же, кто поступал дурно, падали еще ниже».
Полемизируя с психоанализом, автор расширяет его границы, переносит акцент с исследования только внутри психического на плоскость взаимодействия психики и социального окружения. «Психоанализ не является самым эффективным инструментом для трансформации личности. Гораздо более радикальные перемены и в несравненно более короткий срок дает помещение индивида в среду определенного типа». При этом автор меняет свой ракурс понимания и ценности психоанализа в исследовании внешнего поведения человека в связи и под воздействием определенной социальной среды: «В подходящей обстановке практическое применение психоанализа дает бесценный результат, например через наблюдение учит понимать бессознательные мотивы поведения человека (без оценки предпочтительности поведения или адекватности личности)».
Свою исследовательскую позицию Бруно Беттельхейм обосновывает тем, что, по его мнению, психоанализ может показывать хорошие результаты при изучении личности в стабильной среде, но его собственный интерес лежит в области изучения личности во взаимодействии с социальной средой, когда и то и другое непрерывно меняется. Центральными в этой книге он сделал вопросы: в какой степени среда способна воздействовать на человека и формировать его, а также его жизнь и в какой степени не способна; как и в какой степени можно использовать среду для формирования образа жизни и личности; как должна развиваться личность, чтобы быть на высоте в любой среде или, при необходимости, менять среду к лучшему. Это постоянное перетекающее взаимодействие между личностным и социальным, тем, что воспринимается и впитывается, и выбором человека в критической ситуации становится объектом скрупулезного разбора, особенно во второй половине книги.
В главе «Мнимая безвыходность» человек предстает частью мира машин и телевидения, пассивным объектом внешнего влияния, неспособным противостоять воздействию социальных и технических процессов, становящимся безвольным винтиком огромного цивилизационного механизма. Человек выглядит потребителем всего, что в него направляет среда и общество, он исключительно реактивен, вся психическая активность как будто направлена на то, чтобы защитить психику от осознания собственной никчемности и зависимости.
Третья глава «Осознание свободы» посвящена механизмам взросления человека, развитию его способности противостоять внешнему, снижению зависимости от авторитетов и формированию автономности. Беттельхейм исследует путь идентификации человека с самим собой через проживание конфликтов, внутренних и внешних, и преодоление разрыва, дисбаланса между самостоятельностью и подчинением внешним требованиям, умением соблюдать нормы и проявлять собственную позицию, сохранять устойчивое представление о себе и реагировать на внешние изменения в социальном положении и статусе.
Первые три главы готовят читателя к погружению в описание жизни в концентрационном лагере. Они нужны, чтобы человек, впервые сталкивающийся с описанием жестокой реальности, не захлебнулся в ужасе описываемого опыта, а использовал здравый рассудок и ориентиры размышления, которым автор сохраняет приверженность на протяжении всего текста. Беттельхейм препарирует реальность концлагеря с дотошностью хирурга, описывающего как все особенности поведения больного, которые привели его к тяжелому заболеванию, так и специфику среды, в которой это заболевание прогрессировало. Текст можно воспринимать как эмоционально отстраненный. Автор не пытается эмоционально захватить и заразить читателя ужасом происходящего. Он констатирует детали, необходимые для понимания всей психической динамики, которую проходил любой человек в концентрационном лагере, будь то заключенный, надсмотрщик или даже директор. Сама атмосфера лагерей смерти пропитывала всех его обитателей, как особенным запахом, специфическим психологическим поведением в отношении себя и друг друга, делала поведение и реакции соответствующими условиям жизни и работы в нем.
В четвертой главе описывается переход к наблюдению за людьми в условиях концентрационного лагеря. Беттельхейм обосновывает попытки понять психологические процессы, изучая заключенных, как пример внутренней защиты от давления экстремальных обстоятельств. Использование собственных ментальных навыков: удержания внимания, активного слушания, сбора и запоминания информации, наблюдение за поведением и словами других людей, заключенных, охранников, администрации лагеря, – стало для автора способом сохранения собственной психической адекватности и целостности. Для нас его размышления не только позволяют воссоздать портрет ужасной эпохи, но и дают возможность получить глубокий анализ психологических механизмов, которые ее создали и поддерживали внутри отдельных людей и во взаимодействии масс.
Вторая часть книги полностью посвящена человеку в лагере: его чувствам, мыслям, поступкам. Беттельхейм фиксирует все изменения, которые начинают происходить с человеком с момента, когда он переступает порог концентрационного лагеря, до момента, когда он покидает его. Начиная с того момента, как человек попадает в условия несвободы, угрозы жизни и здоровья, условия унижения и утраты привычных форм поведения, он оказывается в ситуации острого конфликта: перед ним встает выбор способа поведения и стратегии адаптации, выбор между жизнью и самоуважением, самоуважением и сохранением чужой жизни. На человека одновременно наваливается горе от утраты привычного места в жизни, способов поддержания отношений, устойчивых связей его мира. В то же время перед ним разворачивается ужас нечеловеческих изменений всех мелочей его жизни. Человек лишается идентификации, его имя меняют на лагерный номер, у него больше нет приватного пространства и времени, его место в бараке ему не принадлежит, его временем распоряжаются другие люди.
Раздел «Процесс трансформации» посвящен тем изменениям, которые претерпевает личность человека, заключенного в концентрационный лагерь. Беттельхейм описывает процессы создания зависимости и инфантилизации заключенных как те механизмы, которые сковывали волю и потребность в свободе и освобождении. Обезличивание способствовало тому, что человек терял идентификацию с собой и смирялся с теми обстоятельствами и условиями, в которых оказывался. Противовесом этому процессу выступала воля к жизни, которую все, что происходило в лагере, должно было подавить и уничтожить. Заключенный должен был потерять любую форму самопроявления и распоряжения собой, он больше не мог распоряжаться ничем, что было связано с его «я», даже право на смерть переставало ему принадлежать. Суицид становился поступком, способным показать волю человека, и за попытки суицида одного следовало наказание для целых групп людей, которые случайно могли оказаться свидетелями.
Беттельхейм определяет условия нахождения в концлагере как экстремальные и постоянно подчеркивает это. Нормальные формы адаптации и поведения в этих условиях перестают работать. Люди оказываются в ситуации, где поведение, связанное с социальностью, взаимопомощью, взаимовыручкой, извращается. Заключенных все время сталкивают между собой в борьбе за любые мелочи, группа несет наказание за действия каждого. Процесс разворачивания психических защит Беттельхейм, как психоаналитик, описывает в следующей последовательности: рационализация, отрицание ответственности, эмоциональное отчуждение, избирательная амнезия, грезы наяву, обезличивание, проекция, расщепление в позиции жертвы и преследователя.
Противовесом извращенной машине обесчеловечивания становятся редкие, но спасительные человеческие контакты, которым находится место даже там, где все живое подавляется и уничтожается: дружба, разговор. Хотя и они подвергались мощному искажению окружающей реальности.
В конце книги Беттельхейм обращается к вопросу влияния фашизма на людей, которые жили вне концентрационных лагерей, при этом старались не замечать тех изменений, которые происходили с обыденной жизнью, вроде бы понемногу, по чуть-чуть. Эти изменения касались как обывателей, которым вроде бы ничего не грозило, так и людей, которые были мишенью нацистского государства, – евреев. В качестве примера он разбирает поведение семьи Франков, отца Отто Франка и девочки Анны Франк, подробный дневник которой он анализирует.
Бруно так описывает психологические механизмы, работавшие на невосприятие угрожающей реальности: «Старания уложить в сознании сам феномен концентрационного лагеря чаще всего запускали один из трех очень разных психологических механизмов: а) отрицалось, что человек в принципе способен творить подобное, а зверства приписывались (вопреки очевидным свидетельствам) только кучке психически больных или извращенцев; б) отрицалась правдивость самой информации о концлагерях – на том основании, что это злонамеренная пропаганда. В особенности поощряло эту точку зрения правительство Германии, называвшее все сообщения о царившем в концлагерях терроре Greuelpropaganda – пропагандой ужасов, намеренными измышлениями противников о зверствах; в) информация о концлагерях воспринималась как правдивая, однако сведения о жестокостях следовало как можно скорее вытеснить из сознания. После победы над нацистской Германией можно было наблюдать действие всех трех психологических механизмов».
Книгу Бруно Беттельхейма можно растаскивать на цитаты. Его тексты создают ощущение точных психологических рецептов. Он раскладывает все психические защиты по полочкам, даже не везде называя их. Его текст можно читать как экскурсию по внутрипсихической жизни человека, мы можем слышать следующий ироничный текст, читаемый между строк: «Посмотрите, вот здесь у нас “отрицание”. Узнаете? А вот так выглядит “гиперкомпенсация”. Дальше мы приближаемся к “вытеснению” и “подавлению”. Они часто встречаются парой. Обратите внимание, вот так выглядят “заражение” и “идентификация”, особенно с фигурами, которые внушают страх и зависть. Добавьте к этому встречу с “проекцией” и “идеализацией”. Ну вот, теперь вы тоже любите своего фюрера». Эта книга во второй ее половине становится страшным и необходимым свидетелем того, что и как проживает человеческая психика, когда оказывается в нечеловеческих условиях концлагеря. Хотя Беттельхейм показывает, как люди создают эти условия для себя и других. Он пишет: «Хотите одним махом покончить со всеми своими тревогами и заново обрести безопасность во внутренней и внешней сферах жизни – станьте такими, какими вас желает видеть государство. Тогда внешний мир из опасного и враждебного вмиг превратится в дружелюбный, а твой внутренний мир снова обретет спокойствие и безопасность. Ты сможешь ослабить самозащиту в семейных стенах, снова пользоваться поддержкой родных и тем самым восполнять свою эмоциональную энергию».
Беттельхейм заканчивает книгу пошаговым описанием того, как государство может забрать свободу у своих граждан. Он пишет: «Меня здесь интересует не значение этого процесса в уже почившей государственной системе, а тот факт, что аналогичные тенденции проявляются в любом массовом обществе и их действие мы в определенной степени можем наблюдать в наши дни».
Сначала происходят небольшие ограничения в правах тех групп, которые имеют несколько маргинальный статус в Германии 1930 годов, – это были евреи, цыгане, нацменьшинства и представители некоторых религиозных организаций. И это движение даже вызывает одобрение большинства, так как выглядит направленным на восстановление некоторого чувства справедливости у этого большинства. Далее происходит разгром политической оппозиции – тоже с поддержки упомянутого большинства. А вот дальше это большинство начинает разделятся на подгруппы, каждая из которых все больше должна доказывать свою лояльность фюреру и его режиму. «В целом принятие немцами режима рассматривалось как акт свободной воли со стороны людей, еще располагавших значительными внешними свободами и сохранявших ощущение внутренней независимости». Постепенно террор переходил от уничтожения одной группы инакомыслящих, иначе выглядящих, по-другому изъясняющихся, к следующей. Так что формировалась масса людей, которые бессознательно чувствовали потребность к слиянию, одинаковости внешности и высказываний. Но машина террора и их начинала раздроблять так, чтобы оставшиеся всё плотнее объединялись вокруг системообразующей фигуры. «Концентрационные лагеря и акции против различных групп сеяли в Германии всеобщий страх, заставлявший каждого, кто не имел прочной внутренней защиты, не просто помалкивать, а показывать всем своим поведением, что он не делает и не замышляет ничего такого, что могло бы вызвать недовольство властей. Все обстояло в точности как в концлагере: гражданам Германии надлежало превзойти в своем послушании самого послушного ребенка (которого видишь, но не слышишь) – и стать для властей и незаметными, и безгласными. Режим не только навязывал человеку состояние беспомощной зависимости, режим намеренно раскалывал его личность. Тревога, страх, стремление защитить свою жизнь принуждали человека отказаться от способности, которая дала бы ему наибольший шанс выжить: от способности адекватно реагировать и принимать решения. Этим он из взрослого человека превращал себя в ребенка. При ясном понимании, что выжить удастся, только если он будет сам принимать решения и действовать, он старался спасать свою жизнь бездействием и безгласностью. Это сочетание противоположностей подавляло индивида настолько, что в конце концов он лишался человеческого достоинства и чувства независимости».
С другой стороны этих процессов, разворачивающихся бессознательно в психике каждого гражданина тоталитарного режима, работала машина по созданию обаятельного образа тирании и тирана. Эффектные приветствия, элегантная форма, проживание общности побед и массовых зрелищ, прекрасно в свое время обыгранные и продемонстрированные в фильме Боба Фоса «Кабаре», создают ощущение защищенности и уютности тоталитарного режима. Внутри него так спокойно и свободно дышится и живется, нет никаких раздражающих мыслей, все понятно и предсказуемо. Здесь отсутствуют тревога и страх, ощущаются единство и поддержка сограждан, нет рисков, нет изоляции. Это делает тиранию очень обаятельной и привлекательной.
Последнюю часть своей книги Бруно Беттельхейм назвал «Обнадеживающие слова напоследок». Он видит надежду в том, что «во многом правы те, кто говорит, что покой под гнетом тирании – это не успокоение в человеческой жизни, а упокой смерти». Но жизнь стремится побеждать смерть, таким образом этапы тирании становятся кратковременными в масштабе истории этапами кризиса, из которых человечество выходит более закаленным и более ориентированным на сохранение и улучшение жизни.
Тамара Шапошникова, кандидат педагогических наук, доцент, психотерапевт Единого реестра Европы, член-корреспондент МАНПО
Предисловие автора
Мы вечно торопимся заявить о себе миру, но в унылой суете и монотонности дней у многих попросту не находится ничего, что заслуживало бы внимания окружающих.
Никогда еще люди не жили так благополучно: нас больше не пугают болезни и голод, колдовство, таящиеся во тьме ужасы. С нас сняли ярмо изматывающей физической работы, и вскоре машины, заменившие ручной труд, будут обеспечивать нас почти всем, что нам необходимо, и в придачу многим другим, что нам в сущности не так уж нужно. Мы унаследовали свободы, к которым веками шел человек. Нам бы радоваться, что мы стоим на пороге прекрасного будущего. Однако нас томит разочарование, что столь желанные свобода и комфорт не дают нам смысла и цели в жизни.
И нас тем более изумляет, почему мы обладаем всеми благами, к которым так стремились предыдущие поколения, но смысл существования теперь ускользает от нас. Никогда еще мы не были настолько свободны. И никогда еще большинство из нас так не жаждали самореализоваться, но все напрасно – посреди изобилия нас мучает беспокойство. Мы добились свободы и теперь страшимся, что пробудившиеся социальные силы задушат нас: надвигающийся со всех сторон мир сжимается все сильнее.
Утомительное однообразие и неудовлетворенность жизнью достигают такой остроты и силы, что многие уже готовы сами выпустить свободу из рук. Оказывается, она штука мудреная и распоряжаться своей свободой, как и своей судьбой, ох как трудно. И если жизнь обессмыслилась, не хочется нести за это ответственность: легче переложить на общество бремя своих неудач и вины.
Теперь нам еще сложнее хотя бы понять, как реализовать себя, как сохранить свободу, но при этом соблюсти баланс индивидуальных и коллективных интересов. Это серьезнейший вызов современности.
Ниже, при обсуждении проблем нашей цивилизации, я даю некоторые намеки, в какую сторону нам нужно меняться. Если раньше фундаментом нашей безопасности была стабильность, то теперь нам нужно учиться строить свою жизнь при мизерных шансах предвидеть исход наших действий в стремительно меняющемся мире.
Чтобы осилить такой подвиг, надо объединить сердце и разум. Работа и искусство, семья и общество не могут более развиваться по отдельности друг от друга. Пускай наше сердце отважится наводнить разум своим живительным теплом, даже если симметрии разума придется потесниться и дать место любви и пульсациям жизни.
Нам больше нельзя мириться с тем, что наше сердце таит в себе неведомое нашему разуму. Нашим сердцам надлежит знать мир разума, как разуму – руководствоваться просвещенным сердцем. Отсюда и название книги, а остальное она пусть скажет сама за себя.
Посвящается Труде
Глава 1. Примирение противоположностей
Я отразил здесь размышления о жизни человека в современном массовом обществе и о воздействии тоталитарного строя на личность. Отдельные фрагменты текста уже выходили ранее как статьи, но специально для этой книги были существенно доработаны. Основная часть материала публикуется впервые.
На протяжении двадцати лет я тщательно обдумывал изложенные здесь идеи, в нынешнем виде сформулировал их лишь недавно. В научной литературе не принято рассказывать о том, как менялись твои жизненные взгляды. И все же, если твоя работа строится на наблюдении, интроспекции[1] и тщательном исследовании мотивов, поневоле задумываешься о внутренних нитях, связующих воедино труд всей твоей жизни, когда решаешь, что из написанного тобой нужно переосмыслить или даже кардинально пересмотреть, что по-прежнему актуально, а о чем лучше вообще забыть. Думаю, читателю тоже будет интересно узнать, что мысли в этой книге не просто изложены одним человеком по конкретной теме, а имеют глубокое внутреннее единство. Большую роль здесь играет мой личный опыт, и я решил поделиться несколькими историями из своей жизни. Без них книга могла бы показаться всего лишь очередным пассажем на тему социальной психологии.
Впрочем, есть еще одна гораздо более важная причина. Это – мое убеждение, что противостоять и противодействовать угнетающему воздействию массового общества человек способен, только когда его дело – это продолжение его самого. Выбор дела не может быть случайным, исходить из удобства или соображений выгоды. Он обязан напрямую отвечать нашему стремлению реализовать себя в этом мире. И не менее важно, чтобы результат нашей работы отвечал нашим ценностям. Будучи убежден в этом, я буду говорить о том, что затрагивает меня лично, и начну с рассказа о событиях, в силу которых оказался непосредственно вовлечен в проблемы, обсуждаемые на страницах этой книги.
Поколение моих родителей растило детей в особенной, безвозвратно ушедшей атмосфере – народы Западной и Центральной Европы желали верить в наступление эпохи прогресса, безопасности и счастья. Реальное положение дел свидетельствовало совсем о другом, но европейцы крепко ухватились за это новое мировоззрение. Особенно та часть общества, которую сегодня мы назвали бы верхушкой среднего класса и которая пожинала больше всего благ от достижений рубежа XIX–XX вв. Им было проще простого принять эти удобные взгляды, поскольку они подтверждались их личным опытом. На их глазах прогресс в социальной, экономической и культурной сферах шел уверенной поступью, при поддержке разумной и справедливой политики, ориентированной на социальные инициативы, что определило лицо Западной Европы перед Первой мировой войной.
Но однажды августовским вечером лорд Грей[2] с глубокой печалью прозорливо изрек: «Фонари гаснут по всей Европе. Нам уже до конца своих дней не суждено увидеть их зажженными вновь». Его пророчество не только сбылось, но и пережило его, оказавшись актуальным и для нас. Северная Европа перестала быть «кузницей рода человеческого»[3], во что никак не верилось моему поколению, пока Гитлер не сделал это очевидным для всех.
Становление венских интеллектуалов, моих ровесников, происходило на фоне общего упадка, вызванного Первой мировой войной. Мы переживали подростковый кризис раннего взросления при отягчающем воздействии социально-экономического хаоса послевоенных лет. Его кульминацией стал сначала российский большевизм, затем национал-социализм, а потом разразилась Вторая мировая. Тяжело пришлось молодому поколению всей Европы, однако для нас, венцев, страдания еще усугубились крахом Австро-Венгерской империи. Все это поставило передо мной ключевые проблемы ума и сердца, дало пищу жарким дискуссиям на тему «природа или воспитание?», «врожденное или приобретенное?».
Невзгоды войны и послевоенная нищета в Вене, внезапно утратившей имперские блеск и статус, крах государственного строя как раз в период, когда подросток восстает против мира своих родителей, породили серьезные трудности. Тяжело восставать против взрослых, чей мир в одночасье рассыпался на мелкие кусочки. Но бунт против родителей вызван чувством предательства от осознания того, что родитель, которого ребенок считал деспотичным, но защищающим героем, оказался всего-навсего глиняным божком. Ты больше не можешь сравнивать свои новоприобретенные ценности с родительскими. И как теперь хотя бы проверить свой новый, еще не опробованный способ жить, если проверять больше не на чем, если родительский образ жизни оказался таким непрочным и зыбким? Подросток понимает, что вдруг лишился надежной опоры, нет, не родительской поддержки, но тех ценностей, что они ему привили. И происходит это как раз тогда, когда он больше всего нуждается в безопасной гавани, откуда мог бы осмелиться пуститься в нелегкий путь к независимости. Сильнее всего подросток переживает утрату чувства защищенности, которое давали родители и которое само по себе позволяло ему без особого риска бунтовать против олицетворяемого взрослыми мира[4].
Все это разожгло во мне страстное желание построить новое правильное общество. Желание породило уверенность, что нетрудно создать непохожее на прежнее, «хорошее» общество, которое обеспечило бы всем благополучную жизнь. Устойчивое и безопасное, оно гарантировало бы каждому максимальную свободу личностного развития и самореализации.
Потребовались годы – с конца Первой мировой войны почти по канун Второй, – чтобы я наперекор сильному внутреннему сопротивлению умом осознал взаимно противоречивую природу этих требований. Признание этого вывода далось мне серьезной борьбой с собой. Труднее всего было принять его эмоционально.
Поскольку мой подростковый кризис разворачивался в Вене, а сам я происходил из буржуазного семейства ассимилировавшихся евреев, на меня, конечно же, сильно повлияло учение Фрейда. Оно похоронило мою надежду, что все дело в недостаточно рационально устроенном обществе. Психоанализ предполагал, что не общество порождает в человеке проблемы, а, скорее, скрытая внутренняя противоречивость человеческой натуры порождает проблемы для общества.
Так предстал передо мной конфликт между врожденным и приобретенным: если я хочу построить хорошее общество, нужно ли в первую очередь достаточно радикально изменить среду, чтобы каждый человек смог полностью самореализоваться? В этом случае от психоанализа можно было бы отказаться, сохранив его разве что для немногочисленных душевнобольных индивидов. Или данный подход к проблеме неверен и выстроить «хорошее» общество способны только те, кто, пройдя через психоанализ, достиг полного освобождения личности? Тогда следует на время забыть о социально-экономической революции и вместо нее продвигать в массы психоанализ – в надежде, что стоит подавляющему большинству людей внутренне освободиться, и они почти автоматически построят благополучную жизнь для самих себя и других.
За редким исключением все в узком кругу моих близких друзей (понятие «группа сверстников» еще не было на слуху в послевоенной Вене) жаждали во что бы то ни стало определиться во взглядах, как это свойственно всем юным. Чтобы избежать внутренней борьбы и противоречий, они, не пожелав детально разбираться, безоговорочно приняли из двух теорий более близкую для себя. Одни примкнули к социализму, а может, даже к раннему коммунизму – чтобы спустя несколько лет сделаться приверженцами либо официального коммунизма (русского образца), либо отколовшейся от него оппозиции (последователи Троцкого), – и напрочь отвергли все, чему их учил Фрейд. Другие избрали противоположный путь и столь же страстно увлеклись психоанализом. Третьи, самая многочисленная группа, в основном университетские студенты, нашли себя в частном мире искусства или науки, тогда как многие мои друзья-неевреи подались в католицизм или примкнули к неокатоликам[5] (а позже к национал-социалистам). Тем самым они как бы оказались в стороне от вышеназванного конфликта. Разумеется, как в первой, так и во второй группе нашлись перебежчики: сначала всецело преданные одному мировоззрению, скажем коммунизму, они позже не моргнув глазом предпочли ему психоанализ. И наоборот.
Я же, хоть и не менее друзей желал определенности, все-таки не ощущал в себе готовности сделать окончательный выбор в пользу какой-то из этих концепций. Безусловно, я отмечал у обеих положительные стороны, но по отдельности каждая из двух представлялась мне пустопорожней. Компромиссная идея подсадить психоанализ к коммунизму, избранная горсткой моих друзей (более всего известен в этом плане Вильгельм Райх[6]), сразу вызывала сомнения, а позже ее утопичность подтвердилась самой жизнью. Противоречия такого союза оказались слишком сильны.
Признаться, и у меня был период, когда я старался обойти проблему выбора, с головой уходил в частную жизнь. Я сосредоточился на литературе, живописи, музыке и при этом общался лишь с горсткой близких друзей. Но хотя моя увлеченность искусством предшествовала интересу к психоанализу и социальным проблемам, ответа на мой вопрос об улучшенном человеке в улучшенном обществе в сфере культуры тоже не было. Впрочем, сдаваться я не собирался. Сумей я копнуть глубже, думалось мне, и тот самый единственный и правильный ответ найдется.
Глубже, на мой взгляд, в суть вещей проникала философия, и я начал посвящать время ей. Я открыл для себя учение о единстве противоположностей[7], но поскольку я хотел однозначных решений, то я не понимал, как оно поможет мне постичь динамическую взаимозависимость организма и окружающей среды. Не осознавал, что жизнь заключается в борьбе за достижение личностной целостности в рамках принципиально неразрешимого конфликта. В то время я не был готов принять последнее как факт. Я был молод и убежден, что всякую среду – в основном, конечно, общество – надо переустроить так, чтобы она сама подталкивала индивида к реализации себя. Правда, я еще не дошел до мысли, что самореализация осуществляется в рамках conjunctio oppositorum, единства противоположностей.
И снова я задавался вопросом, действительно ли хорошее общество справится с задачей производить хороших людей, а те потом будут поддерживать его? Или ныне существующий человек в принципе неспособен создать хорошее общество и хорошо жить в нем, потому что стремление все разрушить – в самой человеческой природе? Если верно первое, значит, хорошее общество должно быть построено – во что бы то ни стало, даже ценой великих страданий не одного поколения, поскольку такой социум станет колыбелью хороших людей. Именно это, казалось, обещал сделать коммунизм. Однако уже к 1920-м гг. стало очевидно, что Россия строила не то общество, которое гарантировало бы человеку полную самореализацию. Определенную надежду давали социал-демократы. Не без сомнений и с тяжелым сердцем я примкнул к их рядам. Уже тогда стало ясно, что они смогут построить хорошее общество, только когда в партии будут преобладать те самые хорошие люди.
С другой стороны, если построить хорошее общество способны только хорошие люди, значит, проблема в том, чтобы преобразовать существующего человека в хорошего. А он затем по своему подобию создаст и будет поддерживать хорошее общество. Из всех известных методов воздействия на личность психоанализ представлялся самым перспективным в плане способности радикально изменить нынешнего человека к лучшему. К тому времени некоторые мои друзья уже прошли личный психоанализ ради того, чтобы стать психоаналитиками. Едва ли нашлись бы среди них те, кто пошел бы на это, не имея целью данную карьеру. В кругу молодых интеллектуалов мода на психоанализ едва-едва начала проклевываться только в начале 1930-х гг. Личностные перемены, которые я наблюдал в друзьях, говорили не в пользу способности психоанализа создать хорошего человека, который потом создаст хорошее общество. Правда, объясняли это обычно тем, что пациенты психоанализа сами по себе слишком нездоровы, чтобы во всей полноте демонстрировать достоинства метода.
В конце концов я обратился к психоанализу, возлагая на него больше надежд, чем на политические реформы. Не только потому, что разочаровался в возможностях хорошего общества создать полностью свободного человека. Мною двигали как личные причины, так и настоятельное желание разрешить мучившие меня проблемы. И поначалу я вовсе не собирался практиковать психоанализ, хотя помимо пользы для себя лично надеялся с его помощью глубже постичь интересовавшие меня теоретические, социальные, философские и эстетические вопросы. Ответы на них я почти наверняка сумел бы найти с помощью психоанализа, как нашептывала мне юношеская самоуверенность.
Мне потребовались годы личной терапии и еще многие годы работы с пациентами в качестве психоаналитика, чтобы я усвоил, до каких пределов психологический опыт способен менять человека, живущего в среде определенного типа, и где влияние общества заканчивается. Пережив приход к власти Гитлера, концлагерь, а затем эмиграцию в Новый Свет, я осознал, до каких пределов общество способно влиять на личность и на образ жизни индивида, а дальше каких уже нет. Двадцать лет назад я усвоил эти уроки. Однако, чтобы окончательно осознать их, мне потребовалось еще два десятка лет.
Во-первых, я понял, что психоанализ, хотя серьезно помогает взрослому преодолевать личные трудности, бессилен трансформировать человека настолько, чтобы обеспечить ему хорошую жизнь. Потребовалась бы масштабная социальная реформа для изменения к лучшему большинства людей. Во все времена, конечно, встречались немногие, у кого получалось самосовершенствоваться ценой глубокой внутренней борьбы. Но добиться хорошей жизни для большинства возможно только при условии, что изменится и подход к воспитанию малышей, и образование. Практически весь приобретаемый молодежью жизненный опыт должен стать другим. Но прежде чем ратовать за реформы, следовало понять, что делают с ребенком нынешние методы воспитания, как они влияют на его дальнейшую жизнь и тем самым на само общество в целом. В моем случае маятнику пришлось многократно раскачиваться между двумя допущениями (что человека формирует общество или что его формирует детство), прежде чем я сердцем принял идею, которую давно уже постиг разумом: главное для хорошей жизни – это тонкий баланс между личными устремлениями, правомерными требованиями общества и натурой человека. Перекос в сторону одного аспекта из трех ничего не даст.
Следующий урок, который мне понадобилось усвоить, касался природы человека и влияния на нее общества. Здесь я подхожу к самой сути дела моей жизни. Речь о применении психоанализа для решения социальных проблем вообще и в воспитании детей в частности.
К мысли, что над теорией и практикой психоанализа еще работать и работать, я пришел, наблюдая, что может, а что не может дать терапия двоим ребятам с аутизмом, с которыми я прожил бок о бок несколько лет. Чтобы добиться улучшений в дополнение к ежедневным сеансам психоанализа, очевидно необходимо было корректировать условия жизни пациентов. Размышления об этом привели меня к однозначному выводу. Воздействия классического психоанализа недостаточно, чтобы способствовать необходимым личностным переменам у людей с сильными нарушениями психики. Собственно психоанализ или организованная на его основе среда должны воздействовать непрерывно, а не только по часу в день – во всяком случае, так я в то время полагал. Я применил этот метод с теми двумя подростками, правда с ограниченным успехом. И все же я смог до этого додуматься. Тогда я еще не признал, что мои юные пациенты больше всего нуждались в том, чтобы жить в человеческом окружении, которого тогда еще не существовало и которое следовало специально организовать под эту конкретную задачу. Им требовались содержательные отношения и значимые цели, а не просто применение психоанализа к жизни, которую они и так уже знали.
Дальнейшие сомнения в психоанализе пришли ко мне, можно сказать, из первых рук. Еще лет за десять до того, как Гитлер оккупировал Австрию, из-за чего моя внешняя жизнь в корне изменилась, я смутно осознавал неминуемость собственного внутреннего кризиса, хотя с социальной и профессиональной точек зрения все у меня выглядело вполне благополучно. Между тем, хотя и довольно поздно, меня настигло состояние, которое десятилетиями позже Эриксон[8] определит как психосоциальный мораторий[9]. Его не помогли преодолеть ни годы психоанализа, ни последующая жизнь.
И все равно к моменту ареста я не сомневался в достоинствах психоанализа вообще и в собственных достоинствах психоаналитика в частности. Я верил, что этот метод дал мне все, что мог, и большего из него не выжмешь. И настроился, скрепя сердце, жить таким, каким тогда был, и старался полюбить такое свое бытие.
Благодаря личной терапии и моему психоаналитику я оказался способен понимать замкнутых, испорченных и психотических детей и оказывать им помощь. А также смог создать для них особенное социальное окружение, в котором они нуждались, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал.
С другой стороны, воздействие концлагеря за какие-то недели дало мне то, чего не сумели дать годы достаточно успешного психоанализа. (Понимаю, что этим признанием я подставляю под критику себя и своего аналитика, что психоанализ дал мне осознание моих внутренних проблем, но не привел к их проработке. Полагаю, надо отдать должное моему психоанализу, что критика не пугает меня.)
Я продолжал изучать и практиковать психоанализ в надежде понять истинную природу людей. Пускай я уже разочаровался в психоаналитической терапии как в средстве создать хорошего человека, но продолжал верить, что психоанализ способен значимо менять личность.
Год в Дахау и Бухенвальде (1938–1939) стал для меня огромным потрясением во всех смыслах. Он научил меня столь многому, что я далеко не уверен, сумел ли даже сейчас постичь все преподанные мне им уроки. И поскольку книга в основном посвящена психосоциальному исследованию концлагеря, здесь я не буду повторять, что представлял собой этот опыт. О влиянии размышлений, вынесенных из концлагерной жизни, на мою работу можно судить хотя бы по моей статье о развитии шизофрении в ответ на экстремальные ситуации[10]. Каковы были эти размышления и что меня к ним подтолкнуло?
Оговорюсь, что их следует рассматривать исключительно в контексте концлагерного опыта. Страх смерти, крайние лишения, которым намеренно подвергали всех заключенных и особенно заключенных-евреев, – все это не способствовало ясности мысли. Но, по всей вероятности, притупленность рассудка восполнялась сильными эмоциональными впечатлениями, что свойственно человеку в экстремальной ситуации. Такие впечатления накрепко врезаются в сознание и могут повлечь за собой – когда не вытесняются – переоценку всех ценностей, даже если рассудок неспособен сразу разобраться в них или понять их далекоидущие последствия.
За колючей проволокой меня мало трогало, состоятельна ли теория психоанализа. Единственное, что меня волновало, – как выжить и при этом сохранить себя физически и морально. В заключении я сделал важнейшие открытия. Люди, которые, согласно теории психоанализа, как я тогда понимал ее, должны были проявлять больше всего стойкости в суровых условиях концлагеря, не самым лучшим образом показывали себя в ситуации крайнего стресса. Зато другие, кто согласно той же теории должен был сломаться, являли блестящие примеры мужества и человеческого достоинства. Я также видел стремительные трансформации в человеке, не только поведенческие, но и личностные. И они были гораздо более быстрые и радикальные, чем те, которых позволяла добиться психоаналитическая терапия. Учитывая обстановку, зачастую это бывали изменения к худшему, но иногда явно и определенно к лучшему. Откуда следовало, что одна и та же среда способна вызывать кардинальные перемены как в ту, так и в другую сторону.
Я больше не сомневался, что окружение способно формировать человека и действительно отвечает за значимые аспекты его поведения и личности. В каком-то смысле для меня это был откат к моим более ранним, допсихоаналитическим воззрениям, что хорошего человека способно выковать исключительно хорошее общество, только наоборот – я своими глазами видел, что неблагоприятная среда явно пробуждала в человеке зло. Однако те же губительные социальные условия раскрывали, а вероятно, даже порождали новые достойные похвал качества у тех, кто прежде никогда не обладал ими. Если одно и то же общество, в данном случае концлагерный мир, могло производить в человеке глубокие перемены, следовало предположить, что именно общество определяло личность человека. Однако на разных людей оно влияло очень по-разному и иногда порождало в корне противоположные личностные перемены и типы поведения. Следовательно, это выбор самого человека, каким быть и как проявлять себя в социуме, независимо от особенностей того или другого общества. Эти совершенно неожиданные для меня откровения никак не вписывались в концепции психоанализа.
Не скажу, чтобы мне легко дались эти выводы, но они были необходимы, если я хотел выжить и остаться собой. Понятия психоанализа, которыми я раньше старался руководствоваться в жизни, обманули меня, и обманули жестоко. Они оказались несостоятельны именно тогда, когда я больше всего в них нуждался. Так что мне срочно требовались новые взгляды. Самым главным для меня было четко определиться, в чем можно поддаться внешней среде, не поступаясь своим внутренним «я». Одни заключенные полностью капитулировали перед средой. И в большинстве своем они либо очень скоро деградировали, либо переходили в разряд «узников-старожилов». Другие старались сберечь свое прежнее «я», но хотя у них было гораздо больше шансов выжить, сохранив свою личность, им не хватало психологической гибкости. Почти все из них просто не могли находиться в экстремальных условиях и погибали, если вскоре не получали свободы.
Громадное воздействие окружения на человека я осознал не без боли, зато быстро. Мое заключение в концлагерях пришлось на то время, когда почерпнутые мной из психоанализа убеждения были как никогда крепки: я не сомневался, что наиважнейшую роль в формировании личности играют ближайшие родственники, а влияние общества можно считать малозначительным. И столь же твердо верил, что психоанализ не знает себе равных, когда нужно добиться внутреннего освобождения индивида и помочь ему стать целостной личностью.
За считаные дни лагерный опыт убедил меня, что я был неправ, веря, будто только перемены в человеке способны вызвать перемены в обществе. Мне пришлось признать, что среда способна перевернуть личность человека, так сказать, вверх тормашками, и не только ребенка, но и взрослого тоже. Если я хотел уберечь свою личность, мне надлежало признать этот потенциал среды, решить, в каких аспектах и в какой степени я могу приспосабливаться, а в каких ни в коем случае. Но психоанализ, как я его тогда понимал, здесь ничем не мог помочь мне.
Психоанализ, в котором я видел золотой ключик к решению всех проблем человека, не мог подсказать, как выживать в концлагере, и хотя бы отчасти достойно. Мне пришлось опираться на чуть ли не отрицательные с точки зрения психоанализа качества. А те качества, которым я привык придавать огромное значение, зачастую больше мешали, чем помогали.
Не спорю, психоанализ действительно был полезен мне, чтобы осмыслить проблемы, с которыми я столкнулся. В человеке всегда присутствуют неинтегрированные асоциальные наклонности. При определенных условиях контролирующие и сдерживающие барьеры рушатся и выпускают их на волю. Нахождение в концлагере ломает систему торможения асоциальных проявлений. Если разные индивиды по-разному реагируют на это, если у одних сдерживающие механизмы срабатывают, а у других отказывают, если у кого-то защита от асоциального поведения только усиливается, значит, все эти проявления можно отнести на счет индивидуальных различий, разницы характеров и жизненного опыта.
Подобные объяснения могли пролить свет на происходившее с некоторыми людьми. Но меня не столько интересовали способности психоанализа разъяснять те или иные вещи, сколько вопрос, способны ли эти объяснения, и если да, то насколько, помочь мне и моим товарищам выживать, сохраняя свою человеческую личность в нечеловеческих условиях. Общение с узниками, независимо от того, проходили они психоанализ или нет, убедительно свидетельствовало, что в решающие моменты побудительные мотивы поступков абсолютно неважны, важны лишь сами поступки. Пускай психоанализ мог объяснить их причины, зато среда напрямую влияла на поступки людей – правда не всех.
Поначалу смутно, а затем все более отчетливо я видел, что поступки человека вскоре меняли его личность. Стойко переносившие заключение становились лучше, те же, кто поступал дурно, падали еще ниже. Причем эти перемены, во всяком случае так оно тогда казалось, происходили вне зависимости от прежней жизни и прежней личности человека, по крайней мере вне зависимости от тех аспектов личности, которым психоанализ придавал большое значение.
В условиях концлагеря просто не получалось рассматривать мужественные, связанные со смертельным риском поступки в категориях психоанализа, таких как проявление инстинкта смерти, обращенная внутрь агрессия, стремление проверять на прочность свое тело, маниакальное отрицание опасности, желание демонстративно насытить собственный нарциссизм и проч. Эти и многие другие интерпретации были бы правомерны в рамках глубинной психологии (психологии бессознательного), где они безусловно применимы. Представлялось более чем неуместным интерпретировать мужественное поведение заключенного в пределах спектра углубленного психоанализа. Сам по себе психоанализ от этого ничего не терял, зато из-за этих шокирующих изъянов сильно упал в моих глазах, чего я никак не ожидал.
Действия человека в критической ситуации, понял я, никак нельзя выводить из его внутренних скрытых мотивов, чаще всего противоречивых. Ни его сновидения, ни его спонтанные ассоциации или сознательные фантазии не позволяли верно предсказать, как он поступит в следующий момент – рискнет ли жизнью во спасение других или бросится в панике предавать их ради мнимой выгоды.
Пока действия окружающих не несли прямой угрозы моей жизни и представляли для меня скорее теоретический интерес, я мог позволить себе считать бессознательные процессы других людей равнозначными их внешнему поведению, если не более значимыми. Пока моя жизнь текла своим упорядоченным чередом, я мог позволить себе верить в то, что работа моего бессознательного была если не моим «истинным» я, то определенно моим «глубинным» я. Но когда в некий момент от моих действий зависела моя жизнь, а в следующий момент – жизни моих товарищей, я понял, что мои действия гораздо больше выражали мое «истинное» я, чем мои бессознательные или подсознательные мотивы. А еще эти действия, как мои собственные, так и других людей, очень часто шли вразрез с тем, что можно было бы вывести из работы бессознательного. И я уже не мог соглашаться, что вскрываемое методами глубинной психологии и составляет «истинную» натуру человека. Все происходящее в бессознательной сфере, безусловно, истинно для человека и составляет часть его самого и его жизни, но это не есть «истинный» человек.
Повторюсь, что проще простого объявить и принять, что человека определяют совокупность его ид, эго и супер-эго[11], что человек есть совокупность своего внешнего поведения и своего бессознательного. Однако дело не в том, существуют ли эти компоненты, а в том, каким из них и в каком сочетании прежде всего уделять внимание, чтобы жить хорошей жизнью и построить хорошее общество; чтобы изменить окружение и педагогические методы, чтобы достичь баланса справедливости.
Итак, какие уроки я вынес из своего заключения в концентрационных лагерях?
Первое: психоанализ не является самым эффективным инструментом для трансформации личности. Гораздо более радикальные перемены, и в несравненно более короткий срок, дает помещение индивида в среду определенного типа[12].
Второе: существовавшая на то время теория психоанализа не объясняла всего, что происходило с заключенными. она мало чем помогала понять, что способствует созданию «хорошей» жизни и «хорошего» человека. Используемый в должной системе координат, психоанализ многое прояснял. Применительно к явлениям, выходившим за пределы его сферы, психоанализ скорее искажал их суть.
Пускай психоанализ мог поведать о сокрытом в человеке, об истинном человеке он говорил гораздо меньше. Поясню на примере: эго никоим образом не выступало в роли жалкого прислужника при ид или суперэго человека. Некоторые люди демонстрировали поразительную силу своего «я», которая, казалось, нисколько не проистекала ни из их ид, ни из их суперэго.
На сегодня это общеизвестные истины – еще с тех пор, как Хайнц Хартманн[13] разработал концепцию автономности эго, а позже вместе с Э. Крисом[14] установил существование нейтрализованной (эго) энергии. Я не мог знать об их теоретических выкладках, позже развитых Эриксоном и Рапапортом[15], когда на себе испытывал, каково выживать в концлагерях и что там творят с личностями заключенных. Первоначальную статью о поведении в экстремальных условиях я пытался создать (или считал, что должен это делать) в рамках доступных в ту пору психоаналитических концепций, которые никак не подходили моей теме. И сами исходные данные, и их толкования упорно не желали укладываться в те теоретические рамки, в которые я пытался их впихнуть.
Подчеркну, чтобы не искажать картину: все это касалось только теории психоанализа и проистекающих из нее взглядов на личность. В реальности термин «психоанализ» предполагает как минимум три разные вещи: метод наблюдения, терапию и свод теорий, описывающих поведение человека и структуру личности. Теория личности является самым слабым звеном в данной системе и определенно нуждается в пересмотре[16]. Зато первый аспект психоанализа – метод наблюдения – более чем убедительно доказал свою ценность и больше всего помог мне. Он дал мне возможность заглянуть в бессознательное заключенных и охранников и осмыслить его. В одном случае это, судя по всему, спасло мне жизнь, а в других позволило оказать помощь товарищам по заключению.
Таким образом, концлагерь преподал мне еще два, казалось бы, противоположных урока. Во-первых, что теория психоанализа не совсем состоятельна, когда применяется вне рамок собственной практики, а практика имеет изъяны, когда используется в неподходящем для нее контексте, например применительно к формированию хорошо интегрированной личности. Во-вторых, что в подходящей обстановке практическое применение психоанализа дает бесценный результат, например через наблюдение учит понимать бессознательные мотивы поведения человека (без оценки предпочтительности поведения или адекватности личности).
Здесь, думаю, лучше всего привести еще один пример. Тестом на хорошо функционирующую и хорошо интегрированную личность считалась способность беспрепятственно выстраивать близкие отношения, любить, испытывать готовность к контакту с силами бессознательного и сублимироваться в «работе», что и было целью психоанализа. Отчужденность от других людей и эмоциональная дистанция с миром рассматривались как недостатки. Из комментариев в главе 5 по поводу группы заключенных, которых я назвал «помазанниками» и чье поведение в концлагерных условиях заслуживало всяческого восхищения, вы увидите, насколько поразили меня эти люди. При всей отчужденности от своего бессознательного, они тем не менее сохраняли себя, оставались верны своим ценностям даже перед лицом запредельных лишений, и лагерный опыт, казалось, едва ли затронул их.
Аналогичное поведение отмечалось у другой группы людей, которых, согласно теории психоанализа, следовало бы рассматривать как пребывавших в крайне невротическом, если не сказать бредовом состоянии и потому легко подверженных распаду личности, что свойственно человеку под действием стресса. Я говорю о свидетелях Иеговы – они не только показывали невероятные высоты человеческого достоинства и нравственного поведения, но и, казалось, обладали иммунитетом против тягот заключения, которые вскоре уничтожили тех, кого я и мои коллеги-психоаналитики относили к разряду очень хорошо интегрированных личностей.
Приведу другой достаточно известный пример. Я имею в виду исследование людей, воспитанных в детских домах в израильских кибуцах и получивших специфический жизненный опыт, который, согласно теории психоанализа, должен был сделать их личности очень неустойчивыми. Они были слишком отчуждены и довольно замкнуты. Психоаналитики посчитали их сильными невротиками. Однако эти же самые люди выносили жесточайшие испытания без всякого ущерба для своих личностей во время войны за независимость Израиля (1947–1949) и позже в ходе скоротечной военной кампании против Египта[17], не говоря уже о трудностях постоянного проживания в приграничных поселках, куда арабы часто устраивали набеги. Все эти люди, которым, согласно теории психоанализа, следовало иметь слабую, готовую рассыпаться личность, на деле показали себя героями, поражая силой и цельностью своих характеров[18].
Напрашивается вопрос, почему психоанализ, доказавший свою ценность как инструмент для постижения человека и изменения его личности, так разочаровывает в других отношениях. Почему он не дает ключа к пониманию «истинной» природы людей, хотя умеет раскрыть в человеке гораздо больше, чем прочие методы? Почему, избавив некоторых от дистресса[19], дав им возможность жить более содержательной жизнью, что он сделал и для меня, психоанализ не мог помочь другим людям обрести целостность, которая позволила бы им выстоять и не сломаться в запредельно неблагоприятных ситуациях?
Потребовалось много времени, прежде чем я нашел ответы. Одна из причин состояла в том, что при своей великой способности разрешать внутренние конфликты, при своей огромной ценности как инструмента для проникновения за фасад внешнего поведения и для понимания, что происходит в самых глубинных закоулках разума, психоаналитическая терапия – в том виде, в каком она была задумана Фрейдом и практиковалась его последователями, на самом деле готова была иметь дело лишь со строго определенной социальной ситуацией. И как таковая, психоаналитическая терапия могла истолковать далеко не все аспекты человеческого разума, изменить лишь некоторые стороны личности, а также накладывала существенные ограничения на пациентов, на практиков и на саму теорию тоже.
Таким образом, психоаналитическая терапия по существу представляла собой очень специфическую среду. Она не могла служить точкой приложения рычага, который извлек бы человека из его социального окружения и явил бы нам его «истинное» лицо. Для пациента пребывать в психоаналитической среде было равносильно смене своего привычного окружения на другое, совершенно особенное. И потому изучение реакций человека в этой конкретной среде могло привести лишь к уместным здесь установкам и открытиям. Если что-либо, открытое во время психоанализа, применять без корректировки за пределами этой конкретной среды, можно запросто допустить ошибки.
Позвольте пояснить на коротком простом примере. Предположим, что двое студентов желают постичь общество, человека и его природу. Первый с этой целью берется наблюдать группу ученых исключительно в процессе их исследовательской деятельности. Скорее всего, он придет к выводу, что каждый ученый (и человек вообще) посвящает себя своим социальным задачам целиком, бескорыстно и беспрекословно, без малейшего нежелания и каких-либо опасений. Все это чтобы достичь цели, которую человек сам себе избрал, а именно служить интересам общества.
Второй студент, наоборот, решает достичь цели, наблюдая за той же группой, но только в течение тех 50 минут после работы, которые ученые проводят в баре через дорогу от лаборатории. Они пропускают по нескольку стаканчиков, слишком уставшие, чтобы сразу двигать домой. Возможно, у них что-то не ладится в работе, а может, они недовольны друг другом, своим директором, своими женами – они дают себе волю. Настал их час сбросить напряжение, накопившееся за долгое время усердного труда. Они полностью раскрепощаются. И в эти короткие минуты даже подначивают друг друга откровенно и без стеснения посудачить обо всем, что у них накипело, о работе, о самих себе, своих супругах и друг о дружке.
Далее предположим, что каждый из отдыхающих ученых прекрасно понимает, что эта «ситуация понарошку» никак не влияет на реалии их жизни. Стремясь сбросить напряжение, они могут доболтаться даже до того, что в их работе нет ни малейшего смысла, хотя прекрасно знают, что это не так. Или способны в порыве бахвальства заявить, что трудятся исключительно ради денег или чтобы зарабатывать не меньше своих вторых половин. И еще могут пожаловаться, что им осточертела эта кабала, что их бесит кто-то из коллег и мало ли что еще.
Предположим, второй наблюдатель по тем или иным причинам заключил, что этот «треп под стаканчик» и представляет истинную мотивацию ученых, их реальные натуры. Из этого он выведет, что вся их упорная и полезная работа в течение дня не более чем ширма для их настоящих желаний, что так они маскируют истинную природу своих «я». И вскоре такой наблюдатель начнет расценивать мелкие претензии, зависть, неоправданные надежды – все, что на самом деле мешает работе, – как единственную мотивацию долгих часов труда.
Очевидно, что оба наблюдателя обратили внимание на важные, хотя и очень разные социальные роли человека. Однако выводов какого-то одного из исследователей для раскрытия истинного образа человека недостаточно. В реальности он сочетает в себе и ту и другую картинку. Это тот же самый человек, только в первом случае он такой, каким бывает на работе, а во втором – когда подвыпил в баре.
Конечно, на сеансе психоанализа пациент максимально сосредоточен на проработке всего, что препятствует ему успешно жить. К психоаналитику ходят не за тем, чтобы дать полный отчет о своей жизни, а чтобы получить помощь в преодолении конкретных трудностей. Даже пустись пациент в пространные описания, что было и есть хорошего в его жизни, рано или поздно аналитик наверняка заметит ему, что раз все обстоит так прекрасно, помощь специалиста вряд ли нужна и незачем тратить драгоценное время на то, что и так в порядке. Затем может выясниться, что рассказ о благополучных сторонах жизни продиктован желанием избежать мыслей о плохом или не выглядеть неблагодарным. Это можно было бы истолковать в том смысле, что благоприятный опыт менее важен или служит лишь как предлог для разговора. На самом деле все хорошее очень реально и очень значимо в жизни, однако для психоанализа оно скорее именно предлог, чтобы начать беседу о негативном.
Если вернуться к опыту моего заключения, психоанализ позволил мне понять более глубинные мотивы окружающих людей и разобраться, почему и как разрушались личности узников. Правда, меня удивляло и сильно разочаровывало, что психоанализ ничем не помог мне самому защититься от подобной участи, как и не объяснял, почему те, кто стойко переносил все испытания, оказались способны на это. Я ясно увидел огромный интерес психоанализа к деструктивным процессам, но не к конструктивным. При этом конструктивное воздействие самого психоанализа я, безусловно, оцениваю высоко.
Почти все психоаналитические исследования сосредоточены на негативном в жизни человека и на способах преодоления тревожности, агрессии и неврозов, хотя это происходит без умышленных стараний аналитиков, а зачастую вопреки заявленным ими взглядам. Что совершенно правомерно: психоанализ имеет дело преимущественно с проблемами такого рода. Но из-за этого в психоанализе нет теории личности с положительной установкой на хорошее. А ведь психоанализ с недавних пор – уже не только теоретическая база для научных дисциплин, изучающих поведение, но и прямое руководство для жизни.
Психоаналитики в числе первых подтвердят, что их теории и практики сейчас используются далеко за пределами узкой области психотерапии. Они прекрасно понимают, как это важно для социологии, образования, эстетики, жизни вообще. Но применение психоанализа за рамками психотерапии чревато серьезными рисками, если не компенсировать его постоянный акцент на все нездоровое и патологическое таким же бережным вниманием к здоровому, нормальному и позитивному. От подобной концентрации на негативе недалеко и до теории, объявляющей нормой для здоровой личности не отсутствие всего ненормального, а преодоление и коррекцию.
Подобное пренебрежение к позитивному таит в себе еще одну угрозу. Мы рискуем уверовать, что, подобно пациентам психотерапевтов, все люди способны достичь самореализации только посредством избавления от недугов. А если это невозможно, то путем компенсации серьезной патологии выдающимися интеллектуальными или творческими свершениями, как у Бетховена, что позволяет создавать бессмертные произведения искусства, но угрожает в процессе разрушить личности самых близких творцу людей.
Предпочесть компенсирование патологии нормальности (по аналогии с точкой зрения религии, что небеса больше радуются раскаявшимся грешникам, чем праведникам) означает занять опасную нравственную позицию как для психотерапии, так и для общества. Заостряясь на трагическом и впечатляющем, мы умаляем значимость всего того, что нужно для обычного счастья и благополучия в кругу семьи и друзей. Такая философия, в центре которой разрушительные инстинкты, в конце концов рискует обернуться пренебрежением к самой жизни. Пускай обычный человек, ничем особым не выделяющийся, живущий нормальной жизнью, и не создает великих шедевров, пускай он не страдает тяжелым неврозом и не компенсирует эмоциональные терзания великими интеллектуальными и художественными свершениями, зато он не причиняет вреда другим – он не станет ввиду отсутствия собственной семьи ломать судьбу обожаемому племяннику и отравлять существование брату[20]. Нормальный человек просто постарается наладить благополучную жизнь для самого себя. Стоит только взять за критерий действий человека патологию, и это сразу обесценит нормальную жизнь или умалит все ее достижения.
Фрейд прекрасно понимал это. Свидетельство тому – его настойчивые утверждения, что никакого психоаналитического Weltanschauung (мировоззрения) не существует. И в целом он обходит стороной вопрос, из чего складывается нормальная личность или как воспитать ребенка ментально здоровым. Но поскольку самым ценным сводом теорий относительно поведения и личности человека мы обязаны именно психоанализу, его и призвали на службу, для которой он оснащен лишь отчасти.











