Читать онлайн Там и всегда
- Автор: Арье Барац
- Жанр: Общая психология
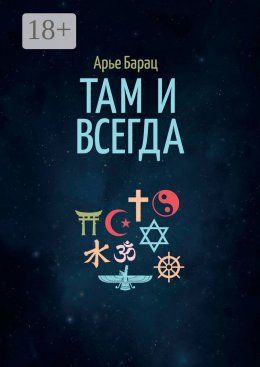
Корректор Татьяна Чернова
Дизайнер обложки Лия Барац-Аруш
© Арье Барац, 2025
© Лия Барац-Аруш, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0053-5789-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие автора
Новое время ознаменовалось массовым отходом общества от религиозных традиций, однако далеко не всегда – от самой религии, от самой веры в Бога. В некоторых случаях разрыв с Церковью сопровождался возникновением нового – индивидуалистического – типа религиозности, который в следующих словах охарактеризовал немецкий историк Иоганн Землер (1725—1791): «Христианство по своему существу есть доведенное Христом до сознания человечества право индивидуума, право каждого иметь свою собственную частную религию в противовес всему, что выдает себя за религию господствующую, обязательную».
Вскоре эта частная религиозность обрела свой голос в экзистенциальной философии, которая отбросив общие метафизические искания, сосредоточилась на анализе личного бытия человека, живущего и действующего здесь и теперь.
Однако, во-первых, действующий здесь и теперь человек, так или иначе, проецирует идеи, отражающие картину происходящего там и всегда, т.е. подразумевает некое религиозное видение. А во-вторых со временем, после того как страсти улеглись, встал вопрос сопряжения этих исходно соперничающих вер – новой индивидуальной и старой соборной. После того как традиционная религия перестала быть в Европе «господствующей» и «обязательной», интерес к ней со стороны частных верующих в значительной степени восстановился. Со своей стороны, табельные конфессии – во всяком случае, некоторые из них – не стояли на месте и зачастую также стали прибегать к новому языку.
Постижение происходящего там и всегда достигается, таким образом, на острие сопряжения современного индивидуального опыта с тянущимся в древность опытом родовым.
В 1980 году я написал книгу «Здесь и теперь», в которой следующим образом сформулировал духовный вызов современности: «Вектор новоевропейской духовности в лице своего детища экзистенциализма неизменно указывает одно и то же направление: вперед и вниз.
Ничего утешительного в этом, конечно, нет. И все же этот трагический ориентир представляется более предпочтительным, а главное, более достойным и подлинным любого «назад и вверх»! Но ультимативен ли сам этот выбор?
Назад – лживо и пошло, вниз – постыло и тошно; значит остается только одно – вперед и вверх».
«Там и всегда» является своеобразным итогом многолетних поисков, осуществлявшихся автором в указанном направлении.
В книгу входят три независимых, но в то же время тесно связанных между собой религиозно-философских очерка: «Квантовая теология», «Психоаналитическая теология» и «Теология дополнительности».
«Квантовая теология» представляет человеческую личность высшим ценностным «квантом», подразумевая тем самым полную невозможность какого-либо разделения людей по уровням (сверхчеловек, недочеловек и т. п.).
В книге «Психоаналитическая теология» обсуждается проблема, каким образом эти «кванты» – эти столь равные в главном человеческие личности – столь сильно расходятся во всем остальном.
Содержательное согласование различных культур и религий возводится к «психологическому» согласию и примирению их родоначальников. Развитие отношений членов семьи библейских патриархов рассматривается как ключ к пониманию взаимоотношения всех мировых религий.
«Теология дополнительности» сосредотачивается на подробном рассмотрении отношения двух религий: иудаизма и христианства, которые представляются как подразумевающие друг друга.
Квантовая теология
Или – или
В одном из своих частных писем Белинский писал: «Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень развития, я и там попросил бы вас дать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр., и пр. – иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови».
Позднее аналогичное высказывание Достоевский вложил в уста Ивана Карамазова: «Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка».
Как мы видим, этот «бунт» был направлен не просто против наивных социалистических проектов, согласно которым иллюзорное «счастье» будущих поколений должно достигаться за счет реальных страданий ныне живущих людей. Иван Карамазов «возвратил билет» в тот рай, который на протяжении веков рисовался традиционной религией. Согласно Достоевскому, даже «временные» кошмары, выпавшие на долю одного только человека, способны перечеркнуть «вечное» благоденствие всех людей. Всякий человек равновесен всему остальному человечеству.
Как бы то ни было, эта неожиданная мысль стала центральным откровением эпохи модерна, более того, стала его главной идейной основой. В первой половине ХХ века представление о краеугольности каждой человеческой личности, ее уникальности и неподменимости заняло центральное место в сознании мыслящих людей и утвердилось в лице целого философского направления – экзистенциальной философии.
Именно эта философия в первую очередь обеспечила распространение индивидуалистического образа жизни и легла в основу уважения прав человека.
П. Тиллих в этой связи писал: «Индивидуализм есть самоутверждение индивидуального „Я“ как такового, безотносительно к его участию в мире. Тем самым он полярен коллективизму, самоутверждению „Я“ как части большого целого, безотносительно к индивидуальному характеру этого „Я“. Индивидуализм вышел из кабалы примитивного коллективизма и средневекового полуколлективизма. Он рос под защитным покровом демократического конформизма и открыто выступил – в умеренной или радикальной форме – в экзистенциализме».
Экзистенциализм громогласно заявил, что, какими бы талантами люди ни обладали, на каком бы профессиональном или интеллектуальном уровне они ни находились, к какой бы нации, религии и культуре ни принадлежали, они стоят перед одной задачей, которую не может выполнить никто, кроме них, а именно: перед задачей самореализации и самоопределения.
Любому предмету предпослан его закон, любой предмет порождается и задается своим законом. Лишь человек, являясь одним из предметов этого мира, не имеет такого закона, но осужден его выработать, самостоятельно решить: кто он?
Сартр писал: «Нет никакой природы человека… Человек просто существует… и поскольку он представляет себя уже после того, как начал существовать, и после этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает».
Считается, что впервые близкое определение было дано Пико делла Мирандолла (1463—1494), который в «Речи о достоинстве человека» вкладывает в уста Всевышнего следующие слова: «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого Я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные».1
Итак, пока человек жив, он призван искать и творить свой образ, призван отвечать на требования, предъявляемые достоинством его личности. При этом существенно, что человеческое бытие не гарантировано, что его реализация осуществляется именно за счет возможности полного срыва. Таким образом, в своем последнем пределе человек определяется бинарно: существует – не существует; состоялся – не состоялся; «прошел» – «не прошел».
На протяжении всей своей жизни человек стоит перед глобальным вопросом: «Быть или не быть?». Он каждое мгновение решает, перепроверяет и переоценивает свой жизненный выбор, он каждое мгновение определяется в существующем моменте и соответствующим образом задает жизненные ситуации, перерождаясь тем самым либо в «низшее, неразумное существо, либо в высшее, божественное».
Оставаясь в общих пределах позитивного экзистенциального выбора, каждый человек, разумеется, существенно отличается от других людей, ибо каждый человек эксклюзивен, каждому поручена его уникальная жизненная задача. Но это те отличия, которые никак не сказываются на главном. Заранее неуместно и невозможно подразделять людей по каким-либо «уровням»: скрипач-виртуоз в качестве хирурга находится на чудовищно низком уровне, а блестящий хирург может находиться на весьма низком уровне в качестве живописца и т. д. Что же касается собственно экзистенциального уровня, уровня человечности, то он в своей основе один, ибо ни один человек не родился без совести.
Итак, не столь важно, в какой мере мы реализуем свои таланты – отлично, хорошо или удовлетворительно. В первую очередь важно не получить «неуд», то есть принять глобальное стратегическое решение «быть».
Кьеркегор в следующих словах описывает эту дилемму: «Не раз говорил я тебе и вновь и вновь повторяю, вернее, восклицаю: выбор необходим, решайся: „или – или“… Главная задача человека не в обогащении своего ума различными познаниями, а в воспитании и совершенствовании своей личности, своего „Я“… Выбор сам по себе имеет решающее значение для внутреннего содержания личности: делая выбор, она вся наполняется выбранным, если же она не выбирает, то чахнет и гибнет… Выбираемое находится в самой тесной связи с выбирающим, и в то время, когда перед человеком стоит жизненная дилемма „или – или“, сама жизнь продолжает ведь увлекать его по своему течению, так что чем более он будет медлить с решением вопроса о выборе, тем труднее и сложнее становится этот последний, несмотря на неустанную деятельность мышления, посредством которого человек надеется яснее и определеннее разграничить понятия, разделенные „или – или“… Единственный абсолютный выбор – это выбор между добром и злом».2
Так что в последнем пределе глобальный выбор человека оказывается однозначным: он выбирает либо жизнь, либо смерть. Нельзя быть «между», нельзя быть человеком частично, нельзя быть «недочеловеком», «получеловеком» и т. д. Экзистенциальный выбор квантует человека, либо относя его к бытию, либо уводя в небытие. Причем, как это справедливо отметил Кьеркегор, уклонение от выбора равнозначно уходу в небытие. В этом – все так непохожие друг на друга люди – совершенно и идеально равны.
В рамках того определения человека, которое дал ему Пико делла Мирандолла, никакому существу не дано быть «выше» его, и, соответственно, ни один человек не может считаться по своей «природе» больше, чем другой его собрат.
Эта истина нашла свое отражение во «Всеобщей декларации прав человека» (1948), в первой статье которой говорится: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью».
Формула этого юридического определения строго экзистенциальна, она не задает и не связывает человека какой-либо природой, но оговаривает, что со своим появлением на свет он наделяется разумом и совестью, то есть инструментом выработки собственного выбора.
Нет ничего удивительного в том, что «Декларация прав человека» является ровесницей экзистенциализма, оказавшегося на пике своей популярности именно в 40—50-х годах ХХ века.
Диалогический экзистенциализм
В ту пору, в тридцатые и особенно сороковые – пятидесятые годы, экзистенциализм воспринимался как исключительно «современная» философия, как философия того трагического «момента». Так, в 1940 году Бердяев писал: «Со времени появления книг Хайдеггера и Ясперса, и особенно Сартра во Франции, экзистенциальная философия стала модной. Происхождение ее возводят к Кьеркегору, который был оценен послевоенным поколением, пережившим угрожаемость человека, страх, ужас, отчаяния. Я всегда был экзистенциальным философом, и за это на меня нападали. Думаю также, что русская философия, в наиболее своеобразных своих течениях, всегда склонялась к экзистенциальному типу философствования. Это, конечно, наиболее верно по отношению к Достоевскому как философу, а также к Л. Шестову».3
А вот как пишет о победной поступи экзистенциализма Тиллих в своей книге «Мужество быть»: «Экзистенциализм стал реальностью во всех странах Запада. Он выразился во всех сферах духовного творчества человека, он пронизал все образованные слои общества. Экзистенциализм нашего века – не изобретение богемного философа или невротика-романиста, не сенсационное преувеличение ради денег и популярности, не унылая игра с отрицающим началом. Все это может присутствовать в нем, но сам по себе он нечто иное. Экзистенциализм есть выражение тревоги бессмысленности и попытка принять эту тревогу в мужество быть самим собою»4
Но в то же время экзистенциализм воспринимал себя и как духовное явление с долгой и богатой историей. Так, в том же отрывке Бердяев пишет: «Тема экзистенциальной философии совсем не нова. Всегда существовали философы, которые вкладывали в свою философию себя, то есть познающего как существующего. Бл. Августин, Паскаль, отчасти Мен де Биран и Шопенгауэр были экзистенциальными философами. Да у всех подлинных философов был этот элемент, даже у Спинозы и Гегеля».5
Предполагалось, что «мода» на экзистенциализм может пройти, но при этом сама эта философия виделась вечной, причем некоторые связывали эту ее вечность с привязанностью к религии. Так, Норман Мейлер в своей работе «Белый негр» пишет: «Чтобы стать экзистенциалистом, надо обрести понимание самого себя, своих желаний, своего гнева и тревоги, своей тоски – чем она рождена, что могло бы ее утолить. Человек слишком цивилизованный сделается экзистенциалистом лишь ради моды и изменит этой позиции, когда мода пройдет. Настоящий экзистенциалист (пусть Сартр это не признает) – это по необходимости человек религиозный, сознающий свое „назначение“, в чем бы оно ни заключалось, ибо жизнь, направленная верой в необходимость действия, – жизнь, построенная на признании, что главный побудительный фактор существования есть поиск, чьи цели полны смысла, хотя и таинственного; вести такую жизнь невозможно, если эмоциями, которыми она движется, не руководит глубокое убеждение»6
Не секрет, что «мода» на экзистенциализм действительно прошла. Однако сама эта философия осталась.
Во-первых, экзистенциализм продолжает развиваться в рамках логотерапии, то есть экзистенциальной психологии, но главное – он неявно присутствует в многочисленных духовных и интеллектуальных поисках, связанных с осмыслением религиозных традиций.
Разумеется, экзистенциализм исходно находился в тесных взаимоотношениях с религией откровения и ее базисными текстами, и все же даже так называемые «религиозные экзистенциалисты» не принимали всерьез ни Священного Предания, ни Устной Торы. Экзистенциалисты обратились к персонажам Танаха через голову религиозных традиций, усматривая в самих этих традициях лишь отжившие свой век мертвые оболочки.
Причем в ряде случаев религия оказывалась способна оценить эти духовные тенденции своего времени. Так, первый главный раввин Израиля рав Авраам Ицхак Кук (1865—1935) писал: «Свежий дух атеизма очищает всякую тину, которая налипла на нижнюю поверхность духа веры, и посредством этого очищаются небеса».7
Классический религиозный экзистенциализм воспринимал религиозные традиции исключительно в рамках собственных узких интересов, а все, что в них не вмещалось, расценивал как устаревший и малозначительный «антураж».
Томас Пейн (1737—1809) в следующих словах сформулировал этот подход: «Я верю в единого Бога, и не более, и надеюсь на счастье за пределами этой жизни. Я верю в равенство людей и полагаю, что религиозные обязанности состоят в справедливости поступков… Но, для того чтобы не предположили, что я вдобавок к этому верю еще во что-то, я… сказал, во что я не верю… Я не верю в религии, исповедуемые еврейской, римской, греческой, турецкой, протестантской или какой-либо другой известной мне общиной. Мой собственный ум – моя церковь»8
Участвовать в церковной жизни, по словам Кьеркегора, – значит «принимать Бога за дурака». Он говорил, что «разница между театром и церковью в том, что театр честно и правдиво признает, что он есть; церковь же в отличие от театра лживо пытается всячески скрыть, что она есть»9
В еврейском мире наблюдалась аналогичная картина. Не расстававшийся с Танахом сионист Бен-Гурион ни во что не ставил раввинистическую традицию, а плодовитый религиозный мыслитель Мартин Бубер не находил себя обязанным исполнять заповеди Торы. Никакого значения не придавал религиозной практике также и Лев Шестов.
Но со временем ситуация изменилась, со временем «индивидуалисты» стали замечать, что традиционные религии не сводятся к «статутарности» и «корпоративности», что их приверженцы не во всех случаях «принимают Бога за дурака». Экзистенциализм ощутил потребность соотнести свою позицию с различными религиозными учениями. А потому, для того чтобы отличить его от классического религиозного экзистенциализма, я назвал бы такого рода обновленный экзистенциализм – диалогическим.
На стыке второго и третьего тысячелетий парадоксальная универсальность экзистенциализма побудила его искать следы своего подхода во всех наличествующих традициях и культурах, выявляя среди них тем самым наиболее совершенные.
Подобно тому, как христианские миссионеры обошли весь свет, чтобы донести Благую весть до всех народов, до самого отдаленного и безвестного племени, так экзистенциализм стремится проанализировать и истолковать всевозможные религии и культуры, надеясь привить их к своему единственному смыслу.
Это стремление составляет неотчуждаемый компонент того общего позитивного отношения европейской философии ко всем явлениям человеческой культуры, о котором в следующих словах говорит российский философ А. В. Ахутин: «Каждая культура – бывшая и нынешняя – были и существуют всерьез, а не в качестве ступенек, этапов, каких-то недо-разумений, недо-бытий. Каждая культура – полноценный и общезначимый урок человеческого само-обучения, само-образования. Они поучительны целиком, как равноценные, равноосновательные, равномощные образы мышления и бытия»10
Установление диалога между традиционной и автономной духовностью является требованием времени, более того, требованием самого мышления, как это провозгласил В. С. Библер в своей книге «От наукоучения – к логике культуры»: «Взаимопонимание людей различных исторических эпох, различных логических культур достигается, как я предполагаю, не за счет приведения различных логик, различных смыслов всеобщности к единому знаменателю, а за счет своеобразного парадокса общения этих различных логик, различных форм всеобщности… Такое общение всегда составляет средоточие философского размышления, дает суть того „философствования“, что насущно не только для мышления философа, но и составляет смысл самого феномена – мысли»11
Итак, в этом диалоге экзистенциализма с религиозными традициями видится требование времени, причем в равной мере обращенное к обеим сторонам. То есть речь действительно идет не о приведении всех культур к «единому знаменателю» экзистенциализма, а о диалоге между ними. Не только экзистенциализм «спасает» религию, раскрывая для современного человека ее смысл, но и религиозная традиция обогащает экзистенциализм, расширяя его горизонты. Несколько забегая вперед, я отмечу, что обозначенные выше экзистенциальные идеи квантовых свойств человеческой личности могут быть значительно углублены именно за счет религиозных идей (что, собственно, и позволит нам в дальнейшем говорить о квантовой теологии).
При этом вполне очевидно, что в первую очередь экзистенциализму важно соотнестись с теми религиями, на базе которых он сам сформировался, а именно – с иудаизмом и христианством, и что наиболее совершенную веру он может разыскать только в иудео-христианском религиозном пространстве. Это с одной стороны. С другой стороны, обе эти религии сами столкнулись с серьезным вызовом: глубочайшие религиозные истины вдруг оказались высказаны (экзистенциалистами) вне всякой связи с ними.
В каких же взаимоотношениях находится экзистенциализм со своими предшественниками?
Диалогика
Взаимоотношения экзистенциализма с христианской религией, безусловно, можно назвать предельно близкими. Причем существует пункт, в котором они практически целиком совпадают. Действительно, экзистенциализм можно представить как следующую стадию христианской религии, как следующую стадию протестантизма, стадию, на которой (причем глубоко в духе самого христианства) происходит отказ уже от любой обрядности, стадию, на которой религиозность достигает предельно неформализуемого характера.
В лице экзистенциализма церковное христианство впервые столкнулось с той критикой, которой само оно на протяжении веков подвергало иудеев: важен «внутренний человек», а не «внешние обряды».
Более того, в христианских терминах экзистенциализм можно даже понять как «подражание Христу», но не в церковном смысле (предполагающем причастие), а в прямом, то есть, скорее, как подверженность «влиянию».
Христианство воспринимает Иисуса как личность, поднявшуюся над «формальным законом». Правильно ли такое восприятие по отношению к историческому Иисусу, в данном случае для нас несущественно, существенно то, что это восприятие создало парадигму личности, стоящей над «формальным законом» («Не даем мы тебе, о Адам… особой обязанности, чтобы… обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению»).
В этом контексте экзистенциализм в каком-то аспекте воспринимает каждого человека как Мессию в его христианском понимании, то есть как «путь, истину и жизнь», как абсолютного автора собственной судьбы, возвышающегося над любым законом и стоящего выше любого канона.
Здесь показательно отношение экзистенциализма к человеку как к творцу своей личности. Евангелие постоянно подчеркивает, что «сбываются Писания», сбывается предреченное Пророками, однако это предречение принципиально отличается от предопределения. Пророческое предречение в христианском понимании тождественно осознанию своей миссии, оно не только предполагает свободу, но и творит ее. Такое пророчество противопоставляется тому языческому прорицанию, о котором говорится почти в каждой греческой трагедии и которое представляет собой рабство судьбе.
Смысл евангельской «трагедии» в свободном, а не в вынужденном принятии своей судьбы, в осмыслении своего Часа. «Думаешь, – говорит Иисус Петру, – что я не могу теперь умолить Отца Моего и Он представит мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?»
Но в этом отношении шекспировская трагедия, которая по праву считается одним из истоков экзистенциализма, представляет собой не столько линейное развитие греческой трагедии, сколько ее полное преображение под воздействием Евангелия. Действительно, сюжет «Гамлета» заключается не в том, что датский принц повязан каким-то роком, а в том, что ему надлежит достойно принять свой Час. В последнем акте Гамлет говорит: «Надо быть выше суеверий. На всё Господня воля. Даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно этого не миновать. Главное – быть всегда наготове. Раз никто не знает своего смертного часа, отчего не собраться заблаговременно?».
А знаменитый монолог Гамлета, в котором он вопрошает: «Быть или не быть?» – является чистым аналогом Гефсиманского моления Иисуса: «Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты». И Пастернак обыгрывает эту параллель в своем стихотворении «Гамлет».
Итак, сопоставление экзистенциализма с христианством невольно хочется представить как сопоставление «фаз». Как бы то ни было, экзистенциализм имеет не только чисто секулярную философскую ипостась, но и ипостась религиозную, «протестантскую», в которой всей церковью объявляется уже не какая-то община, а каждый индивид.
Поэтому при всем том, что экзистенциализм невозможно не сопоставлять с церковным учением, его нельзя этому учению и до конца противопоставить.
В отношении иудаизма ситуация несколько другая: иудаизм укореняет экзистенциальные прозрения не в рефлексии, а в самой своей религиозной традиции, в откровении.
При этом, на тысячелетия предвосхищая определение человека, данное Пико делла Мирандолла, иудаизм категорически не соглашается с ним относительно «обязанностей». Точнее, иудаизм считает, что в отличие от народов евреи известные обязанности от Бога как раз получили, и очень дорожит этими обязанностями, как особой «меткой», как знаком избранности. Однако в отношении народов определение Пико делла Мирандолла иудаизм находит безупречным. Согласно иудейскому учению о семи заповедях сыновей Ноаха, на неевреев наложено шесть запретов (идолослужения, богохульства, кровопролития, кровосмешения, разбоя и поедания живьем) и дано лишь одно предписание – творить справедливые суды, что, собственно, и означает самому определять свои обязанности, творить свой закон, а не подчиняться (в этом смысле существенно отметить, что, будучи евреем, исторический Иисус как раз вовсе не ставил себя выше закона).
Иудейские параллели
Как бы то ни было, базисная экзистенциальная идея квантуемости человеческой личности почти два тысячелетия назад была записана в Талмуде: «Адам был создан единственным… ради мира между людьми, чтобы не говорил человек человеку: „Мой отец больше твоего“ и чтобы выразить величие Пресвятого. Ибо человек чеканит много монет одним чеканом и все они похожи друг на друга. А Царь над царями царей отчеканил всех людей чеканом Первого Человека, но ни один из них не похож на другого. Поэтому каждый должен говорить: „Ради меня создан мир“» (Сангедрин, 37.а).
А также: «Всесвятой создал человека одним, чтобы научить тебя, что тот, кто спас одну душу, – спас целый мир»12
Это положение настолько глубоко укоренено в традиции, настолько живет в языке еврейского народа, что невозможно представить, чтобы никто из многочисленных евреев, переписывавшихся с Достоевским в связи с его антисемитизмом, этих слов не привел. Очень может быть, что пассаж об отречении от мировой гармонии, построенной на слезах одного замученного ребенка, – лишь вольная литературная переработка услышанных Достоевским талмудических высказываний.
Как бы то ни было, не только этому положению, но и вообще любому высказыванию экзистенциалистов можно найти «параллельные места» в писаниях еврейских мудрецов, живших задолго до Достоевского, Кьеркегора и Сартра.
Рассмотрим классическое высказывание Сартра: «Экзистенциализм учит, что есть по крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек. Это означает, что человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется»13
Иудаизм полностью согласен с этой формулировкой. Так, рабби Моше Хаим Луцатто, живший за два века до Сартра, пишет в своей книге «Дерех Ашем»: «Основа сущности мира – в высших силах. Все, что существует в нижнем физическом мире, есть порождение этих сил… Согласно этому принципу, начало всего сущего – вверху, в высших силах, а конец – внизу. Однако есть одно исключение из этого правила: все, что касается человеческого выбора. Творец пожелал, чтобы у человека была возможность свободно выбирать между добром и злом, и поэтому создал его независимым в этом от кого бы то ни было. И наоборот, Всевышний дал человеку силу быть побудительной причиной изменения самого мира и его творения согласно тому, что он выберет по своему желанию» (5.3—4).
Причем истоки этого понимания прослеживаются гораздо раньше. Иудейская традиция издавна обращала внимание на то, что если животные созданы «по роду» их, то человек – «по образу» Всевышнего. Иными словами, истинным субъектом животного мира является род, общее родовое начало, но человеческий субъект единичен и уникален. Животные творились популяциями, а не отдельными особями, но человек «был создан единственным» (Сангедрин, 37.а).
Уже из одной этой разницы происхождения – «по роду» и «по образу» – видно, что над животными стоят законы их естества и именно они определяют поведение отдельных особей, в то время как человек исходно единичен и существует вопреки общему.
Итак, согласно иудаизму, над человеком не стоит определяющего его внешнего закона, но он руководствуется самостоятельными решениями. Это значит, что человек в принципе неспособен быть «нейтральным» предметом, каким только и может быть любой другой предмет, включая всякое животное, подчиненное своим инстинктам. Человеку дано либо возвыситься над своим животным инстинктом – и тогда он выше животного, либо покориться этому инстинкту – и тогда он ниже его. Но быть просто животным, совпадать со своим «естеством» ему не дано.
Именно так трактует комментатор ХI века рабби Шломо Ицхаки (Раши) слова Торы: «Да владычествует («ваирду») над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом» (Бытие, 1.26). Раши пишет: «Ваирду» может означать как «властвовать», так и «опускаться». Если он (человек) удостоится того, то властвует над зверем и скотом, если же не удостоится, то опускается ниже их, и зверь управляет им».
Чтобы показать, в какой мере концепции человека в экзистенциализме и иудаизме совпадают, можно привести еще пару параллельных высказываний. Так, Сартр пишет: «Человек осужден быть свободным. Осужден потому, что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает. Экзистенциалист не верит во всесилие страсти. Он никогда не станет утверждать, что благородная страсть – это всесокрушающий поток, который неумолимо толкает человека на совершение определенных поступков и поэтому может служить извинением. Он полагает, что человек ответственен за свои страсти»14
В Талмуде (Нида, 16.б) говорится: «Господь «решает над каплей, кто из нее произойдет – мужчина или женщина, слабый или сильный, бедный или богатый, низкорослый или высокий… а также решает все, что с ним (человеком) случится. Но будет ли он праведным или нечестивым – этого не решает, а отдает (выбор) в руки самого человека, одного его…». И далее: «Всё во власти небес, кроме страха небес».
Сартр: «Человек существует лишь настолько, насколько он себя осуществляет. Он представляет собой не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь… Человек живет своей жизнью, он создает свой облик, а вне этого облика ничего нет… В счет идет только реальность. Мечты, ожидания и надежды позволяют определить человека лишь как обманчивый сон»15
Луцатто пишет: «Глубина замысла Творца состоит в том, что человек сам будет полным владельцем своего блага, как в общем, так и в частном… Человек займет именно ту ступень, которую он избрал и на которую себя поставил. И будут в этом Собрании высшие и низшие, великие и малые, но только сам человек явится причиной своего возвышения или принижения, так что у него вообще не будет никаких претензий к другому» (Дерех Ашем, 2.7).
Этот список «параллельных мест» можно было бы продолжить. Но уже из приведенного ясно, что концепции человека в иудаизме и экзистенциализме в своей основе идентичны.
Теория Раскольникова
А теперь, после этого небольшого обзора, вернемся к проблеме квантуемости человеческой личности, а точнее, к возможности обогащения этой модернистской идеи средствами религиозной традиции.
Мы установили, что человеком можно либо быть, либо не быть, но что им нельзя быть частично, наполовину, что в качестве людей все находятся на одном-единственном уровне. Исходно «недочеловеков» не существует по определению (хотя они и возникают в соответствии с суверенным решением того, кто некогда был полноценным человеком). Это положение можно было бы назвать первым постулатом квантовой теологии.
Между тем известно, что помимо соблазна занести кого-то в разряд недочеловеков существует также соблазн представить кого-либо сверхчеловеком. В качестве классического примера такого рода соблазнов можно привести идею Раскольникова, изложенную в романе Достоевского «Преступление и наказание»: «Люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово… если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь».
Здесь, правда, используется противоречивая терминология, согласно которой «низший» тип соответствует «обыкновенному», а «собственно люди» – «сверхчеловекам». Но речь, по существу, идет именно о «сверхчеловеках», так как они – эти высокоодаренные особи – отличаются от обыкновенных людей тем, что не подчиняются их законам и воспринимают их как «материал» для своих свершений.
Иногда такого рода идеи проявляют себя в проектах выведения «высшей расы», которая будет превосходить нынешнее человечество, иногда она высказывается в более расплывчатой форме. Так, Гёте писал: «Представьте себе природу, которая как бы стоит у игорного стола и неустанно выкрикивает: удваиваю! То есть, пользуясь уже выигранным, счастливо, до бесконечности продолжает игру сквозь все области своей деятельности. Камень, животное, растение – всё после таких счастливых ходов постоянно снова идет на ставку, и кто знает, не является ли весь человек, в свою очередь, только ставкой на высшую цель».16 В своеобразной форме эта идея высказывалась Фридрихом Ницше: «Я учу о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти».17
Она также проскальзывает у многих оккультистов и особое развитие получила в учении «Нью-эйдж».
Ньюэйджеры связывают начало своей «новой эры» с возникновением «нового человека». Возглавлявшая Ассоциацию гуманистической психологии Джин Хаустон утверждает, что «это будет скачок, сравнимый по своим масштабам с расстоянием между неандертальцем и современным человеком. В результате глобальной трансформации сознания на планете возникнет раса человекобогов»18
Не знаю, как «трансформация сознания», но достижения генной инженерии XXI века (открывающие возможность создания живого существа с любыми заранее установленными параметрами) ставят человечество именно перед такого рода соблазном – произвести «сверхчеловека», породить «человекобожество».
Как известно, именно эта идея (а вовсе не немецкий национализм) лежала в основе нацистской идеологии. Авторы исследования «Утро магов» Луи Повель и Жак Бержье пишут: «В Сталинграде не коммунизм восторжествовал над фашизмом, или, вернее, произошло не только это. Если взглянуть с более отдаленной позиции, то есть с той точки, откуда можно оценить смысл таких грандиозных событий, то это наша гуманистическая цивилизация остановила грандиозное разрастание другой цивилизации, люциферовской, магической, созданной не для человека, а для „чего-то большего, чем человек“»19
Авторы не указывают, из какого источника они взяли этот оборот «что-то большее, чем человек», но оборот этот весьма характерен.
В основе полученного на Синае откровения лежит положение, что быть «больше, чем человек» невозможно; что тот, кто мнит себя большим, на деле оказывается заведомо меньшим или, точнее, согласно первому постулату квантовой теологии, вообще низводится из бытия.
Итак, никакой сын Адама исходно не может быть ни меньшим и ни большим человеком, чем любой другой человек. Человек – это образ и подобие Бога. Поэтому если кто-то и может быть больше человека, так это только его Создатель.
Между тем именно в этом пункте религия сообщает квантовой теологии новое и весьма глубокое измерение. Убеленные сединой подходы христианства и иудаизма позволяют значительно расширить модернистское учение о квантуемости человеческой личности.
Религиозное измерение
Начнем с иудаизма, согласно которому человек является высшим из всех творений и единственным богоравным из них. Так, слова Торы: «…навел Господь крепкий сон на человека» (Быт., 2.21) – трактуются мидрашем следующим образом: «Когда Господь Пресвятой создал первого человека, ангелы служения ошибались и пытались называть его (человека) Пресвятым. На что это похоже? На царя и его наместника, которые ехали в колеснице. Граждане желали приветствовать царя и кричали „Государь!“, но не знали, кто из них (царь). Что же сделал царь? Столкнул одного с колесницы, и все узнали, кто из них царь. Так же, когда Господь создал Первого человека, ошибались ангелы. Что же сделал Господь? Навел на него сон, и все узнали, что это человек» (Берешит Рабба, 8.9).
Это с одной стороны. С другой стороны, согласно Торе, не существует высших и низших людей, как сказано: «Один человек пришел к Равве и сказал ему: „Сказал мне градоначальник: ступай, убей некоего человека, а если не сделаешь так, то я убью тебя. Что мне делать?“ Тот ответил ему: „Пусть убьют тебя, но сам не убивай. Кто сказал тебе, что твоя кровь краснее или что кровь того человека краснее твоей? Не замещает одна душа другую, и не существует человека, которому было бы разрешено спасти свою жизнь благодаря убийству другого“» (Сангедрин, 74.а; Йома, 82.б).
Между тем нетрудно заметить, что это ясное прозрение всеобщего человеческого равенства самым тесным образом связано с запретом идолослужения, с запретом поклоняться всему, что нашим воображением чудится стоящим «выше, чем человек».
В самом деле, главным положением любой языческой религии является незыблемая вера именно в то, что имеются существа и силы (не являющиеся Богом Израиля), которые «выше, чем человек». Согласно любой языческой вере, боги (в том числе боги, воплощенные в тела растений, животных и людей: жрецов и царей) видятся стоящими неизмеримо выше простых смертных. И если в радикальных языческих культах, которые Всевышний повелел искоренить, эта истина проявляется в крайнем пренебрежении человеческой жизнью, вплоть до ритуальных убийств, то в язычестве умеренном, которое Всевышний терпит, она проявляется на ментальном уровне: люди заведомо признаются неравными, представляются сущностно друг другу подчиненными, видятся винтиками каких-то собственно ценных «божественных» структур.
Синайское откровение началось словами: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов сверх Меня. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде под землею. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель» (Исход, 20:2—5).
Между тем подобные, разбросанные по всей Торе категорические запреты на поклонение «чужим богам» равнозначны провозглашению человеческой личности высшей ценностью (тварного мира), а тем самым также и полного равноправия всех людей. Так, слова Торы: «Познай же ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу; нет другого» (Втор., 4:39) – равноценны утверждению того, что человек пределен, что нельзя преодолеть «человеческий уровень» и выйти на «уровень более высокий», ибо попросту – «нет другого». Вообразить «другого» – значит, по меньшей мере, обмануться.
Иными словами, из аксиомы «нет другого» с необходимостью выводится теорема: «Чтобы никто не говорил: мой отец больше твоего». Если нет «богов», то нет и никого (кроме истинного Бога) выше человека, а значит, и никакой человек не может преодолеть общечеловеческий уровень и в сущностном отношении стать выше другого своего собрата. Каждый человек пределен по своей ценности и призван ощущать, что «ради него создан мир», хотя его кровь и не краснее крови других сынов Адама.
Христианство привносит в эту ситуацию дополнительный элемент. Согласно христианским представлениям, даже Создатель человека оказывается… не больше Своего создания!
Действительно, христиане, считающие Иисуса Богочеловеком, то есть заведомо «кем-то большим, чем человек», одновременно провозглашают, что он пришел для того, чтобы умереть за «обыкновенных людей», а не для того, чтобы принести их в жертву своему «новому слову»!
Но тем самым утверждается, что ценность жизни «богочеловека» не выше ценности жизни простого смертного, как сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного» (Ин., 3.16). А также: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой» (Мф., 20.26).
Таким образом, христиане исповедуют, что существо, созданное по образу и подобию Бога, столь же ценно, как и сам Бог, во всяком случае, как человек, вмещающий в себя Божество. Но тем самым христиане – в отличие от нацистов, ньюэйджеров и прочих, в том числе вполне доброкачественных, язычников – задают второй постулат квантовой теологии: «богочеловек», то есть тот, кто вроде бы по определению «больше, чем человек», на деле не больше его. Подобие Божественного образа оказывается подобно Ему также и по своей ценности.
Тем самым христианство вводит второй постулат квантовой теологии, согласно которому человеком нельзя быть не только наполовину, но также и на сто пятьдесят или двести процентов.
Высшая теология
Этот же постулат, хотя и несколько иным образом, формулирует также и еврейская традиция.
С одной стороны, Тора ставит Израиль «выше всех народов» (Втор., 26:19), радикально выделяет его: «У Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих благословил Господь и избрал вас из всех народов» (Втор., 10.14), но с другой – «Не таковы ли и вы для Меня, сыны Израилевы, как сыны Куша?» (Амос, 9:7).
Таким образом, провозглашая Израиль «большим», Всевышний одновременно оставляет его также и «равным» всем прочим людям.
Парадокс этот отражает идею «избрания», которое подразумевает равенство. Ведь, что бы мы ни выбирали, мы выбираем из одного класса предметов. Высматривая на рынке кочан капусты, покупатель выискивает «лучший», но все же кочан. Выбор между гвоздем и золотым ожерельем трудно назвать выбором. Это, скорее, какой-то тест.
Тора подчеркивает, что Израиль избирается среди равных ему народов: «Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы быть Ему народом, дорогим достоянием из всех народов, которые на лице земли. Не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но из любви Господа к вам и ради соблюдения Им клятвы, которою клялся Он отцам вашим» (Втор., 7:6—8).
Агада сообщает, что, прежде чем вручить Тору Израилю, Всевышний предлагал ее и другим народам. Одновременно, кем бы человек ни родился – эскимосом, пигмеем или англосаксом, – он вправе войти в завет Авраама и разделить судьбу Израиля.
Избрание Израиля, таким образом, подобно избранию супруги, которое исходно предполагает ее равенство со всеми прочими женщинами. Человек выбирает себе спутницу жизни из женщин, а не из широкого набора предметов, в которые наряду с женщинами входят также животные и минералы.
Однако, выбрав девушку себе в жены, что-то в ней и в себе мужчина при этом меняет, чем-то их души дополнительно обогащаются. Теперь это уже не два субъекта, а три: два отдельных человека и одна пара! Женатый человек больше себя самого холостого.
Израиль находится с Создателем в союзе, аналогичном брачному, как сказано: «Я простер крыло Мое над тобою, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой – слово Господа Бога – и ты стала Моею» (Иехезкель, 16.8—9).
Это объясняет те положения иудаизма, которые со стороны могут выглядеть провозглашением «еврейского превосходства».
Так, классифицируя все живые творения, рабби Йегуда Галеви (1075—1141) разделяет их на четыре уровня: растительный, животный, говорящий (человечество) и пророческий (Израиль) (Кузари, 1:31—42).
Этой классификации вторит учение о «дополнительной еврейской душе». Традиция говорит о трех уровнях души: «нефеш», «руах», «нешама», где «нефеш» соответствует животному началу, «руах» – человеческому, а «нешама» – Божественному. Но при этом «нешама» присутствует только в Израиле.
Однако присутствует она в Израиле сверхприродно, через союз с Богом. Даже если «пророческий» уровень, уровень «нешамы», кому-то захочется назвать «сверхчеловеческим» уровнем, он все равно не будет соответствовать «чему-то большему, чем человек».
Таким образом, «еврейское превосходство» полностью вписывается в брачную логику, предполагающую взаимное обогащение союзных душ. Брачная душа «мощнее» холостой, только и всего.
Однако этот образ открывает в «квантовой теологии» дополнительный поворот.
Выше мы определили, что человек запределен и бесконечен, что он по определению не может быть превзойден.
Действительно, когда мы имеем дело с бесконечностью, то обычные арифметические действия теряют силу. Элементарная математика учит нас, что если к бесконечности прибавить три миллиарда, то в результате такого сложения получится все та же бесконечность, как если бы никто к ней ничего не прибавлял.
Более того, даже в результате умножения бесконечности на три миллиарда она остается все той же бесконечностью. Вопреки здравой логике не получается три миллиарда бесконечностей!
С человеком вроде должно было бы происходить то же самое: сколько бы и каких бы выдающихся качеств он ни приобретал, выше самого своего человечества ему прыгнуть не дано, нового сверхчеловеческого качества он приобрести не способен. Человека, ставшего великим художником или великим хирургом, есть за что уважать (respect), но его успех ни на грамм не увеличивает его базисное человеческое достоинство (dignity), как умножение бесконечности на тридцать миллиардов не делает ее большей бесконечностью.
Сказать о каком-то человеке, что он «больше» других людей, так же ложно, как сказать о какой-то бесконечности, что она (в три миллиарда раз) «больше» другой.
Но в действительности нечто подобное как раз случается! Как учит не «элементарная», а «высшая математика», в ряде случаев можно говорить о более мощных и менее мощных бесконечностях!
В самом деле, теория множеств показала, что бесконечность бесконечности рознь и что существуют способы соизмерения бесконечностей через понятие мощности. Возьмем, например, ряд натуральных чисел (с которым имеет дело арифметика). Он вроде бы бесконечен, и ничего большего помыслить уже нельзя. Между тем существует также и ряд действительных чисел, континуум (с которым имеет дело дифференциальное исчисление). Тут выясняется, что между каждыми двумя членами натурального ряда располагается бесконечное число действительных чисел.
Таким образом, бесконечное множество рациональных чисел по мощности уступает бесконечному множеству чисел действительных, включающих в себя также и числа иррациональные! Существуют аспекты, в которых бесконечности все же тягаются силами!
Также и супружество. Душа каждого из супругов обогащена парной ей душой. Свободен ли человек или состоит в браке, обычно заметно с первого взгляда, особенно в отношении женщины: душа замужней женщины мощнее девической души.
То же самое и с избранием Израиля. По своей «внутренней» природе «сыны Израиля, как сыны Куша», однако «внешняя» любовь к ним Бога наращивает их душу. В результате человечность Израиля оказывается более мощной, нежели человечность прочих сыновей Ноаха.
В подавляющем большинстве математических преобразований оперирование бесконечностью никак не будет учитывать ее мощности, но существуют ситуации, в которых эта разность между бесконечностями все же всплывает.
В этой связи уместно было бы рассмотреть следующее парадоксальное высказывание Рамхаля: «Один из глубочайших принципов управления миром – это разделение на Израиль и народы мира. Со стороны человеческой природы они выглядят совершенно одинаковыми, но со стороны Торы они весьма отличаются и отделены друг от друга как два совершенно разных рода» (Дерех хаим, 1, гл. 4.1).
Для лучшего понимания этих слов я бы перефразировал их следующим образом: существуют разные по своей мощности бесконечности; со стороны некоторых математических теорий эти бесконечности выглядят совершенно одинаковыми, но со стороны теории множеств они весьма отличаются.
То, что это именно так, видно из других слов Рамхаля, подразумевающих коренное единство всех сынов Адама: «Поскольку человеческий род был создан с добрым началом, со злым началом и свободой выбора, то не исключена возможность, что какие-то индивидуумы будут хорошими, а какие-то – плохими. И в конце концов плохие должны быть отвергнуты, а хорошие – собраны вместе, и будет сделана из них одна общность, которой предназначен Будущий мир» (Дерех хаим, 2, гл. 2.21).
Между тем, пока этого не произошло и «хорошие» люди все еще остаются не собранными вместе, встает вопрос: как им друг с другом обходиться? Как во всем равным человеческим «квантам» примирить то, в чем они все расходятся?
Тому, как люди доброй воли призваны согласовывать свои метафизические искания, посвящены две следующие части этой книги – «Психоаналитическая теология» и «Теология дополнительности».
Психоаналитическая теология
Разговор в строю
Среди людей религиозных, видящих человеческую миссию во всецелом служении Всевышнему средствами той религии, которую они восприняли как единственно истинную, философствование не приветствуется.
В религии важна покорность. Например, поясняя слова Торы «И сделайте все, что они вам укажут» (Втор, 17.10), еврейский комментатор уточняет: «Даже если (мудрецы) скажут тебе, что правое – это левое и наоборот, – нет у тебя другого авторитета, кроме как „священник твоих времен“. Аналогичные высказывания можно встретить и у мусульман (само слово „ислам“ означает „покорность“), и у христиан. Гимны „святому послушанию“ мы находим у католических святых и у православных подвижников. „Послушание есть гроб собственной воли, – пишет преподобный Иоанн Лествичник. – Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает, ни в добром, ни во мнимо худом… Послушание есть отложение рассуждения и при богатстве рассуждения“»20
А основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола и вовсе утверждал: «Чтобы продолжать делать все с уверенностью, нам необходимо всегда придерживаться мысли, что если иерархия Церкви назовет белое черным, то оно черное, даже если оно кажется нам белым»21
Рассуждения хороши для «вербовки», для того чтобы привлечь в свои ряды, но, однажды вступив в строй, их следует прекратить. Разговоры в строю воспринимаются как занижение, как оскорбление веры.
Даже в стане тех, кто привык во всем сомневаться, многие ставят все жетоны под знамя, на котором начертан паскалевский девиз: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не Бог философов и ученых».
И все же имеются ситуации, в которых разговор в строю осмыслен, когда он не только оправдан, но и необходим. Например, когда человек подозревает, что приказ ложен или противоправен.
Религии всему учат, но ни за что не отвечают. Отвечать предстоит рядовым верующим, на эти религии положившимся. Им необходимо думать, им хочешь – не хочешь, а приходится переговариваться в строю.
Иудаизм, христианство и ислам выросли на образе отца веры – Авраама. Это в такой мере определяет их и лежит в их основе, что в научном мире три эти религии принято именовать авраамитическими.
Иными словами, три наиболее представительные религии, религии откровения, противопоставляющие себя всем прочим религиям, опираются на человека, который замыслил совершить человеческое жертвоприношение, задумал детоубийство. Более того, все эти религии признают этот его замысел не преступлением, а образцом для подражания. Почему? Потому что Авраам выполнил приказ Всевышнего не задумываясь, не рассуждая!
И иудеи, и христиане, и мусульмане почитают именно такого, нерассуждающего, покорного Богу, Авраама. «Не принимай меня вообще, – скажет каждая из этих трех религий, – но, приняв, покорно служи мне, как служил Авраам. Иначе ты просто разрушаешь весь смысл».
Но тут естественно возникает два вопроса. Первый: что делать, когда «священники твоего поколения» расходятся во мнениях? Вопрос уже не в том, что одни называют левое правым, а другие – по-прежнему левым. Вопрос в том, чей авторитет выбрать.
Второй вопрос: действительно ли Авраам не колебался? Действительно ли он стоял в строю (в ту пору представленном им одним) совершенно безмолвно? Разве Авраам не должен был усомниться в том, что Всевышний действительно требует от него абсурдного преступления? Не легче ли ему было предположить, что испытание состоит в другом: в том, чтобы он – Авраам – «поступил по совести», а именно – отказался выполнить заведомо «противоправный» приказ?
Кьеркегор, именующий Авраама рыцарем веры, вместе с тем полагал, что и Аврааму была знакома тревога. С ним соглашается Сартр: «Тревога есть, даже если ее скрывают. Это тревога, которую Кьеркегор называл тревогой Авраама. Вы знаете эту историю. Ангел приказал Аврааму принести в жертву сына. Хорошо, если это на самом деле был ангел, который пришел и сказал: ты – Авраам, и ты пожертвуешь своим сыном. Но каждый вправе спросить: действительно ли это ангел и действительно ли я Авраам? Где доказательства? ˂…˃ Если мне явится ангел, то откуда я узнаю, что это и на самом деле ангел? И если я услышу голоса, то что докажет, что они доносятся с небес, а не из ада или подсознания, что это не следствие патологического состояния? Что докажет, что они обращены именно ко мне?.. Если я услышу голос, то только мне решать, является ли он гласом ангела. Если я сочту данный поступок благим, то именно я, а не кто-то другой, решаю, что этот поступок благой, а не злой»22
Тут необходимо уточнение. Тот, кто действительно «знает эту историю», помнит, что убить сына Аврааму повелел вовсе не ангел, а Бог. Ангел предложил ему прямо противоположное: вместо сына принести в жертву ягненка.
Между тем в интересующем Сартра аспекте разница между явлением Бога и явлением ангела огромна. Ибо явление Бога тем-то и отличается от любого другого, что его нельзя подделать. Он приходит как последняя, как единственная реальность. Интеллектуальная честность того, кому явился Бог Авраама, не позволяет усомниться в истинности явления. Что же касается ангела (или любого религиозного учения), то тут все аргументы Сартра безукоризненны: кто передо мной и слушаться ли мне его – решать только мне самому.
И то, что Авраам поверил Ангелу, отменившему приказ Бога, свидетельствует о том, что он действительно колебался. Как только тому представилась возможность, Авраам «положился» на менее достоверное явление, не потребовав от Всевышнего его подтвердить.
Между тем ошибка Сартра дополнительно освещает нам всю проблему. Если совершить преступление нам повелевает не Бог, а ангел, мы не только вправе усомниться, мы должны слушаться не этого ангела, а голоса своей совести.
Только Бог вправе потребовать от человека того, что против человеческой совести, ибо именно Он – последняя глубина этой его совести. Иными словами, Авраам по совести… пошел против совести. «Акеда», жертвоприношение Ицхака, – деяние уникальное. И неслучайно, поэтому три великие религии признают Авраама своим основоположником.
Но любое другое человеческое жертвоприношение остается преступлением. Тот, кто убивает по велению ангела (или конфессии), скорее всего, выполняет противоправный приказ, и уж, во всяком случае, тот, кто получил из потустороннего мира такой приказ, не может не подвергнуть его сомнению.
Гамлет получает известие от духа отца, что тот умер насильственной смертью. Однако он не доверился этому сообщению, он решил его верифицировать. Только убедившись в правоте духа вполне земными средствами, Гамлет соглашается всерьез отнестись к этому явлению. Говоря словами Сартра, только он решал, что услышанный им голос был действительно голосом его отца. А различные религии и их адепты в этом отношении ничем не отличаются от духов и ангелов – это посредники, приказы которых нельзя выполнять слепо.
К этому остается только добавить, что данная проблема не является проблемой только традиционных верующих. Другим своим ракурсом она повернута как раз к агностикам. Дело в том, что необходимость «встать в строй» испытывают все живые люди, в том числе и самые последовательные скептики. В этом отношении я бы сказал, что исходно все люди «мобилизованы» всеми религиями, все люди призваны. Таким образом, если какой-либо человек хоть однажды внял голосу той или иной традиционной религии, он должен убедительно доказать себе, что не является дезертиром. Человек не может обитать в метафизическом вакууме, не может обойтись безо всякого «мифа». Или, выражаясь философским жаргоном, человек не может мыслить без предпосылок.
Таким образом, всякий мыслящий человек, даже самый скептический, не может ограничиться одними «разговорами», все люди в той или иной мере ощущают себя стоящими в «строю», ощущают себя призванными. Но, со своей стороны, и всякий призванный, всякий стоящий в строю не может избежать тревоги, что получаемые им приказы не истинны, не может избежать «разговоров».
В наше время рассуждение Сартра оказывается неизбежной составляющей духовности любого религиозного человека: кто передо мной и слушаться ли мне его – решать только мне самому. Но при этом мы также не можем и не быть в той или иной мере религиозными, не можем не решать, не можем не прислушиваться к «голосам».
Но чем вообще характеризуется это «наше время»?
Аттестат зрелости
Карл Ясперс выделил некий исторический период, в течение которого во всем мире, в среде разных народов, наблюдалось синхронное зарождение разума. По его собственным подсчетам, период этот растянулся на шесть столетий.
Однако в последние века в Европе произошло не менее, если не более знаменательное событие. В эти века человечество получило «аттестат зрелости», причем время этого события можно указать достаточно точно. Если определять это время появлением четких философских формулировок, то дата вручения человечеству «аттестата зрелости» выпадет на XVIII век.
Сами современники переживали это явление как «откровение Мирового Духа», как вхождение рационализма в человеческую семью в качестве основы его бытия. В более поздний период суть произошедшего тогда изменения определили более приземленно, но и более четко: «человечество стало взрослым».
Это самоощущение взрослости является доминирующим для общественного сознания, что обнаруживается в самых расхожих, общих формулировках. Например, в том, что одним из самоназваний последовавшей вслед за этим эпохи является слово «модерн», то есть «современность». Кроме того, эта эпоха получила название Новой и даже Новейшей. Последующую эпоху можно, конечно, назвать и «постновейшей», но это будет неуклюжей вариацией на ту же тему. После «пост» уже тем более ничего нового не ожидается. В этом отношении особо нелеп и бессмыслен термин «постсовременность» – «постмодерн». Находясь внутри своего времени, человек по определению не может не быть «современным», он вынужден им быть. В этой связи уместно напомнить, что абсурдный термин «постмодерн» возник не после распада коммунистического блока, когда к нему стали чаще прибегать, а в год победы коммунизма, то есть еще в 1917 году.
Как бы то ни было, но тот, кто назвал свое время, время своего поколения «современным» и «новым» временем, невольно подразумевал, что ничего принципиально нового впоследствии уже не возникнет.
«Культура нововременного мышления, – утверждает В. С. Библер, – это культура „втягивания“ всех прошлых и будущих культур в единую цивилизационную лестницу» 23Но может ли при таком обороте будущее не считаться настоящим? А если так, то не является ли это Новое время, начавшееся в век Просвещения, «последним временем»? Последним в том смысле, что после него никаких радикальных изменений в духовном аспекте человечеству ждать уже не следует?
В самом деле, после восемнадцати-девятнадцати лет юноша, разумеется, будет еще изменяться, расти и мужать, но повзрослел он однажды, в эти свои восемнадцать-девятнадцать лет. Более того, отношения и встречи, произошедшие в юности, откладывают самый яркий отпечаток на личность человека и всю его последующую жизнь. И вот то, что происходит с человеком в восемнадцать-девятнадцать лет, произошло с человечеством в XVIII—XIX столетиях.
Итак, первая особенность «нашего времени» состоит в его своеобразной эсхатологичности. В самом деле, по мнению практически всех религиозных учений, последним временам свойственно ослабление влияния традиции. Но как раз в наше время больше не существует достоверных внешних авторитетов. В наше время человеку вменено в обязанность сознавать, что за него так же невозможно подумать, как и пообедать, что если он доверился той или иной мировоззренческой системе (или ее носителю), то это равносильно тому, что он сам ее выработал.
Итак, в XVIII—XIX столетиях человечество не просто утратило доверие к традиционной системной морали, оно противопоставило ей мораль автономную.
В свое время один советский диссидент, священник Сергий Желудков, назвал Сахарова и подобных ему людей «анонимными христианами». Это не очень честный прием. Этак всякий может возвеличить свою религию, назвав Сахарова или анонимным иудеем, или анонимным буддистом, или анонимным мусульманином. Но в том-то и дело, что Сахаров не был ни христианином, ни иудеем, ни мусульманином.
Его нравственная позиция формировалась за счет совершенно независимых духовных источников. Предшествовавшие и современные Сахарову атеисты вполне сознательно противопоставляли свою позицию традиционно религиозной, утверждая, по меньшей мере, их ценностную эквивалентность. «Этическое поведение человека должно основываться на сочувствии, образовании и общественных связях. Никакой религиозной основы для этого не требуется», – писал Эйнштейн 24Фромм противопоставлял «кибернетической религии» спонтанную неинституциональную религиозность светских людей. В этом же смысле высказывался и Виктор Франкл: «Как-то раз у меня брала интервью журналистка из журнала «Тайм». Она задала вопрос, вижу ли я тенденцию к уходу от религии. Я сказал, что существует тенденция к уходу не от религии, а от тех верований, которые, похоже, не занимаются ничем, кроме борьбы друг с другом и переманивания друг у друга верующих. Значит ли это, спросила журналистка, что рано или поздно мы придем к универсальной религии? Напротив, ответил я, мы движемся не к универсальной, а к личной, глубочайшим образом персонифицированной религиозности, с помощью которой каждый сможет общаться Богом на своем собственном, личном, интимном языке.
Разумеется, это не означает, что уже не будет никаких общих ритуалов и символов. Ведь есть множество языков, но разве многие из них не объединяет общий алфавит? Так или иначе разнообразие религий подобно разнообразию языков. Никто не может сказать, что его язык выше других языков: на любом языке человек может прийти к истине, к единой истине, и на любом языке он может заблуждаться и даже лгать. Также посредством любой религии может он обрести Бога – единого Бога»25
В свете этого подхода (согласно которому любая традиционная вера предоставляет те же возможности, что и индивидуальный поиск) самих конфессиональных верующих – праведников можно было бы назвать анонимными агностиками.
Разумеется, даже среди весьма культурных светских людей можно найти немало прохвостов, а интеллектуализм может ослеплять человека даже сильнее, чем приверженность той или иной догме. И все же присутствие в секулярном мире независимой духовной жизни, причем вполне конкурентоспособной по отношению к своим традиционным аналогам, – несомненный факт.
Впрочем, духовность эта вовсе не «анонимна», с некоторых пор у этой духовности секулярных людей появилось свое собственное имя – экзистенциализм, который, по словам Тиллиха, «стал реальностью во всех странах Запада, который выразился во всех сферах духовного творчества человека, пронизал все образованные слои общества»26
В чем особенность экзистенциальной философии? Наиболее лаконично ее сформулировал Сартр в своей программной работе «Экзистенциализм – это гуманизм»: «В человеке существование предшествует сущности, – писал он. – Для экзистенциализма человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам… Человек есть не что иное, как его проект самого себя»27
Сартр признает, что «выбирая для себя, я выбираю для всего человечества». Но вместе с тем декларируемый им выбор – это именно личный выбор Истины, а не ее – Истины – говорение через рупор личности. Одним из основных откровений экзистенциализма является индивидуализм поиска, осознание того, что никто не должен никому ничего доказывать, опираясь на внешнюю «общеобязательную» аргументацию. Дух соперничества, стремление увидеть другого кусающим локти в наказание за то, что он думает не так, как ты, чужды экзистенциализму.
Создатель экзистенциального анализа – логотерапии – Франкл говорит: «Через какое-то время… добро и зло будут определяться не как нечто, что мы должны делать или, соответственно, чего делать нельзя; добром будет представляться то, что способствует осуществлению человеком возложенного на него и требуемого от него смысла, а злом мы будем считать то, что препятствует этому осуществлению»28
Согласно экзистенциализму, человек является последней инстанцией, определяющей собственную участь. Бог не в силах его «спасти», не в силах решить за человека, кто он. Сартр говорит: «Экзистенциализм – не такой атеизм, который растрачивает себя на доказательства того, что Бога не существует. Скорее, он заявляет следующее: даже если бы Бог существовал, это ничего бы не изменило… Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может его спасти от себя самого, даже достоверное доказательство существования Бога». «Экзистенциалисты обеспокоены отсутствием Бога, так как вместе с Богом исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности в умопостигаемом мире. Не может быть больше блага априори, так как нет бесконечного и совершенного разума, который бы это мыслил… В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие Бога, но не идею о том, что сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем повсюду: у Дидро, Вольтера и даже у Канта. Человек обладает некой человеческой природой… Атеистический экзистенциализм более последователен. Он учит, что, если даже Бога нет, то есть, по крайней мере, одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек»29
Поэтому даже когда экзистенциалист все же ищет Бога, то он ищет его не столько во внешнем культе, сколько в собственном духовном самораскрытии. «Инстанция, перед которой мы несем ответственность, – пишет Франкл, – это совесть. Если диалог с моей совестью – это настоящий диалог, то встает вопрос, является ли совесть все-таки последней или предпоследней инстанцией. Последнее, «перед чем» оказывается возможным выяснить путем более пристального и подробного феноменологического анализа, и «нечто» превращается в «некто» – инстанцию, имеющую облик личности. Более того – это своеобразная сверхличность. Мы должны стать последними, кто не решается назвать эту инстанцию, эту сверхличность тем именем, которое ей дало человечество: Бог»30Добавлю от себя, что именно поэтому решение Авраама убить собственного сына было принято по совести.
Но, кроме того, экзистенциальная философия сделала возможным также и человеческое братство, позволяя людям открывать людей в носителях самых отдаленных и чуждых культур.
Моноантропизм
Как уже было отмечено, основы этого сознания коренятся в идеях просветителей XVIII века. Именно тогда были сформулированы принципы свободы, равенства и братства, то есть принципы прав человека, именно тогда была высказана идея создания мировой республики.
Этим идеям довелось пережить тяжелые испытания. Однако пусть и не в своем первозданном виде, но они все же завоевали сердца и ума людей, завоевали их в лице экзистенциализма. Всякая концепция человека претендует на универсальность, то есть предназначает себя всем людям. Беда лишь в том, что она очень негативно воспринимает тех людей, которые являются носителями других универсальных концепций. Экзистенциализм в значительной мере избегает этого порока.
Именно экзистенциализм сумел сформулировать принцип духовного единства человечества, сумел единить всех людей, не порождая дополнительного центра, а раскрыв смысловой потенциал центров уже наличествующих («на любом языке человек может прийти к истине, к единой истине, и на любом языке он может заблуждаться и даже лгать. Также посредством любой религии может он обрести Бога – единого Бога»).
Экзистенциализм разглядел человека не только в своем просвещенном естественным светом разума ровеснике, но и в человеке любой культуры. Но при этом важно, что он сформулировал свою основную задачу не просто как выработку формулы братства, а как парарелигиозную задачу всеобщей человеческой солидарности и ответственности.
Согласно экзистенциализму, в мире нет ни реальностей, ни ценностей больших, нежели живая человеческая личность. Это, в частности, означает, что в мире не существует никаких «сверхчеловеческих» тайн и структур и что, соответственно, предельной диалектикой является диалектика единства личности, которая принципиально отличается от диалектики не только механического, но и органического единства.
Что имеется в виду? Соединение деталей сообразно определенным нормативам и законам порождает следующую реальность – механизм. Соединение органов создает следующую реальность – организм, соединение организмов – стаю. Все это реальности, нарастающие по своей сложности. По тем же законам складываются структуры и в человеческом обществе: соединение людей порождает государство, подобно тому, как соединение клеток порождает организм. Между тем если мы рассмотрим человека не в гражданском, а в его собственно человеческом измерении, то убедимся, что ничего следующего, чего-то «большего, чем человек», не возникает. Человек пределен, человек самоценен. Он не суммируется с другими людьми и не служит промежуточным этапом для чего-то «следующего», для «сверхчеловека», «макроантропоса» и т. п.
Но это означает, что когда речь заходит о собственно человеческой, духовной общине, то она будет иметь вид каждого из ее членов. Иными словами, будет являться все тем же… человеком.
Человеческая личность – это предельная ценность, это последняя реальность эмпирического мира. И именно поэтому религии, культуры и вообще любого рода другие ценности не смеют служить препятствиями для взаимоотношений различных людей, не смеют их разделять. Каждый человек уникален, но при этом все человечество едино в каждом из этих своих уникальных сынов.
Идея всеобщей связи человечества провозглашалась европейскими авторами неоднократно. Например, эта мысль высказывается в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол», само название которого взято из стихотворения Джона Донна, выбранного эпиграфом к этому роману: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе; каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».
Трудно найти экзистенциалиста, который не высказался бы на этот счет ярко и сильно. «Тысячи лет назад, – пишет, например, Виктор Франкл, – человечество создало монотеизм. Сегодня нужен следующий шаг. Я бы назвал его моноантропизмом. Не вера в истинного Бога, а осознание единого человечества, единства человечества. Единства, в свете которого различие в цвете кожи становится несущественным… Я не за расовое, а за радикальное различение. Я за то, чтобы судить о каждом индивидууме с точки зрения той уникальной „расы“, которая представлена им одним. Я за личное, а не за расовое различение»31
Что же касается Альберта Швейцера, то он вообще расширил пределы человеческой солидарности на все живое: «Самоотречение должно совершаться не только ради человека, но и ради других существ, вообще ради любой жизни, встречающейся в мире и известной человеку»32
Солидарность эта, кроме того, не ограничивается социальным планом. Так, Лев Шестов в своей книге «Добро в учении графа Толстого и Ф. Ницше» отметил: «Белинский в одном из своих частных писем говорил: „Если бы мне удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас дать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., и пр. – иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови“. В этих немногих и простых словах выражена сущность философской задачи»33
Итак, сущность философской задачи – в оправдании Божьего мира, в оправдании жизни каждого человека, в осознании единства человеческой судьбы.
Это осознание единства всех людей, это осознание неразличенности себя и другого как условия собственного существования в той или иной форме провозглашается каждым экзистенциалистом. Даже преступление другого человека начинает восприниматься им как свое собственное: «Ты не должен убивать! Ты не должен грабить! – пишет Ницше. – Такие слова назывались когда-то святыми; перед ними преклоняли колени и головы, к ним подходили разувшись… но разве в самой жизни нет грабежа и убийства? И считать эти слова святыми разве не значит убить истину?»34
Итак, можно сказать, что именно в экзистенциальной солидарности человечество вышло за пределы традиционных религий и культур и поверх них предстало как один субъект, как единая община. Иными словами, именно в экзистенциализме исполнилась та современность, та новизна, тот «модерн», которые сделали наше время Новым, последним временем и которые задали человеческую зрелость.
Обычно родоначальником экзистенциальной философии считают Кьеркегора. Между тем в действительности впервые эта философия была намечена Шеллингом, причем в ее противопоставленности философии эссенциальной35
И все же если мы зададимся вопросом, когда точно явилась в мир эта зрелость, кто именно ее привел, в лице какого мыслителя человечеством был получен аттестат зрелости, то, по всей видимости, придется назвать не Кьеркегора и не Шеллинга, а создателя критической философии Иммануила Канта. Именно этот мыслитель впервые заявил, что «метафизика есть наука о границах человеческого разума».
Между тем уместно обратить внимание, что идея эта зарождалась в полемике Канта со Сведенборгом о том, что протоэкзистенциальная философия автономной морали и автономного разума зародилась как критика мощного и оригинального мистического учения.
Здесь и теперь
Шеллинг писал в «Философии искусства»: «Расчленение универсума и расположение материала по трем царствам – ада, чистилища и рая, даже независимо от особого значения, которое эти понятия имеют в христианстве, есть общесимволическая форма, так что непонятно, почему бы каждой значительной эпохе не иметь своей „Божественной комедии“ в той же форме»36
Наблюдение Шеллинга весьма точно. Ведь, по существу, оно означает, что каждая эпоха характеризуется своим, только ей присущим распределением дозволенного и недозволенного, своим пониманием человеческого и лежащего за пределами человеческого. Но главное – своим отношением к запредельному. Именно представления о посмертии наиболее полно характеризует состояние умов своей эпохи.
Сам Шеллинг не обращает на это внимания, но в этом пункте «Божественной комедией» Нового времени, безусловно, является книга Эммануила Сведенборга «О Небесах, о мире духов и об аде». Эта его книга даже и построена совершенно по-дантовски, разве что начинает Сведенборг с Небес и кончает адом, а не наоборот. Причем и в той, и в другой книге любовь к женщине рисуется последней глубиной райского бытия.
И вот, как ни странно, именно вопрос, является ли сочинение «О Небесах, о мире духов и об аде» плодом воображения или же отвечает реальности, послужил поводом к разработке критической философии.
Первоначально Кант был заинтригован Сведенборгом. В письме к Кноблох (10.08.1763) он пишет: «Как бы я желал лично расспросить этого странного человека… С нетерпением жду книгу, которую Сведенборг намерен издать в Лондоне. Приняты все меры к тому, чтобы я получил ее, как только она появится в печати».
Но через какое-то время отношение изменилось. Может создаться впечатление, что на Канта повлияло его агностическое окружение, заранее отнесшееся к книгам Сведенборга как к небылицам и высмеявшее интерес Канта. В «Грезах духовидца», книге, написанной отрывочно, путано, но по отношению к Сведенборгу уже явно неприязненно, Кант боится даже оправдывать свой прежний интерес. Те свидетельства, которые он находил неопровержимыми в своем письме к Кноблох, в «Грезах» выставляются лишенными всякой достоверности. Мы могли бы заподозрить Канта в конформизме, но он сам предупреждает эти сомнения в письме к Мендельсону (08.04.1766):
«Не знаю, заметили ли Вы при чтении этого довольно сумбурно написанного сочинения признаки того недовольства, с которым я его писал. Проявив большое любопытство к видениям Сведенборга, я осведомлялся о них у лиц, имевших случай узнать его, вел некоторую переписку и наконец приобрел его произведения и тем самым имел основание неоднократно высказываться по этому поводу. Однако я ясно видел, что у меня до сих пор не будет покоя от постоянных расспросов, пока я не расскажу всех этих анекдотов, которые я, как полагают другие, знаю… Мне казалось поэтому наиболее целесообразным опередить в этом отношении других, посмеявшись над самим собой. И я поступил вполне искренне, поскольку состояние моей души действительно было при этом противно здравому смыслу».
Но странное дело: обращаясь только к разуму, Кант как заколдованный приходит, в сущности, к тому же, о чем поведал Сведенборг! Так, например, невозможно не заподозрить, что именно многочисленные разговоры Сведенборга об отсутствии пространственно-временной ориентации у духов легли в основу учения Канта о том, что эти ориентации являются априорными формами чувственного восприятия.
В самом деле, Сведенборг многократно заявляет, что духи не имеют представлений ни о пространстве, ни о времени. В «Грезах духовидца» Кант не касается этого утверждения Сведенборга, но его работа «О первом основании различия в пространстве» (1768) явно обнаруживает желание оспорить это положение. Однако свидетельство Сведенборга, по всей видимости, глубоко проникло в сознание Канта, который вскоре пришел к убеждению, что ни пространства, ни времени объективно не существует, но что они являются лишь априорными формами чувственности. Как бы то ни было, уже через год у него была готова первая «критическая» работа, ставшая его докторской диссертацией, «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира».
Эта «мистическая» подоплека кантовской философии была, кстати, довольно скоро обнаружена. Уже Шопенгауэр обосновывал возможность ясновидения кантовскими представлениями о пространстве и времени.
В отношении истинной религиозности Кант говорит то же самое, что и Сведенборг, но при этом даже здесь он делает упор исключительно на посюсторонние средства восприятия.
«Истинная мудрость есть спутница простоты, и так как при ней сердце предписывает правила рассудку, то она обычно обходится без больших снаряжений учености, и цели, которая она себе ставит, не нуждаются в средствах, которые никогда не будут в распоряжении всех. Как? Разве быть добродетельным только потому хорошо, что существует тот свет? Или, наоборот, наши поступки получат когда-то вознаграждение не потому ли, что были хороши и добродетельны сами по себе? Разве в человеческом сердце не заложены непосредственно нравственные предписания или необходимы какие-то действующие машины, чтобы заставить человека поступать в этом мире согласно своему назначению? Разве может называться честным и добродетельным тот, кто охотно предавался бы своим любимым порокам, если бы его не пугала кара в будущем, и не должны ли мы, скорее, сказать, что такой человек хотя и страшится греха, но в душе таит порочные наклонности и что он любит выгоду, приносимую добродетельными поступками, но саму добродетель ненавидит?»37
Такого же рода мыслей придерживается и Сведенборг: «Чисто природный человек во внешности своей живет по тем же правилам, как и человек духовный: он также поклоняется Божеству, посещает храмы, слушает проповеди, смотрит благочестиво; он не убийца, не вор, не блудник; не лжесвидетельствует и не обирает своего товарища, но так он поступает ради себя самого и чтобы показать себя таким миру; внутренность же его вовсе не походит на этот внешний образ, потому что он сердцем отрицает Божество, при изъявлении богопочитания ханжит и сам про себя смеется святости церкви, считая ее только уздою для черни… Не убивая в буквальном смысле, он, однако ж, ненавидит всякого противника и горит местью этой ненависти; если бы он не был связан гражданскими законами и внешними узами и вообще страхом кары, то решился бы и на убийство…»38
Но для Сведенборга это представление – результат мистических наблюдений, и именно это не устраивает Канта. Он пишет: «Если же какой-нибудь мнимый опыт не может быть согласован ни с каким законом восприятия, действующим у большинства людей, и, следовательно, свидетельствует только о полном беспорядке в показаниях органов чувств (как это на самом деле бывает с распространяемыми в обществе рассказами о духах), то лучше всего такие опыты прекратить по той простой причине, что отсутствие согласованности и сообразности, как и отсутствие исторического знания, лишает их доказательной силы: они не могут служить основанием для какого-нибудь закона опыта, о котором мог бы судить наш ум»39
Итак, кантовская критика мистики Сведенборга основывается на общей для всякой мистики недостоверности. Тем самым Кант различил сферы метафизического и достоверного познания. При этом важно понимать, что Кант разделил знания на достоверные и недостоверные даже не по принципу их мистичности и естественности, а лишь по тому, что одни верифицируются, другие – нет. Так, мы можем осуждать колдуна лишь за намерение убить человека, но не за само убийство, если после произведенных им магических манипуляций кто-либо умер (в этом отношении знаменательно, что именно в XVIII веке европейские суды стали повально отказываться от рассмотрения дел, связанных с колдовством).
Потусторонний мир, равно как и мир метафизических истин, не является «общим». Даже если всем людям были бы доступны мистические переживания, они не были бы одинаковы и потому достоверны. Не только к чужому, но и к собственному мистическому переживанию не следует относиться с доверием.
Как уже говорилось, эта коллизия гениально предвосхищена Шекспиром в его «Гамлете». Принц датский не поверил явившемуся ему духу. Лишь после специального психологического эксперимента он признал, что его отец действительно был отравлен.
Согласно экзистенциализму, все происходит, все решается здесь и теперь. Тот, кто не задался основным человеческим вопросом «быть или не быть?», тот, кто или спихнул этот вопрос на внешний авторитет, или «вытеснил» решение этого вопроса, тем самым все равно на него как-то ответил. Он принял решение в том смысле, что (отрицательный) выбор был сделан за него внешними обстоятельствами текущей жизни. Значением обладает лишь конкретное действие, конкретное решение, принятое человеком.
В свете этого опыта вопрос «что нас ожидает в грядущем мире?» начинает выглядеть заведомо праздным, духовно вредным. То, что будет с нами там и всегда, невозможно выяснить достоверно, но в любом случае это целиком определяется тем, что мы предпримем здесь и теперь. И именно на этом и следует сконцентрировать все наше внимание.
Этот агностицизм – общее положение экзистенциализма, его исходный пункт, его «кредо». Экзистенциализм воспринимает положительную религию не как духовное подспорье, а даже как определенное препятствие («Чума» А. Камю). Экзистенциализм заранее отрешается от любой мистики. Вот в каких словах Лев Шестов представляет мнение Кьеркегора по этому вопросу: «Киркегард отстранял от себя не только Гегеля и умозрительную философию, но отгораживался от мистиков; и вряд ли мы ошибемся, если скажем, что от мистиков его больше всего отталкивало как раз то, что делает их столь привлекательными для большинства – даже современных культурных людей: их земное, доступное уже здесь, на земле, человеку блаженство. Он этого нигде прямо не говорит, но, по-видимому, чем торжественнее и вдохновеннее передает мистик свою радость о слиянии с Богом, тем унылее и нетерпеливее становится Киркегард»40
Итак, классический экзистенциализм исходно чурается мистики и уклоняется от позитивной религиозности, ибо строит заведомо нечто параллельное. Эти миры могут быть подобны, но они не пересекаются.
Характерно, что в тех же «Грезах духовидца» Кант пишет: «Я заявляю коротко и ясно… либо в произведениях Сведенборга гораздо больше ума и правды, чем это могло показаться с первого взгляда, либо же он совершенно случайно сходится с моей системой»41
Для того чтобы сформулировать свою идею, Канту нужен был именно Сведенборг. В самом деле, легко подвергнуть критике россказни, в которых ты исходно не видишь никакого особенного смысла. Но как отвергнуть рассказы того мистика, который, казалось бы, слово в слово говорит то же самое, что и ты?
Своей философией Кант сказал фактически следующее: даже если Сведенборг говорит то же самое, что и я, Кант, – приходить к этим выводам следует, основываясь не на его свидетельствах, а на моих рассуждениях, то есть на минимальных достоверных средствах человеческого рассудка. Строить свою жизнь следует, основываясь на принципе здесь и теперь, а не на каких-либо не поддающихся проверке сведениях о том, что ожидает нас там и всегда.
«Как? Разве быть добродетельным только потому хорошо, что существует тот свет?» – спрашивает Кант42
Над этим жестоким вопросом экзистенциалисты бились почти два столетия. Отвечали они на него по-разному, но поняли его при этом как один из самых фундаментальных. Только без внешней опоры на какие-либо метафизические истины может состояться человек. Это принципиально для экзистенциализма, он занимается человеком «нетто», человеком, созидающим окружающий его мир, а не созидаемым окружающим миром.
Однако при этом важно понимать, что Кант не отрицал возможности разработки собственно метафизики, к этому отрицанию пришли лишь его последователи, неокантианцы. Кант писал: «Чтобы дух человека когда-нибудь совершенно отказался от метафизических исследований, это так же невероятно, как и то, чтобы мы когда-нибудь совершенно перестали дышать из опасения вдыхать нечистый воздух. Всегда, более того, у каждого человека, в особенности у мыслящего, будет метафизика и при отсутствии общего мерила у каждого на свой лад»43
Это с одной стороны. С другой стороны, вопрос, что нас ожидает там и всегда, далеко не во всех случаях праздный. Очень часто от него серьезно зависит как раз то, как мы поступим здесь и теперь. Связь этих присутствий («здесь и теперь» и «там и всегда») взаимна и гораздо более тесна, чем первоначально казалось Канту, а вслед за ним и всему классическому экзистенциализму. Более того, связь экзистенциализма с той или иной традиционной религиозностью никогда не прерывалась. А коренящееся во многих людях доверие к религии – это экзистенциальная данность, которую уместно подвергать сомнению и анализу, но невозможно отрицать.
Поэтому поиск наиболее созвучной, по-настоящему «параллельной» экзистенциализму религиозной картины мира – дело законное, закономерное и даже неизбежное.
Более того, коль скоро все люди мобилизованы всеми религиями и «становиться в строй» нам так или иначе приходится, то создание такой картины является нашей первостепенной религиозной и экзистенциальной задачей.
Это дело можно было бы назвать делом экзистенциального оправдания позитивной религиозности. Но в то же время оно предполагает сопряжение самых разных религиозных концепций, наведение мостов между различными религиями, по меньшей мере, между религиями авраамитическими.
А надо сказать, что внесенные экзистенциализмом коррективы в общепринятые религиозные представления иногда весьма существенны.
Обратимся, например, к главному вопросу – к образу Всевышнего, который, как уже говорилось, ищется экзистенциалистом в глубине совести «путем пристального и подробного феноменологического анализа» и обнаруживается как высшая «инстанция, имеющая облик личности». Как мы помним, по этому поводу Франкл говорит: «Более того – это своеобразная сверхличность. Мы должны стать последними, кто не решается назвать эту инстанцию, эту сверхличность тем именем, которое ей дало человечество: Бог».
Однако облик этого «Бога экзистенциалистов» в чем-то все же отличается от того Бога, которого знало до сих пор «человечество». В самом деле, Бог религиозных традиций – это грозный самодержец, который судит человека, определяет его вечную участь. В то же время Бог экзистенциалистов не вмешивается в их поиски, более того, по существу, находится в таком же положении, что и люди, то есть «как и каждая человеческая душа, ждет последнего приговора»44
Этот подход сам Шестов усматривает уже у Кьеркегора: «Мы присутствовали при беспредельном наращивании ужасов в душе Кьеркегора, и в этой раскаленной атмосфере ужасов родилось то великое дерзновение, когда человеку начинает казаться дозволенным не только героев библейского повествования Иова и Авраама, но и самого Творца неба и земли сделать „хоть издали, совсем издали“ таким же изнемогающим и замученным, как и он сам: и это есть момент зарождения экзистенциальной философии»45
Таким образом, мы видим, что «религиозность», наличие каких-то «метафизических» представлений может вовсе не препятствовать экзистенциальному поиску, но даже полностью его составлять. Вопрос лишь в том, какая это «метафизика» и какая это религиозность.
Ревизия исторических религий с точки зрения их созвучности («параллельности») экзистенциализму все более выявляется как насущная задача этой философии. Обращение к традиционной религиозности, а тем самым и к разного рода метафизическим представлениям в какой-то момент стало внутренней необходимостью экзистенциального поиска. Не говоря уже и об обратном: сегодня ни одна религиозная проповедь не может быть убедительна и успешна, если она не обращается к языку экзистенциализма. Но главное – из агностического подхода экзистенциализма вовсе не следует, что та истина, к которой пришли экзистенциалисты, не может прозреваться мистическими средствами. Мистики также могут иметь дело с «изнемогающим и замученным Творцом». Что же касается Сведенборга, то, как я уже отметил, в ряде пунктов его мистика поразительно экзистенциализму созвучна, можно даже сказать, экзистенциализм предвосхищает.
Таким образом, решившись построить некую парадоксальную экзистенциальную теологию и, в частности, картину того, что нас ждет там и всегда, уместно прежде всего обратиться к свидетельству Сведенборга, начать с этого свидетельства.
Оговорюсь, впрочем, что статус этого свидетельства я не приравниваю к собственно религиозному, разве что к литературному. Уж если книга «О Небесах, о мире духов и об аде» привлекается здесь в качестве «Божественной комедии» Нового времени, то пусть она остается таковой и по своему общему жанру.
Хотя на основе сведенборгских сочинений возникли религиозные общины, этого автора следует рассматривать как заведомо частного, а не «соборного» мистика. Является ли сочинение «О Небесах, о мире духов и об аде» плодом воображения или же отвечает реальности, в рамках проводимого мною здесь исследования остается вопросом.
Свидетельство Сведенборга
Размышляя над поэтикой Достоевского, Бахтин писал: «Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества: А = А. По художественной мысли Достоевского, подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, заочно»46
Это чрезвычайно характерный для экзистенциализма оборот. Никто в мире не может решить за человека, как он поступит и кто он вообще есть. В пределе это «никто» включает в себя и самого Бога (экзистенциалистов).
Так вот, интересно, что основная особенность визионерской картины Сведенборга состоит в том, что радикальный выбор между раем и адом определяется не Богом, а самим человеком, только им: «Духи, приходящие в ту жизнь, – пишет Сведенборг, – ничего большего не желают, как взойти на небеса. Все ищут их… Так как они горячо желают этого, то они и возносятся к какому-нибудь обществу последних небес. Едва только те, кои жили в любви к себе и к миру, приближаются к первому небесному порогу, как они начинают тосковать и до того внутренне мучиться, что скорее чувствуют в себе ад, чем небеса; посему они бросаются оттуда стремглав и только в аду, между своими, находят успокоение»47
Хотя изменение взглядов в посмертии признается Сведенборгом возможным и даже неизбежным, в сфере «экзистенции», в сфере радикального нравственного выбора все остается неизменным. Посмертные трансформации в эссенциальной сфере возможны, в экзистенциальной – нет.
То, что в посмертии нельзя покаяться, признают все существующие религии, и Сведенборг в этом утверждении не оригинален. Однако он представляет эту невозможность как внутреннее решение самого человека, а не как результат внешнего суда. В глазах экзистенциализма всякий внешний суд как бы избыточен и даже бессмыслен. Как отмечает Лев Шестов в своей книге «Добро в учении Толстого и Ницше» (VI): «Как бы ужасно ни было прошлое человека, как бы он ни раскаивался в своих делах – никогда он, в глубине своей души, не признает, не может признать себя справедливо отверженным людьми и Богом»48 Это с одной стороны. А с другой стороны, если человек не раскаивается в своем прошлом, то он сам отвергает и людей, и Бога.
Иными словами (как того и следовало ожидать истинному экзистенциалисту), там и всегда действует тот же жесткий принцип здесь и теперь. И описываемые Сведенборгом «пограничные» случаи дают наглядное представление о том, что значит состояться в качестве человека.
«Иные полагали, – пишет Сведенборг, – что легко примут по смерти Божественные истины, услышав их от ангелов, и что, уверовав в них, изменят род жизни и затем будут приняты на небеса. Это было испытано над многими, бывшими в такой уверенности, и допущено было для того, чтобы убедить их, что после смерти нет покаяния. Иные из них при этом опыте понимали истины и, по-видимому, принимали их, но лишь только они обращались к жизни по любви своей, то отбрасывали истины эти и даже начинали говорить против них, иные тотчас же отвращались от них, не желая слышать их. Другие требовали, чтобы жизнь по любви и страстям, принятая в миру, была отнята у них и на место ее дана была жизнь ангельская, небесная. И это было сделано над ними по соизволению, но как только жизнь по любви была у них отнята, то они тотчас падали, будто мертвые, без чувств и более собой не владели»49
При этом небеса, по Сведенборгу, не существуют сами по себе, а создаются человеческим сообществом. Но что, быть может, самое примечательное – это человеческое сообщество разрознено. Тот духовный мир, который был открыт Сведенборгу, – такой же многоликий и многоголосый мир, как и тот, в котором мы обитаем на земле. Согласно его описанию, Небеса разъяты на множество сообществ, которые между собой так же мало пересекаются, как и в земной жизни. Отличие небесной жизни от земной состоит, по-видимому, в том, что в Небесах непонимание других вер более не является поводом для их острой неприязни.
«Небеса находятся везде, где признают Господа, где верят в Него и любят Его. Разнообразие поклонения Ему и разнообразие блага в том и другом обществе не предосудительно, а полезно, потому что из этого разнообразия слагается совершенство небес»50
С точки зрения экзистенциалиста, духовность может быть реализована практически в любой культурной среде, ибо экзистенциальный выбор предшествует любой культурной самоидентификации. В этой связи я уже приводил высказывание Виктора Франкла: «Разнообразие религий подобно разнообразию языков. Никто не может сказать, что его язык выше других языков: на любом языке человек может прийти к истине, к единой истине, и на любом языке он может заблуждаться и даже лгать. Также посредством любой религии может он обрести Бога – единого Бога»51
Сведенборг провозглашает эту же истину, постигнув ее мистическими средствами: «Кто знает, что именно в человеке образует Небеса, тот может знать, что язычники точно так же спасаются, как и христиане, ибо Небеса внутри человека, и те кои носят их в себе, идут после смерти своей на Небеса»52 (Вопроса о том, как этот подход мог уживаться у Сведенборга с собственно христианскими прозрениями, я частично коснусь ниже.)
Но если эссенциальное деление горнего человечества бесконечно многообразно и динамично, то экзистенциальное – просто и статично. Души, удостоившиеся Небес, в экзистенциальном плане делятся Сведенборгом на три больших сообщества, практически непроницаемых друг для друга.
Первая группа – это люди, воспринимающие Божественные истины непосредственно в сердце, стремящиеся только к Небесному.
Вторая – это люди, воспринимающие истину прежде всего умом и лишь затем усваивающие ее, делающие ее правилом своей жизни.
Наконец, третья группа – это люди, не интересующиеся истиной, но в практической сфере тем не менее действующие по совести.
Что же касается эссенциального различия в среде Небесного сообщества, то оно, по Сведенборгу, бесконечно многообразно. Причем это многообразие взглядов и подходов характерно и для ада, а выбравшие его остаются при полном убеждении, что их выбор совершенно верен. «Каждый дух, вознесенный на Небеса, уносится в то общество или братство, где господствует любовь его; там он как у себя дома и на родине своей, чувствует это и присоединяется к подобным себе. Если же он удаляется оттуда в какие-либо иные места, то чувствует какое-то сопротивление и сильное влечение снова соединиться со своими, то есть возвратиться к господствующей любви своей. Таким-то образом устраиваются сообщества в Небесах, а подобно сему – и в преисподней»53
В этом отношении видение Сведенборга, в котором духи подчинены своей господствующей страсти, опять же сближается с представлением экзистенциалистов, с представлением Достоевского (в интерпретации Бахтина), согласно которому человек – это порожденная им идея. «Ни на Небе, ни в аду не дозволяется раздвоять дух свой, то есть знать и понимать одно, а хотеть и делать другое; там кто чего хочет, то и понимает, а что понимает разумом, того хочет и волею. На Небе желающий блага поймет и истину, а в аду хотящий зла поймет и ложь. Посему там от добрых ложь удаляется, а представляются им истины, а от злых отбираются истины, а оставляется им ложь, отвечающая злу их и с ним согласная. Из этого понятно, что такое мир духов»54
Между тем это свидетельство Сведенборга о том, что «злой дух бросается в ад по собственной воле своей»55, о том, что грешные души не направляются в ад внешней силой, а идут туда, повинуясь выработанной ими при жизни страсти, – одно из самых глубоких экзистенциальных прозрений, по существу, деонтологизирующее религию.
Все религии признают, что ад – это прежде всего огонь и нечистоты. Но Сведенборг утверждает, что так называемый «адский огонь» – это всего лишь свечение страстей56, что хотя грешные души там действительно мучаются, постоянно притесняя друг друга, – во-первых, покидать эти места они все равно не желают, а во-вторых, «живущие в аду не находятся в огне, но ˂…˃ огонь есть только одна видимость, ибо они не чувствуют там никакого жжения»57
Что же касается нечистот, то они, опять же, не вызывают у падшей души отвращения. Напротив, они начинают восприниматься как нечто притягательное по мере выявления греховной склонности. Сведенборг пишет: «Кто Божественные истины искажал, прилагая их к страстям своим, тот любит места, упитанные животной мочой, потому что она отвечает утехам такой любви. Скряги живут в погребах или подвалах, среди свиного помета и зловоний от дурного пищеварения. Жившие в одних плотских наслаждениях, в роскоши и неге, обжоры и сластоедцы, угождавшие желудку своему, полагая в этом высшее наслаждение, любят в той жизни помет и кал, равно места накопления его. Это обращается в усладу их потому, что такое наслаждение есть духовная нечистота: такие духи избегают места опрятные, не загаженные нечистотами, потому что они им неприятны»58
Но если Сведенборг прав и в ад устремляются добровольно, то, стало быть, к этому стремлению можно прийти уже и в этой жизни? И если в «Божественной комедии» нашего последнего времени рай населяют экзистенциалисты, то кто наполняет ад? (Сведенборг, по существу, сказал именно это: обитатели всех трех небес сближаются только одним – позитивностью своей экзистенциальной позиции). Может быть, в наше последнее время мы способны обнаружить экзистенциалистов с отрицательным знаком, то есть людей, сознательно избравших ад?
Как бы то ни было, но, прежде чем продолжить попытку построения экзистенциальной теологии, по целому ряду причин уместно исследовать ее антиподы.
Опиум интеллектуалов
Действительно, если признаки адского состояния можно усмотреть даже на уровне физиологии, то, по-видимому, их можно отметить и в мировоззренческой сфере.
Разумеется, мировоззрение человека может расходиться с его экзистенциальным выбором, и на основании идеологии окончательного представления о ее носителе составить нельзя.
И все же корреляция между эссенцией и экзистенцией несомненно наличествует, а стало быть, общие оценки такого рода вполне оправданы.
Первой, наиболее массовой идеологией, представляющей собой отрицание экзистенциального выбора, является коммунистическая идеология, полностью нацеленная на фантастическую «верхнюю ступень развития», и без колебаний приносящая ей в жертву представителей промежуточных фаз.
Ставя перед собой, казалось бы, экзистенциальную задачу освобождения человека, задачу его солидарности с себеподобными, коммунизм достигает противоположной цели.
В «царство свободы» коммунист ломится напрямую, срезая углы и видя в «буржуазных» свободах (совести и слова) не условие поиска истины, а препятствие на пути к ней. Его простое, «единственно верное», «окончательное» решение вопроса человеческой солидарности оборачивается разрушением любых других форм человеческих отношений.
Итак, коммунистическая, шире любая левая идеология, является идеологией, коренящейся в экзистенциальной проблематике, но представляющая собой ее «окончательное» решение. Коммунизм – это тень экзистенциализма, это мимикрирующая под него активная форма уклонения от мышления.
Мыслить трудно, мыслить мучительно. Не все с этим справляются и… обращаются к марксизму, который французский публицист Раймон Арон (1905—1983) остроумно назвал «опиумом интеллектуалов».
Вчитаемся еще раз в слова Сартра: «Экзистенциализм отдаёт каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование».
Однако при этом знаменательно, что свое «бытие» сам Сартр связал с коммунистическими догмами, с маоизмом!
Как возникает такая аберрация? Собственно говоря, эта аберрация и составляет суть левой идеологии, обсессивно связывающей себя с «рационализмом».
Отмечая оторванность гегелевских спекуляций от реальности, Кьеркегор язвительно именовал этого мыслителя «не философом, а профессором философии». В свою очередь Маркс, «поставивший Гегеля с головы на ноги», полностью сохранил его общее инфантильное доверие к собственным диалектическим умствованиям: «Все действительное разумно, и все разумное действительно», а потому «если факты противоречат моей теории, то тем хуже для фактов.»
В левое дело идут рационалисты-активисты, люди с «повышенным чувством ответственности», но панически боящиеся сталкиваться с реальностью, дорожащие своими интеллектуальными схемами, больше, чем своей душой.
«Отец новых левых» – Герберт Маркузе также причислял себя к экзистенциалистам. Он учился у Хайдеггера и чтил «раннего» Маркса, порицавшего «отчужденный труд».
Коммунизм, представляющий собой заявку на преодоление этого отчуждения, заявку на управление историей, объявляет сябя проявлением высшей ответственности.
Иными словами, коммунизм представляет собой такой уход от ответственности, который сопровождается ее бурной имитацией.
Представляя собой демагогическую фантазию созидания путем разрушения («до основанья»); представляя собой слепую веру в возможность достижения свободы через диктатуру, «революционная деятельность» представляет собой форму радикального ухода от ответственности… однако при одновременном поддержании в себе приятного чувства ее культивации.
Безответственность всех нынешних левых интеллектуалов заквашена на той же безответственности, которая присутствовала в коммунистическом движении с первых его шагов.
Революционер и террорист XIX века закономерно мутировал в «правозащитника» XX – XXI, прославившегося своим исключительным рвением в защите прав преступников, при полном безразличии к правам их жертв.
Немало людей борются за свои права, за права других нуждающихся, и можно лишь пожелать успеха в их благом деле. Однако на фоне этих «вынужденных» борцов давно выделилась группа «профессионалов», у которой очень хорошо развилось «классовое чутье».
«Профессиональный правозащитник» селективен, он будет стоять за право «женщины распоряжаться своим телом», но никогда не за право на жизнь ее плода. Он собьется с ног в поиске военных преступников в генштабе ЦАХАЛа, но в то же время до последнего будет выгораживать террористов, как «бойцов национально-освободительного движения».
«Профессионала» отличает потребность «менять мир к лучшему», при категорическом отказе менять что-либо в самом себе. Эту публику отличает умение направлять свое «повышенное чувство ответственности» по пути наименьшего сопротивления, комфортно канализируя его в зловонную духовную яму.
Как бы то ни было, выбор коммунистической доктрины для человека, сведущего в экзистенциальной проблематике, увы, вполне допустим.
Увы, но идеи Маркса живут и побеждают. «Интернационал» теперь исполняется довольно редко, но этот пафосный гимн с успехом заменила сентиментальная песня Джонна Леннона «Imagine», которая по признанию самого автора, «является, в сущности, коммунистическим манифестом, хотя я сам не коммунист и не принадлежу ни к какому политическому движению». (Википедия)
«Представь себе, – поется в песне, – ведь это так просто, что нет ни рая, ни ада, представь, что нет ни стран, ни религий, представь себе всех людей живущих в мире и братстве; представь, что нет ни нищих, ни голодных; может быть я и мечтатель, но я не одинок».
Марксов «Манифест коммунистической партии» продавливает в основном тему неравенства: «коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности».
И все же эта цель, сильно поблекшая в последние десятилетия, далеко не единственная. В «Манифесте» высказаны также и другие идеалы, поразившие воображение Леннона. Прежде всего это освобождение от уз религии, патриотизма и семьи.
Анализ преемственности Ленина с Ленноном обстоятельно представлен в труде американского публициста Патрика Бьюкенена «Смерть запада» (2001). Автор указывает на деятельность прибывших в 30-х годах из Франкфурта в США германских марксистов: «Франкфуртская школа принялась „переводить“ марксистскую теорию в культурные термины. Старые пособия по классовой борьбе были выброшены, как ненужная рухлядь, им на смену пришли новые. Для ранних марксистов врагом был капитализм, для марксистов же новых врагом стала западная культура… Победа станет возможной, лишь когда в душе западного человека не останется и малой толики христианства».
Верная наследница «ранних марксистов» – Компартия Советского Союз Франкфуртскую школу ни во что не ставила. Тем не менее сочинения Маркузе надолго пережили доклады Брежнева. Выдвигая на первый план три другие цели коммунизма, Франкфуртская школа в конечном счете опиралась именно на Маркса, творчески развивала его деструктивный проект.
Разуверившись в революционных способностях мирового пролетариата, Маркузе решительно преобразил коммунистическую парадигму.
«Лишь мы, работники всемирной/ Великой армии труда,/Владеть землей имеем право, /Но паразиты – никогда!» – пелось в Интернационале.
Обнаружив, что общество потребления развратило всех «работников», перепортило всю «армию труда», Маркузе стал искать новых гегемонов и нашел их в лице именно «паразитов», в лице «меньшинств».
В своей программной работе «Одномерный человек» (1964) Маркузе пишет: «Однако под консервативно настроенной основной массой народа скрыта прослойка обездоленных и аутсайдеров, эксплуатируемых и преследуемых представителей других рас и цветных, безработных и нетрудоспособных».
Именно эти группы превратились в боевые отряды революции, стали главной надеждой современных марксистов, и этот их узко политический интерес – важнейшая из причин, по которой права, а точнее привилегии этих групп отстаиваются.
Итак, марксистскую идеологию можно признать самой распространенной формой ложного – «окончательного» – решения экзистенциальной задачи. «Строительство коммунизма» – это классический путь в ад, вымощенный добрыми намерениями. Однако этот путь, конечно, не единственный.
Новая эра
Действительно, если признаки адского состояния можно усмотреть даже на уровне физиологии, то, по-видимому, их можно отметить и в мировоззренческой сфере. Ведь, как известно, кое-какие явления культуры даже всеядная демократия способна квалифицировать как антидемократические и античеловеческие.
Те откровенные, оправдывающие себя чувства ненависти, которые раскрываются, согласно «Божественной комедии» Нового времени, в мире духов, могут утвердиться уже и при жизни. То «понимание лжи», которое, по словам Сведенборга, достигается «желающим зла» за гробовой доской и которое по сути своей антиэкзистенциально, по-видимому, может иметь вполне развитое мировоззренческое оформление. Дорога в ад может устилаться не только добрыми, но и откровенно злыми намерениями, обретшими соответствующую мировоззренческую оболочку.
Что же это за инфернальные идеологии и какие у них могут быть признаки? Такого рода идеологии, разумеется, не присущи какой-то эпохе, но должны были существовать всегда. Насколько известно, сатанисты, то есть люди, сознательно избравшие зло в мировоззренческо-религиозной, магической сфере, в разных формах обнаруживаются в разные эпохи в разных странах. Во всяком случае, сатанизм можно усмотреть и в человеческих жертвоприношениях древности, и в черной магии Средневековья, и, наконец, в люциферианстве эпохи Возрождения.
Тем не менее именно наше «последнее время» произнесло в этой области свое последнее слово, ибо именно в нем для сатанизма открылись дополнительные, давно поджидающие его глубины. В наше «последнее время» сатанизм облекся в свои последние мировоззренческие, культурные и даже политические формы, а после Второй мировой войны практически даже превратился в отдельную религиозную деноминацию («церковь сатаны»). При этом существенно отметить, что чем откровенней выражена сатанинская тенденция того или иного культа, тем более некрофильский характер носят его ритуалы.











