Читать онлайн Недрогнувшей рукой
- Автор: Елена Холмогорова
- Жанр: Современная русская литература
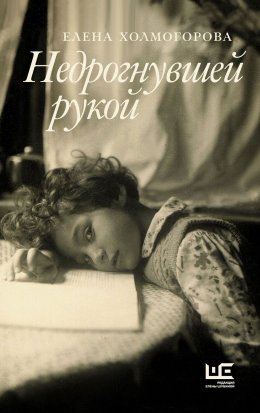
© Холмогорова Е. С.
© Бондаренко А. Л., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
С абсолютной ясностью я воскрешаю пейзажи, жесты, интонации, миллионы чувственных деталей, но имена и числа погружаются в забвение с абсурдной безоглядностью маленьких слепцов, цепочкой бредущих по пирсу.
Владимир Набоков. Строгие суждения
…помню снег, и дождь, и мокрые кровли,
а разве что-то бывает кроме?
Геннадий Калашников
Безутешная радость
В этот день имя на памятнике никогда не прочитать. А для меня осталось местечко в самом низу – оно первым будет скрываться под снегом.
Поначалу каждая ночь с понедельника на вторник была для меня бессонной. Но потом постепенно я все реже мучилась этим, потом и вовсе эта ночь перестала отличаться от иных на неделе, а бессонница стала приходить без оглядки на календарь.
Новый 2018 год впервые встречала одна. Рано утром 1 января меня потянуло на кладбище. Я справедливо решила, что дороги будут пустые, но не учла, что и на кладбище не будет ни души. Я не боюсь совсем, но проблема оказалась в том, что я не могла войти в калитку – ее полностью перегородила огромная грязно-белая собака. Кладбищенские собаки злые – их спускают с цепи вечером после закрытия. Я подошла поближе и стала громко звать охранника – будка была рядом, но никто не откликнулся. Не уезжать же обратно. Тогда я стала громко разговаривать с псом: “Здравствуй, собака! С Новым годом! Я очень хочу пройти, ты же разрешишь мне?” Собака внимательно послушала, поглядела на меня и села. Теперь я могла бы протиснуться в калитку боком, но и только. Я еще покричала охраннику – тщетно. Пришлось просить дальше: “Собака, у меня умер муж, я очень тоскую, пусти меня, видишь, я привезла цветы, его любимые ирисы”. Она встала и отошла в сторону. Не без дрожи я вошла в калитку. Аллея была совершенно пустынна. На полпути я обернулась: собака бежала за мной на некотором расстоянии. И дальше совсем невероятное: она дошла со мной до могилы, сидела рядом, пока я, стряхнув снег с плиты, положила цветы и помолчала, а потом проводила меня обратно. Я постучала в будку – охранник так и не появился. Когда я села в машину – обернулась, псина опять лежала, полностью перегородив вход. Кстати, наступивший год по восточному календарю был годом Собаки…
Интересно, встретил ли Миша там наших драгоценных зверей – пса Барона и кота Бурбона, как надеялся…
Из всех предметов одежды самый любимый – жилеты. У меня их много – на все случаи жизни. А у Миши была теплая, меховая, сильно вытертая, даже облезлая жилетка, которую он именовал не иначе как “ветхо рубище певца”. Я умоляла выбросить это “рубище”, оставлявшее на стульях и на полу клочки меха. Наконец он сдался: “Только, – сказал, – сама. У меня рука не поднимется”.
Зачем у меня тогда поднялась рука… Сейчас можно было бы в нее лицом уткнуться…
“Крепка, как смерть, любовь”, – говорится в Песне Песней. Если смерть – мера всего неизбежного, то, значит, любовь, которая с ней сравнивается, преодолевает ее, не умирает со смертью.
Миша в застольях любил рассказывать, что нашел меня глубокой ночью на улице Горького. Неизменно звучит эффектно. Это – правда, но не вся. Действительно, мы впервые увидели друг друга в предрассветный час на пустой главной московской улице между площадью Маяковского и Пушкинской. Но я была не одна. Более того, с поклонником, который хотел на мне жениться, и – как знать, куда повернулось бы, если бы не та случайная встреча. Счастливая встреча.
В один прекрасный день я решительно высыпала содержимое чемодана и трех картонных ящиков на наш большой овальный стол, за которым, когда раскладывали, свободно помещалось человек двадцать, – подняв столб пыли. Прочихавшись и проветрив комнату, я стала ждать возвращения Миши с прогулки. На пороге он застыл, забыв вытереть псу Барону грязные лапы и растерянно обозревая груду фотографий, громоздившихся на столе кучками в полнейшем беспорядке. “Пока все не разберем, так и будет”, – грозно сказала я, и он понял, что не шучу. На следующий день мы купили альбомы и начали сортировать, подписывать, наклеивать… Не помню точно, но заняла эта история не один месяц. Я, как и обещала, порядок не наводила.
Альбомы эти стоят теперь в строю, все фотографии аккуратно подписаны. Недавно я показала один из них внучке: “Это твоя прабабушка”. Она ответила: “Не выдумывай. В древности не было фотографий”.
А ведь эта фотография, быть может, решила мою судьбу… Вернее, негатив, с которого можно было сделать много отпечатков. В первый раз, когда Миша был у меня в гостях, мы разговорились о предках и выяснили, что его отец в 1929 году окончил Московскую консерваторию по классу моего дяди, Самуила Евгеньевича Фейнберга. Когда обнаружилось, что в наших семейных альбомах хранится такая фотография, где они вместе, мы замолчали и, как признались потом, обоих посетила одна и та же мысль – об общей судьбе, что нам уготована.
…И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, и блеск, и шум, и говор балов, и друга первый взгляд, беспомощный и жуткий, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, и одиночеством всегдашним полно всё в сердце и природе, и начинает уставать вода, и это означает близость снега, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман, и мы прошли их, видимо, насквозь и черным ходом в будущее вышли, и вот, бессмертные на время, мы к лику сосен причтены…
…я знаю: чтобы тебе было хорошо “в месте светлом, месте злачном, месте покойном”, пока я – по недосмотру свыше – здесь, на земле, у меня в жизни должно, почаще должно быть – ну, наверное, не счастье, а то, что вместо счастья.
Безутешная радость…
Водяные знаки
О, сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему —
Вот высший подвиг цветка!
Басё. Перевод Веры Марковой
Высшая награда
“Deus conservat omnia” – “Бог сохраняет всё” – девиз рода Шереметевых начертан на гербе, украшающем ограду Фонтанного дома. Первая ассоциация – эпиграф к ахматовской “Поэме без героя”. А следующая – Иосиф Бродский – на столетие Анны Ахматовой:
- Бог сохраняет всё; особенно – слова
- прощенья и любви, как собственный свой голос.
Интересно, что со временем строки Бродского подверглись усекновению и сделались афоризмом: “Бог сохраняет всё – особенно слова”. Это, с одной стороны, конечно же, искажает смысл, вложенный поэтом, но с другой – создает новый, более широкий, возвращая понятию “слово” сакральный смысл – все-таки “в начале было Слово” – и превращая написанное едва ли не в скрижали.
Наверное, именно эта ответственность порождает пресловутый страх перед чистым листом, пресловутые муки творчества и парализующую порой неуверенность в себе. А еще невозможность объективной оценки, отсутствие шкалы, на которой нанесена была бы та самая “ценностей незыблемая скала”. Приложишь как линейку к любому тексту – и получишь точный результат. Это можно вообразить лишь при фантастическом допущении. Еще сто с лишним лет назад Акутагава Рюноскэ написал повесть “Мензура Зоили” – так назывался прибор для определения художественной ценности произведений. А потом братья Стругацкие в романе “Хромая судьба”, ссылаясь на него, описали измеритель писательского таланта, сокращенно “Изпитал”, вычисляющий “индекс гениальности”.
И, кстати сказать, не просто размытость, субъективность критериев, а даже возможность и вероятность полярных оценок позволяют тем, кто заражен недугом графомании (замечу в скобках, что я здесь вовсе не вкладываю в это понятие негативной коннотации, не использую как синоним бездарности, а употребляю в прямом значении как обозначение маниакальной страсти к писанию), внести свою лепту в бесконечную нить нанизанных слов.
Мой любимый пример. У Чехова в повести “Степь” есть поразительное воспоминание мальчика о бабушке: “До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит…” Меня всегда поражала парадоксальная, пронзительная точность этого “до своей смерти она была жива”, казалась уколом гениальности. И вдруг случайно я наткнулась на фрагмент мемуаров приятеля Антона Павловича прозаика и драматурга Ивана Леонтьева-Щеглова: “…разумеется, и на солнце есть пятна, и одно такое незначительное стилистическое пятнышко я как-то указал Чехову, когда мы разговорились о «Степи». Именно почему-то вспомнилась в самом начале (где говорится о смерти бабушки) фраза, на которой я запнулся, читая впервые рассказ: «Она была жива, пока не умерла…» Что-то в этом роде. «Быть не может!» – воскликнул Чехов и сейчас же достал с полки книгу и нашел место: «до своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики». – Чехов рассмеялся. – «Действительно, как это я так не доглядел. А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай». И равнодушно захлопнул книгу”.
Как хотите, а я остаюсь при своем мнении. Какое счастье, что Чехов не стал править текст, как часто позднейшие редакции убивают откровения и озарения первого варианта!
В письме А. С. Суворину 16 августа 1892 года Антон Павлович писал: “Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, т. е. ничего не делать и в то же время чувствовать себя порядочным человеком”. Не знаю, есть ли термин, по аналогии с “графоманией” описывающий страсть к разговорам о литературе, но ее симптомы я испытываю постоянно, как и тягу к собственно писанию.
В едва ли не самый тяжелый и болезненный момент моей жизни, когда, казалось, все разрушилось навсегда, мне добавляло мучений одно невыполнимое обязательство. Я обещала написать предисловие к переизданию любимейшей моей книги. Срок сдачи приближался, ни строчки не было написано, а каждое мое утро начиналось с обещания себе уж сегодня непременно позвонить в издательство и покаяться. Но шли дни, отказ становился все более предательским. И вдруг на пике отчаяния пришло спасение, меня пронзила простая догадка: это не повинность, это не тяжкое бремя, это – награда! За все пережитое в последнее время, за слезы и сердечную боль… Я схватила книгу, открыла компьютер и запоем, забыв обо всем, написала один из лучших текстов в моей жизни.
В XXIII веке до нашей эры в Месопотамии жила Энхедуанна – жрица, царевна, поэтесса, писавшая клинописью на глиняных табличках свои гимны. Она считается первым в истории писателем.
Я пишу двенадцатую книжку, одиннадцать благополучно увидели свет, были прочитаны и оценены. Но что-то мешает мне называть себя писателем. Гордыня, наверное, грешна. И слово “творчество” я не могу применить к себе. Никогда не скажу “мое творчество”. Знакомясь с кем-то вне литературной среды, неизменно испытываю неловкость, отвечая на вопрос о профессии. Говорю: редактор, преподаватель; а потом – понизив голос и потупив глаза – “еще пишу книжки”.
Но кое-чему все-таки я за долгие годы научилась. Мечтала я когда-то сочинять исторические книжки для детей, но написала всего одну – о генерале Раевском “Великодушный русский воин”. Вышла она давным-давно в издательстве “Малыш”, которое находилось на Можайском шоссе. И вот я тогда, получив сигнальный экземпляр, еду в полупустом почему-то троллейбусе домой. Кручу-верчу, со всех сторон разглядываю книжечку. И вдруг наклоняется ко мне женщина, здоровается и задает неожиданный вопрос: “Извините, пожалуйста, это у вас книжка не из серии «Страницы истории нашей Родины»?” – “Да”, – говорю. А она продолжает: “У меня внук с ума сходит по этим книжкам, я все покупаю, а такой я не видела. Можно посмотреть?” Я протянула книжку и вжалась в сиденье. Мне казалось, что меня сейчас уличат в чем-то постыдном. А женщина не унималась: “Ой, как интересно. Я сейчас название и автора запишу”, – и долго царапала на каком-то клочке бумаги мою некороткую фамилию. Мне казалось, что это продолжалось бесконечно. Что бы я сделала сейчас? Всплеснула руками, ахнула – бывает же такое! – подписала бы и подарила книжку. А потом этот случай стал бы одной из семейных легенд…
Я так и не научилась шить, хотя когда-то хотела. А вот вязать любила, бабушка научила, еще когда я была девочкой: не только шарфы-свитера, даже нарядные платья себе вязала. Это безопасно – можно распустить, если что не так, и опять смотать нить в клубок. Вот и когда пишешь – всегда можно зачеркнуть-стереть… И думать-думать над ценой каждого слова.
У Бунина в “Жизни Арсеньева” есть такой эпизод. Герой рассказывает своей любимой Лике, как поздней осенью ездил с братом покупать на сруб березу: “Я говорил, как несказанно жаль было мне эту березу, сверху донизу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапо и грубо обошли, оглядели ее кругом и потом, поплевав в рубчатые, звериные ладони, взялись за топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны и черни ствол…” И заканчивает признанием, что хотел бы написать об этом рассказ: “Она пожала плечами: «Ну, миленький, о чем же тут писать! Что ж всё погоду описывать!»” И простая замена слова природа на прозаизм погода дает такой потрясающий эффект, что сразу воздвигает китайскую стену между героем и героиней.
Леонид Генрихович Зорин, подаривший нам “Покровские ворота”, “Варшавскую мелодию” и тома прекрасных пьес и прозы, – патриарх, проживший 95 лет и не так давно покинувший наш мир, однажды сказал мне, быть может, самые важные слова о писательском труде: “Для писателя нет такого, о чем можно сказать: «Это само собой разумеется»”. Не только глаз должен видеть все, не скользя лениво по поверхности, но не должно притупиться любопытство, интерес к людям и всему сущему. Все на свете достойно быть описанным и осмысленным.
Ну как же после всего этого не признать, что если ты пытаешься ставить “лучшие слова в лучшем порядке”, наносить на бумагу не сразу и не всем заметные водяные знаки, то вытащил у судьбы счастливый билет, и для тебя часы за письменным столом это высшая награда, ну, может быть, одна из высших, оставим первенство разве что за проявлениями милосердия и скромными добрыми делами.
Какого цвета аленький цветочек
И телу я сказал тогда: “Ответь
На всё провозглашенное душою”.
Николай Гумилев. Душа и тело
В пору моего детства, когда еще не только не существовало проблемы, как оторвать ребенка от компьютера, но даже и телевизоры в домах считались роскошью и экзотикой, лозунг “Любите книгу – источник знаний” был справедлив и актуален. Действительно, иных источников почти и не было. Но не было и книжного дефицита – он позже возник, когда мода на хрусталь в серванте за стеклом и книжные полки с красивыми корешками стали вещами одного порядка. Детские книги в изобилии предлагали библиотеки, в том числе школьные. И регулярно проводились у нас уроки внеклассного чтения.
И вот однажды тема была такая: “На кого из литературных героев вы хотели бы быть похожи?” Тогда нам еще не пудрили мозги “проблемой положительного героя”, говорили проще, доступнее для десятилетних младшеклассников.
Когда очередь дошла до меня, я сказала: “Я хотела бы быть как Настенька из сказки «Аленький цветочек»”. Полагаю, своим ответом я ввергла в ступор хорошую нашу учительницу Лидию Семеновну Яблонко. Правда хорошую, светлая ей память. Конечно, в тот год все мечтали быть похожими на Гагарина, про которого, впрочем, еще не успели написать книг. А если велели выбирать из литературных персонажей, в ходу были тимуровцы и Мальчиш-Кибальчиш, пионеры-герои, в крайнем случае гимнаст-революционер Тибул из “Трех толстяков”… И до сих пор я горжусь своим выбором, тогдашней собой – девочкой с вечно обгрызенными кончиками белого воротничка на тоскливой школьной форме, единственным украшением которой был октябрятский значок, пришпиленный к черному фартуку…
Да, теперь-то я прочитала Проппа и в курсе, что он относил “Аленький цветочек” к типу сказок “Амур и Психея”, где девушка попадает в прекрасный сад или замок и становится невольной пленницей некого монстра. И про Апулея, и про то, что в русской традиции есть с десяток вариаций этого сюжета… И у Бахтина – о том, что “воплощен для меня ценностно-эстетически только другой человек. В этом отношении тело не есть нечто самодостаточное, оно нуждается в другом, его признании и формирующей деятельности”. И еще много чего, как в школе говорили, “по теме”.
Не знаю, как считают лингвисты (уверена, что такие работы должны быть), но для меня “чудовище” и “чудище” далеко не синонимичны. Во всяком случае, когда разговор идет не о внешности. Мы ведь не скажем о злодее, что он – чудище, он именно что чудовище. Диснеевский оскароносный мультфильм “Красавица и Чудовище”, завоевавший детские сердца и разошедшийся не только по экранам, но и на бесчисленные сувениры, в оригинале все-таки использует в названии слово “beast”, а не “monster”. И, кстати, в сказке то самое чудовище именуется “чудищем”, но чаще всего “зверь лесной, чудо морское” (откуда море?). А “чудо”, даже если оно “чудо-юдо”, не равно не только чудовищу, но и чудищу. Встречается в сказке слово “страшилище”, но это уже вовсе о другом. Я понимаю, что читала “Аленький цветочек”, записанный Сергеем Аксаковым “со слов ключницы Пелагеи”, то есть вариант литературный. Но сейчас это не имеет значения. И еще я обойду стороной весьма занятные педагогические агитки, в которых сегодня пытаются анализировать различия между русской сказкой и европейской, ссылаясь на национальный характер и гуманистические традиции. Все это я оставлю специалистам.
Для меня Настенька была тогда и осталась воплощением жертвенности и милосердия, трогательной дочерней любви и примером женской любви не за красоту лица, а за красоту души. Ведь “страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные”.
В сказках превращения тела, изменения облика – обычное дело. “Не пей из копытца водицы – козленочком станешь!”, “Спрыснул мертвой водой, а потом живой водой…”, “съела молодильное яблочко…”, “молодец ударился об пол и сделался соколом”… Расколдовывания (в том числе поцелуем) – тоже общее место. Но здесь это становится именно осознанным жестом, подвигом.
Для меня было главным – и вот тут я опять кланяюсь себе-девочке, что у Настеньки был выбор, она могла спокойно остаться с отцом и сестрами…
В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды.
Андрей Платонов. Неизвестный цветок
А что же за цветочек Настенька просила отца привезти?
Названия он в сказке не имеет, отец узнает его по наитию: “И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:
«Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая»”.
Это не красный цветок из одноименного рассказа Всеволода Гаршина, который впрямую назван маком и который в больном воображении героя символизирует все зло мира, это едва ли роза – стержень сюжета в “Снежной королеве”, и уж точно не ландыши, какими торгует карамзинская “бедная Лиза”, и не “отвратительная, тревожная” мимоза, с какой Мастер встретил Маргариту. В большинстве версий почему-то упоминается тюльпан. Но мне кажется, что едва ли такой цветок существует где-то, кроме воображения, хотя, встретив в чьем-либо саду незнакомый красный цветок, я жадно интересуюсь его названием и особенностями.
А может быть, он вовсе не алый, а с разноцветными лепестками, вроде цветика-семицветика, или же, по Платонову, – “простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды”…
Как ни близко тело, оно все-таки чужое, только душа своя.
Лев Толстой
Когда я училась на историческом факультете, у нас был курс военной подготовки. И до определенного возраста я была военнообязанная со специальностью “медсестра гражданской обороны”. Готовили нас неформально: уколы, перевязки; я, например, отлично справлялась с наложением сложной “повязки-чепец” при черепно-мозговых травмах. Была и теория, в частности, начальный курс анатомии. Нас даже группами водили на вскрытия в морг, расположенный в чудесном старинном особнячке на Пироговке. Многие девочки боялись упасть в обморок и не знали, как получат зачет. Я меняла прическу, нацепляла очки, какую-то еще мы придумывали маскировку, и шла с другими группами, отмечаясь за сокурсниц в табеле посещений. Мне было невероятно интересно. Только я все время удивлялась: до чего сложно человек устроен, нужно ли столько косточек и сухожилий. Страха или отвращения не было вовсе. Занятно, что мысль стать врачом никогда не посещала меня, но часы, давным-давно проведенные в прозекторской, я вспоминаю с какой-то странной ностальгией…
Впрочем, и по сей день я не боюсь вида крови или открытых ран, что не раз пригождалось в разных обстоятельствах (при этом смертельно боюсь милых маленьких мышек и многого другого). В семье считалось, что я хорошо умею ходить за больными, и меня посылали в больницы к дедушке, потом к отцу еще девочкой. А когда мою подругу оперировал знаменитый профессор Илизаров, я полетела в Курган и жила там, ассистируя при перевязках. Стоял сентябрь, копали картошку, медсестры повально брали отпуска…
Но вот читать про какие-то телесные изъяны мне всегда было страшно. Помню ужас от “Слепых” Метерлинка и подкатывающую тошноту от “Головы профессора Доуэля”.
Собственное тело по-настоящему начинаешь чувствовать только в моменты опасности или болезни. И мало кто им доволен. Я помню, как ехала в метро с подругой, а напротив нас сидела и утирала слезы худенькая девушка. И моя умная и ученая, красивая и статная подруга совершенно серьезно, возмущенно даже, прошептала мне на ухо: “О чем она может плакать! С такой-то талией!”…
Наверное, действительно, страшен был “зверь лесной, чудо морское”, раз купец, отец Настенькин, “об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал”. Но ведь идеалы красоты в разных культурах, у различных рас, в разные времена бывали несхожи. Да и вообще о вкусах не спорят. Оскар Уайльд, кажется, сказал первым, что красота – в глазах смотрящего.
Семейная легенда. Когда я была маленькой, бытовало мнение, что ребенка надо обязательно один раз обрить наголо, тогда будут потом густые волосы. У меня были чудесные кудряшки, поэтому эта идея всем казалась кощунством. И вот однажды отца отправили со мной гулять, чего он терпеть не мог, как многие молодые папаши. Он томился от скуки, пока я возилась в песочнице, и вдруг его осенило. Он придумал, как убить двух зайцев: прийти домой через положенные полтора часа и заодно совершить подвиг, на который никто не решался. Отец рассказывал, что, когда он вел меня – бритую наголо и зареванную – домой, чем ближе мы подходили, тем больший ужас его охватывал… С ним не разговаривали несколько дней, меня с утра до ночи держали в платочке, но потом привыкли к моему новому облику. А через какое-то время мой дядя, консерваторский профессор, любивший меня как никто, стоял на балконе и наблюдал, как я с няней среди других детей гуляю во дворе. И вдруг сказал: “А посмотрите, всё-таки как хорошо, когда ребенок обрит, какая красивая головка. Наша Алёнушка лучше всех”.
С какого-то возраста человек начинает отвечать за свое лицо. Икона стиля Коко Шанель формулировала так: “В двадцать лет у вас такое лицо, какое вам подарила природа, в тридцать – лицо, которое дала вам жизнь, а в пятьдесят такое лицо, какого вы заслуживаете”.
Но это, скорее, опять о теле и душе, трудно их разорвать.
Вот ведь буквы, которые появляются по моей воле на белом листе, – они вещественны, они как бы тело, но мысли и эмоции мои тогда можно уподобить душе.
Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную…
Сергей Аксаков. Аленький цветочек
Не так давно в одном старомосковском доме я увидела федоскинскую лаковую шкатулку. И сердце мое заныло – “Аленький цветочек”. Не выдержала, взяла в руки. Она была теплая, каким всегда бывает настоящее.
И тут же за столом – благо компания была отменная – я рассказала про свою детскую историю. А потом еще об одном эпизоде в том же духе. Это случилось уже классе в седьмом или восьмом, в той же школе. На уроке литературы надо было выступить с любимым стихотворением. А тогда только-только начали печатать Марину Цветаеву – “оттепель!” – и мы ею зачитывались. Торжественно, как теперь понимаю – подражая актрисам немого кино, с придыханиями и подвываниями я продекламировала:
- Звенят-поют, забвению мешая,
- В моей душе слова: “пятнадцать лет”.
- О, для чего я выросла большая?
- Спасенья нет!
Учительница была, конечно, другая, но тоже хорошая. Светлая память Вам, Лидия Николаевна. Да и я была уже иной: вместо октябрятской звездочки с кудрявым вождем-ребенком мою форму украшал недавно врученный комсомольский значок – с серьезным, уже лысым ленинским профилем. Словесница терпеливо выслушала до конца, кивнула головой, но сказала, что просит выучить что-нибудь еще. Я решила, что, наверное, Цветаева еще не дошла до школьных дверей (про содержание я вовсе не подумала). В следующий раз я остановилась, как мне казалось, на варианте беспроигрышном – Тютчев. Опять-таки не без мелодраматических эффектов, “с выражением” я прочитала:
- Молчи, скрывайся и таи
- И чувства и мечты свои…
Больше ничего меня читать не просили. Но, когда отец пришел на родительское собрание, Лидия Николаевна отвела его в сторону и вполголоса предостерегла: “Вы последили бы за настроениями дочери. Уж очень Алёна мрачные стихи выбирает”.
Посмеялись. Застольный разговор окончательно свернул на скользкую тему “литература и идеология”. И через какое-то время я решилась на третью школьную историю.
Готовясь к сочинению по “Евгению Онегину”, я отправилась в любимую нами тогда Некрасовскую библиотеку на Бронной и взяла одну из брошюр, включенных в рекомендательный список. Мне все нравилось, я сделала много выписок. Но финальный аккорд едва не сыграл роковую роль в моей жизни. Теперь-то я понимаю, что брошюра эта была, скорее всего, выпущена к столетию гибели Пушкина, в 1937 году (Сталин, как известно, любил юбилейные даты не появления классиков на свет, а их ухода из жизни). Вполне возможно, что вышла она из-под пера критика Ермилова, которому кто-то из остроумных соседей к табличке на дачной калитке “Осторожно! Злая собака” приписал “и беспринципная”. Так или иначе, она не могла появиться позже, поскольку летчик-герой Валерий Чкалов погиб год спустя.
А собственно финал брошюры был примерно такой: “«Подымем бокалы, содвинем их разом!» – писал поэт. Жаль, что не дожил Александр Сергеевич до наших дней, не может сдвинуть бокалы с Валерием Чкаловым и вместе возгласить: «Да здравствуют музы, да здравствует разум!»”
(Про “скроется тьма” в том году было бы уместно, но эта строчка не цитировалась.) Я пришла в ужас от того, какой фальшью вместе с облаком пыли повеяло с этих страниц. И поклялась себе, что, если требуют так (уже, значит, понимала), литературой я не буду заниматься никогда.
К счастью, обещание, себе данное, я нарушила.
Вернувшись из гостей, я открыла интернет. В описании сказано: “Папье-маше, лак, роспись. Размеры: 26×19,5×8 см. Подпись на дне шкатулки: «“Аленький цветочек” в индивидуальном исполнении художника Иванова Н. В. с. Федоскино». Россия, 1950-е гг.”. Можно купить на “Авито”. Стоит, правда, почти две моих пенсии…
Когда меня пафосно аттестуют “экспертом”, я не только смущаюсь от груза ответственности, но тут же вспоминаю о тех “неправильных” выборах, которые я сделала в детстве и от которых, впрочем, не отрекаюсь и сегодня. Потому как настоящая литература – всегда загадка – тот самый “зверь лесной, чудо морское”, которое расколдовать может только читатель…
А что это за аленький цветочек, я так и не знаю и до сих пор ищу его в любом саду…
Связка скрипичных ключей
…мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу.
Лев Толстой. Крейцерова соната
Становится обидно, когда осознаешь, что нечто существенное в твоей эпохе, в жизни твоего поколения прошло мимо. Так случилось у меня с некоторыми, как принято говорить, “культовыми” советскими фильмами, которых я так и не видела или посмотрела не так давно, в гораздо меньшей степени с книгами. Но вот огромная дыра зияет в отношении музыки. Конечно, я знала о существовании западных, а потом и первых советских рок-групп, танцевала под их мелодии и тянула вино на вечеринках. Я их слышала, но никогда не слушала, почти случайно узнавала о трагических судьбах Джима Моррисона, Курта Кобейна, Александра Башлачёва и других членов “Клуба 27”, не смогла бы (за исключением разве что раз и навсегда пленивших меня “The Beatles”) назвать группы и их лидеров. Недолго длилось и мое увлечение джазовой музыкой, хотя “Маленький цветок”, написанный, кстати, в год моего рождения, и некоторые блюзы неизменно трогают душу.
У меня есть ответ на возможный упрек в снобизме: я очень люблю духовую музыку, в том числе военные марши и вальсы. Муж говорил, что в прошлой жизни я, наверное, была полковой лошадью: начинаю бить копытом, заслышав звук трубы.
Но академическая музыка, классика вошла в меня в таком раннем детстве, что стала и осталась естественной и неизбежной, как дыхание. Из меня не получилось профессионала, музыка для меня это прежде всего не опыт обучения, а опыт квалифицированного слушания. Потому что для любого творчества (и для восприятия жизни вообще) музыка – как ничто другое – дает то, что Ольга Седакова точно назвала “расширением сердца”: способность по-настоящему глубоко чувствовать все вокруг. А для развития поэтического слуха, чуткости к слову у музыки нет соперников, разве что стихи, без которых я тоже не живу и дня. Мне близко античное понятие мелопеи как мелодического воплощения поэтического текста и внятен мандельштамовский призыв “и слово в музыку вернись”…
Совсем маленькой девочкой с бантом на кудрявой головке я приходила в Консерваторию на вечерние концерты, куда меня пускали только потому, что я была “профессорской внучкой”. Мне не бывало скучно, мелодии захватывали меня, но уже тогда стало понятно, что у меня не только неподходящая рука, но нет ни абсолютного слуха, ни музыкальной памяти. Судьба моя была решена. Но решено было не только то, что 88 клавиш рояля не станут моей профессией, но и то, что музыка навсегда станет важнейшей частью жизни.
Мое отрочество прошло “на коленях у Антона Рубинштейна”…
Большой зал Консерватории, как известно, украшен овальными портретами композиторов. Я застала их уже в сегодняшней версии. Но по рассказам знаю, как смещали одних и заменяли другими, когда боролись с “безродными космополитами”, и вместо Мендельсона, Генделя, Гайдна и Глюка спешно дописывали “патриотичных” композиторов из “Могучей кучки” и примкнувшего к ним Шопена (вероятно как автора “Революционного этюда”). Под этими медальонами фамилии написаны уже согласно современным правилам орфографии, но вот с Римским-Корсаковым вышла промашка: у него первая часть фамилии написана по-новому, зато в конце второй красуется “ъ”. Ну да ладно. В Большом зале и не такое возможно. Как на огромном заказном полотне Ильи Репина “Славянские композиторы”, по иронии судьбы первоначально предназначавшегося вовсе не для храма музыки, а для зала ресторана “Славянский базар”, изображены люди, которые никак не могли встретиться в одном месте в одно время. По поводу этой фантастической картины Тургенев писал В. В. Стасову, что она являет собой “холодный винегрет живых и мертвых”.
В пору ранней юности я ходила на концерты иногда по несколько раз в неделю. Тогда еще никто не слышал об электронных билетах и рамках на входе, а контролерши стояли на площадке парадной лестницы. И аккуратно сложенная купюра (весьма скромного достоинства) открывала “проверенным” слушателям врата в мир музыки. Как только распахивались двери зала, я спешила занять треугольную нишу под портретом Рубинштейна. Много лет спустя я узнала, что это всем известное местечко кто-то из консерваторских острословов назвал “коленями Антона Рубинштейна”.
Никогда больше не слушала я так много живой музыки, как в те годы. Сейчас я понимаю, какой невероятной была тогда, полвека назад, консерваторская афиша. Я по сей день “отравлена” тем исполнительским уровнем, а потому довольно часто ухожу с концерта неудовлетворенной.
Больше всего я любила сольные фортепианные концерты, Klavierabends. Выбор любимого места под портретом Рубинштейна был продиктован еще и тем, что оттуда как раз очень хорошо видны руки пианиста. Маленькая фигурка на огромной пустой сцене около рояля почему-то вызывала у меня ноющую жалость – было страшно за одиночество этого человека перед тишиной зала, я физически чувствовала, как давит на него пустота, которую он должен сейчас заполнить первой нотой. Хорошо помню, как, немного выдвигая вперед одно плечо, вышел к роялю Рихтер, как он поклонился, сел и… не начал играть. Пауза была невероятно длинной, казалось, что сейчас он встанет и покинет сцену, что он передумал, что концерта не будет… Никогда не забуду ту паузу, после которой и музыка стала иной.
Тогда, конечно, я ничего не знала о расстрелянном отце Рихтера, его немецкая фамилия не вызывала у меня никаких эмоций, но через какое-то время Раиса Анатольевна – подруга моей бабушки и моя верная консерваторская спутница – позвала меня на концерт Рудольфа Керера. В антракте мы никогда не покидали своих мест – могли захватить другие безбилетники (Раиса Анатольевна, если не находилось свободного места, в лучших традициях сидела на ступеньке – маленькая, сухая, с прямой для ее возраста спиной). Максимум, который себе позволяли, – постоять, облокотившись на обитый бархатом барьер амфитеатра. И вот, обмахиваясь программкой как веером, она рассказала мне, что семья немца Керера в войну была выслана в деревню в Казахстан (прокомментировав, что им еще повезло) и что он играл там в клубе на аккордеоне. Когда Керер – элегантный и, как мне показалось, очень красивый – вышел на второе отделение, меня буквально преследовал образ этого аккордеона. Тогда я понятия не имела об изуродованных руках гулаговских музыкантов, о “немой” клавиатуре пианистов в сталинских застенках…
Консерваторский учитель моего дяди профессор Н. С. Жиляев был арестован и расстрелян в 1938 году по “делу Тухачевского”. В 1940 году, не зная, что к тому времени Жиляева уже не было в живых, коллеги и друзья Николая Сергеевича послали в ЦК партии на имя В. М. Молотова письмо с просьбой сообщить о его судьбе и пересмотреть дело. Рядом с подписями Гольденвейзера, Глиэра, Мясковского, Игумнова стоит и такая: “Заслуж. деят. искусств проф. – орденоносец Фейнберг”. Реабилитирован Жиляев был в 1961 году, дядя Сеня, умерший год спустя, мог узнать об этом. А вот его ученика, китайского пианиста Лю Ши-Куня, получившего вторую премию на Конкурсе имени Чайковского – тогда его обошел только Ван Клиберн, – я хорошо помню: он приходил к нам домой заниматься. На меня произвело сильное впечатление, что в качестве награды на конкурсе пианистов имени Листа в Будапеште, незадолго до московского, он получил прядь волос Ференца Листа (это не моя фантазия, нашла подтверждение в его биографиях), и мне – девочке – ужасно хотелось ее потрогать. В годы “культурной революции” он оказался в маоистских лагерях, где, по слухам, ему преднамеренно повредили пальцы. Но, судя по сведениям из интернета, он ныне здравствует и занимается преподавательской деятельностью.
Другой привязанностью моего отрочества был ансамбль старинной музыки “Мадригал”. Его создатель и руководитель Андрей Волконский бывал у нас на Миусах и, как Олег Прокофьев и его мама Лина Ивановна, олицетворял для меня иную – нездешнюю жизнь. Я никогда не слышала авангардной музыки Волконского, запрещенной к исполнению в Советском Союзе. Недавно я прочитала, что на первом и последнем исполнении его фортепианного сочинения “Musica Stricta” (“Строгая музыка”) в Ленинградской консерватории Мария Вениаминовна Юдина обратилась к залу со словами: “Музыка, которую вы сейчас услышите, совсем новая для публики, поэтому я ее сыграю два раза”.
В ансамбле Волконского пела Лидия Давыдова – моя дальняя родственница, но близкий человек для семьи (я почти не помню похорон папы, но как за поминальным столом пела Лидочка – не забуду никогда).
Концерты “Мадригала” пользовались бешеной популярностью. Еще бы – такого никогда не было. Музыка эпохи Возрождения казалась откровением, не мумифицированной, а живой. Но не только сама музыка – антураж, атмосфера – всё было необычным. На сцене воссоздавалась обстановка старинного салона: антикварная мебель, свечи в высоких канделябрах, картины, клавесин. Певцы были во фраках, а певицы в странных платьях из жесткого холста, расписанных масляными красками… Художник Борис Мессерер вспоминал, как они с Волконским перед каждым концертом выпрашивали во дворце Шереметевых в Останкине мебель “напрокат”. К сожалению, после отъезда Андрея Волконского на Запад, несмотря на все усилия его соратников, “Мадригал” постепенно стал увядать. Да и монополию он утратил, ансамбли старинной музыки вошли в моду.
Современные инструменты и оркестры настраиваются по ноте ля первой октавы, частота колебаний которой равна 440 герц.
В знаменитой египетской Долине Царей уже три с половиной тысячелетия стоят восемнадцатиметровые статуи – Колоссы Мемнона. По древним свидетельствам, на рассвете они издавали загадочный звук, настолько чистый, что по нему античные музыканты настраивали свои инструменты. Ученые позже объяснили это странное явление движением воздушных потоков.
В начале XVIII века Джон Шор, придворный трубач английской королевы Анны, изобрел прибор, похожий на металлическую вилочку с двумя зубцами, – камертон. По преданию, именно на этой частоте звучал голос древних статуй.
Мне хочется верить этому. Мне кажется, что музыка и возникает непостижимо, таинственно из потаенных глубин эоловой арфы, на струнах которой играет ветер.
Музыка – как отмычка, открывает запертые для многих двери. Но только для тех, у кого в руке связка скрипичных ключей…
Не точки на карте
Где статуи помнят меня молодой…
Анна Ахматова
В объятиях Садового кольца
Папины родители обитали в массивном девятиэтажном сером доме – кооперативе советских композиторов, построенном в 1939 году. Говорят, по замыслу архитектора дом предполагалось украсить выступающими изображениями арф, но уже в ходе строительства их изогнутые формы стали разрушаться, остались только струны. Впрочем, и так фасад достаточно богат, а теперь еще и пестрит заплатками мемориальных досок. Например, дверь нашего подъезда с двух сторон сторожат Шапорин и Глиэр. Дом цел и невредим, в квартире по сей день живут мои родственники.
Место первых прогулок в коляске, а потом и моими нетвердыми шагами – Миусский сквер. Рядом когда-то стоял недостроенный храм Александра Невского, его потом снесли и возвели Дворец пионеров, куда я ходила в хор и бассейн. И всегда по дороге смотрела под ноги: еще много лет можно было найти чудесные кусочки разноцветной смальты – от вертикальных мозаичных полос, по моде тех лет членивших переднюю часть здания. А чуть дальше – “Котяшкина деревня” – название, сохранившее память о когда-то стоявших тут деревянных домах, которые застали старожилы.
Самые ранние воспоминания. Раскрытое окно и на нем ажурная белая занавеска (теперь, думаю, тюлевая). Она волнами ходит туда-сюда, то надуваясь парусом, то опадая. Главное – ощущение опасности, что она улетит (сейчас понимаю – на улицу). Отчетливо вижу дырочки на занавеске, которым постоянное движение не дает сложиться в узор. Помню стол, на котором разложены карты ромбовидным рисунком вверх (до сих пор не знаю, почему оборотная сторона карт называется рубашкой), ясно отпечаталось, что переплеты косых клеточек были сине-красными. Чьи-то руки перебирают карты и ставят две “домиком”, а под ними – флакончик с красной крышечкой. Это наверняка играла со мной бабушка, мама отца, которая очень любила пасьянсы. Больше я ничего о ней не помню, она умерла, когда мне не было и трех лет. Но с детства меня волновала невероятная история женитьбы дедушки и бабушки. Дед влюбился в Марию Ивановну, увидев портрет в полный рост кисти художника Валентина Яковлева, первого ее мужа, умершего от сыпного тифа в 1919 году. И судьба их свела… А теперь у меня дома висят два портрета бабушки, написанные дедом – тоже художником.
Квартира была, что называется, профессорская. В самом прямом смысле слова, поскольку мой дядя был пианистом и композитором, профессором Московской консерватории. В пяти комнатах было не слишком просторно: дядя Сеня, дедушка с бабушкой, папина сестра с мужем и моим двоюродным братом и мы с родителями. Кроме того, была темная комнатка, где жила Сергевна – по-другому ее никогда не называли, – в семье вынянчившая два поколения. Я ее побаивалась, мне она казалась суровой и даже злой. Была она староверка, ела из своей, отдельной посуды. Моя тетя рассказала эпизод, потрясший ее в детстве. Однажды к Сергевне приехали родственники – оборванные, некоторые босиком. Войдя в дом (еще в старую их квартиру, не на Миусах, а на Маросейке), они молча рухнули перед ней на колени и со стуком ударились лбами об пол. Было это в начале тридцатых. Не помню, из какой она происходила губернии, но там был страшный голод. Оказалось, что, спасаясь от гибели, они продали невероятное по тогдашним меркам сокровище – ее швейную машинку “Зингер”. Сергевна поначалу окаменела, но потом сказала, что на них зла не держит.
Едва ли не главное счастье моего детства – комната с двумя роялями – “Стейнвей” и “Бехштейн”. С утра в квартире звучал Бах, день начинался с какой-нибудь прелюдии или фуги из “Хорошо темперированного клавира” – дядя Сеня разыгрывался. А потом к нему приходили студенты. Мне разрешалось сидеть между роялями, тесно прижавшись к огромному, чуть ли не с меня ростом, магнитофону, на котором медленно накручивалась на металлические диски коричневая блестящая пленка. В другой комнате стоял мольберт, вкусно и остро пахло красками, и можно было следить, как под кистью белый лист превращался в картину. А с двоюродным братом, моложе меня на полтора года, мы возились на большом ковре, строили города из кубиков…
Много лет спустя кто-то сказал, что в этом доме прожили жизнь так, будто не было советской власти. Так, да не так. Вот, например, семейный рассказ о страшном сне дяди Сени. Приснилось ему, что он потерял профсоюзный билет. И его прорабатывают, мучая нелепым вопросом: “А вдруг им воспользуется враг?” Однажды он принес из Консерватории, как тогда говорили, ордера, дававшие право на покупку дефицита – отрезов ткани на костюм. И они с братом отправились их “отоваривать”. По рассказам, обслуживал их немолодой продавец, возможно, еще из дореволюционных приказчиков. Он очень неодобрительно отнесся к тому, что ордер был не один, заподозрил в них спекулянтов. И выдал сентенцию, вошедшую в семейный фольклор: “Смотрите, дело может кончиться финалом”. Помню фотографии, из которых явно были вырезаны некоторые фигуры, – теперь-то я понимаю, почему людей могли вычеркивать из своей жизни… И мне легко представить себе ужас, который испытала бабушка, войдя в комнату и увидев, как маленький Сережа (мой будущий отец), открыв заветную шкатулку, вынул оттуда все документы, разложил их раскрытыми на столе и уже готовился украсить только что подаренными штампами в виде уточек, медвежат и зайчиков.
Все обитатели этой “миусской” квартиры были необыкновенными: и дед – прекрасный художник, поэт и философ, знакомец Максимилиана Волошина и Марины Цветаевой, и папина сестра – знаменитая сказочница Софья Прокофьева, и мой двоюродный брат Сережа, ставший антропософом, одним из великих магистров, и похороненный около Гётеанума в Дорнахе, где прожил большую часть жизни. Туда приходила выпущенная после восьми лет лагерей Лина Ивановна Прокофьева – в моих воспоминаниях какая-то вызывающе непохожая на всех, кого я знала, – нетогдашней и нетамошней внешности и природной элегантности. Это я теперь все знаю: про то, как ее допрашивал сам Рюмин, как мучили ее непрерывно звучащей в камере песней “Полюшко-поле” и как в бараке лагеря Абезь Лина Ивановна на ночь мазала лицо питательным кремом, который слизывали крысы, когда она, измученная дневной работой, наконец засыпала.
Кто только не бывал в этом доме. Но для меня-девочки главным был дядя Сеня. Когда его не стало, меня, десятилетнюю, взяли на панихиду в Большой зал Консерватории. Почему-то хорошо помню обсуждение того, в чем прилично мне туда пойти, и решено было, что самым подходящим нарядом будет школьная форма. Увидев дядю Сеню в гробу на той сцене, откуда так часто звучала музыка, услышав знакомую фугу Баха, я начала так безутешно рыдать, что меня в конце концов пришлось увести.
В эту квартиру после четырех лет войны вернулся мой отец, восемнадцати лет ушедший на фронт. Война окончена, долг выполнен… Представляю его – в шинели, с фанерным чемоданом переступившего порог квартиры на 3-й Миусской; как он не узнал своего отражения в огромном, до потолка, старинном зеркале, властвовавшем в передней… Жизнь здесь, в Москве, откуда он уехал почти мальчиком сначала в эвакуацию, а потом на фронт, в квартире, где по-прежнему раскрыт рояль в комнате дяди и стоит неоконченный холст на мольберте отца, осталась той же. Но он теперь – совсем другой, взрослый, – не стал ли он ей чужим?
В конце войны отец пишет:
- Десятый класс. Кончался школьный срок.
- Миусский парк. Знакомый дом под тучей.
- Канун войны… А нам казалось лучше
- Бродить вдали, в краю певучих строк.
- Наш тесный мир! Переступив порог,
- Мы были в нем огромнее и чутче:
- О звездной сфере нам поведал Тютчев,
- И радугами улыбался Блок.
- А вечера? А “Моцарт и Сальери”?..
- А книжных полок тусклые леса,
- И мягкий свет, и запертые двери,
- И мы вдвоем?.. А наши голоса?..
- О если б мог я – позабыв потери —
- Туда вернуться – хоть на полчаса!
Сообщая о демобилизации и скором возвращении, он признается в письме:
…какое огромное и долгожданное счастье ждет меня! Беседы с отцом, наши прогулки по таинственным переулкам, наша мастерская, где он будет писать, поминутно пятясь, отходя от картины с палитрой и кистями, а я буду вслух читать ему Овидия или Достоевского!..
Наверное, у каждого так бывает даже после недолгой отлучки: входишь – и в первую секунду не узнаешь дома: все было не так. И почему-то всегда комнаты кажутся тесными.
Когда мне было шесть лет, мы – благодаря дяде Сене – переехали в отдельную квартиру. Он часто заходил к нам, благо от Консерватории туда было пять минут хода. А для меня поездки на Миусы стали праздником, который приходилось выпрашивать.
Но была у этих посещений и оборотная сторона. Чем старше я становилась, тем сильнее давил на меня груз, тем выше рос комплекс неполноценности: никогда, никогда не подняться мне до моих родных! Более того. Уже в подростковые годы сковал страх, что обо мне за спиной будут говорить: “Ну, бывает…”, “Надо же… в такой семье…” Или еще хуже – сакраментальное “Природа отдыхает…”. Если добавить к этому, что мама была признанной красавицей, диву даюсь, как удалось если не изжить, то не дать задавить себя комплексами. Но все же во многом это определило мое будущее.
Когда мне было тринадцать лет и я проводила лето в деревне у моей няни тети Пани, дед, рассказывая о работе над иллюстрациями к какой-то из многочисленных им оформленных книг, пророчески написал мне в одном из писем:
Что может быть лучше работы? Она и кормит, и поит, и крышу дает над головой. Работа – убежище от всех грустных мыслей и всех огорчений. Работу надо любить. От работы получаются книжечки. А книжечки нас утешают, радуют. Мы ими гордимся, как детками и внуками.
О роскоши творческой профессии по вышеизложенным причинам я старалась не думать. Но все же, следуя собственным читательским пристрастиям, размечталась писать популярные исторические книжки для детей. Потому и поступила на исторический факультет. Но не в МГУ, на чем все взрослые настаивали, а в педагогический институт в наивной убежденности, что именно там меня научат тому, что нужно для детей. В итоге детскую историческую книжку я напишу через много лет и всего одну – о генерале Раевском, а жизнь повернется неожиданно и счастливо. И, по семейному выражению, как и положено, “дело кончилось финалом”!
На той же 3-й Миусской улице, в доме наискосок, жили дедушка и бабушка с маминой стороны. Чтобы дать отдохнуть родным, мои молодые родители частенько вечером переходили неширокую улицу с подушками и одеялами и ночевали со мной там – по преданию, я была крикливым младенцем. Может быть, одеяла и подушки добавлены в рассказ в качестве ярких деталей, но две детские кроватки были точно.
Дома эти и квартиры были совершенно непохожи. Композиторский – серый монстр… А у маминых родителей – старый, приземистый, но с прелестным изразцовым панно на торце: белочка, грызущая орешек (пушкинское “а орешки не простые, все скорлупки золотые” было для меня как бы подписью к этой картинке). Квартира – огромная коммуналка, у моих – две небольшие смежные комнаты. После того как мама вышла замуж, там остались родители и ее младший брат-школьник. В углу, где стояла моя кроватка, была кафельная печка до потолка. На ее белых плитках метались тени от проезжавших машин. Только печку, тени, звон и грохот трамвая я и помню от той квартиры. С трамваем связана одна из моих любимых бабушкиных историй. Давным-давно, до моего рождения и даже “до войны”, у бабушки была домработница. Опять же надо понимать, что наличие домработницы вовсе не говорило тогда о большом достатке: из голодных нищих деревень в Москву приезжали бесправные (в полном смысле слова – паспортов у них не было) женщины, готовые работать буквально за кров и стол. Так вот. У бабушки была домработница – молодая, шустрая, но странноватая девушка, смертельно боявшаяся большого города. Она хорошо изучила дорогу на Тишинский рынок и в ближайший гастроном – а за пределы этих маршрутов соглашалась ехать только туда, куда везет трамвай № 13 (его остановка была около дома). Собственно, вот и вся история. Но мне, девочке, почему-то казалось, что привязка всей жизни к двум железным рельсовым полоскам – это что-то мистическое.
Потом они переехали в отдельную квартиру неподалеку – на другой стороне тогдашней улицы Горького, ближе к Тишинскому рынку. Лет до двенадцати я проводила там почти каждое воскресенье. Привозила меня няня тетя Паня вечером в субботу. Поперек комнаты ставилась раскладушка. Не только потому именно поперек, что места было немного – с боем добытый румынский мебельный гарнитур сильно загромождал скромных размеров комнату. Главное – чтобы я могла смотреть телевизор. У нас дома он появился много позже, поэтому казался мне экзотикой. Утром в воскресенье неизменно следовал парадный завтрак – всегда одинаковый и для меня праздничный, опять-таки потому, что у родителей гастрономические изыски были не в чести. Тетя Паня за годы жизни в городе так и не рассталась с деревенскими понятиями и считала, что главное – быть сытым. Кулинарное искусство она считала баловством, учиться новым блюдам не желала и не раз говорила: “Почему это будет невкусно? Продукты все были хорошие”. Изо дня в день, без преувеличения из года в год, я ела на завтрак гречневую кашу или яйца. А тут по воскресеньям – отварная картошка, рассыпчатая, с рынка, селедочка, квашеная капуста и докторская колбаса, которую я могла поглощать в любых количествах. И непременно что-нибудь печеное – пирог, трубочки или рулет. Тетя Паня из сладкого умела делать только безе и пирог с вареньем, который мы не без яда называли “выгодным” – был он невкусным, а потому хватало его надолго, пока остатки не превращались в каменные сухари.
С дедом я обожала разговаривать о старых временах, о его братьях и сестрах, которых было без счета и из которых я знала немногих. Про деревню на берегу озера Алоль, откуда происходил их род, и ближайший городок Пустошку дед рассказывал так, что я мечтала туда попасть. И попала-таки, когда стала взрослой. Дед успел увидеть сделанные мною фотографии и даже уверял, что именно в их, конечно, перестроенном доме теперь находится местная больничка. Дед был специалистом по строительному лесу, что неудивительно для уроженца Псковщины. Когда я появилась на свет, ему было уже шестьдесят. Он знал массу сказок (много позже я поняла, что это были истории из Талмуда). Дед был совершенно лыс, длинный узкий череп делал его похожим на стариков с картин Эль Греко, голова мерзла, и он носил тюбетейку. Он был очень мнителен, вечно на что-нибудь жаловался, но названия лекарств запоминать не любил и раскладывал таблетки по спичечным коробкам, на которые наклеивал бумажки с пояснениями “от живота”, “от температуры”, а на снотворном было написано “от сна”. В Москву он перебрался смолоду и постепенно перетащил сюда нескольких братьев и сестер. Отличался невероятной рассеянностью. По семейной легенде, приехал он в Москву с сундучком драгоценностей, который забыл на извозчике.
Бабушка была на пятнадцать лет его моложе. И – закон парных случаев – история их женитьбы, как и женитьба дедушки и бабушки с папиной стороны, тоже поражает воображение. Семья жила в Москве на Сретенке, в Ащеуловом переулке, мой будущий дед дружил с бабушкиным старшим братом Шурой и говорил, что женится на Сонечке, как только она подрастет. Бабушке Соне было тогда двенадцать лет, и она училась в балетной школе. (Она родилась в 1907 году и часто с гордостью повторяла, что десять лет прожила при царском режиме.) Когда ей стукнуло шестнадцать, они действительно поженились. Вскоре родилась дочь, моя будущая мама, с балетом было покончено. Бабушка оказалась невероятной рукодельницей: шила, вязала, хозяйничала – это само собой, но могла и мебель перетянуть, и с топором-пилой управлялась (никому в роду это, увы, не передалось). Бабушка была практична и верховодила в доме. Характер она имела твердый, даже несколько деспотичный. Но были у нее и маленькие слабости. Она, например, обожала кино, и мы ходили с ней в “Россию”, только-только тогда открывшуюся, с невиданно широким экраном. В день, когда мы смотрели “Гусарскую балладу”, я могла погибнуть. Стоял мороз, но после фильма мы, как обычно, пошли пройтись по Тверскому бульвару – это входило в ритуал. На полпути замерзли и решили погреться в кассах театра им. Пушкина (театра Таирова, как, конечно, говорила бабушка). Только я сняла варежки и прижала окоченевшие руки к батарее, как вдруг рухнул большой кусок потолка, превратившись в груду обломков и покрыв меня с ног до головы белой пылью. Бабушка в этот момент изучала афишу у противоположной стены. Она страшно закричала, кинулась ко мне, прибежали какие-то люди…
И еще мы позволяли себе баловство: горячие пончики из автомата. Их продавали в окошке, через которое можно было видеть, как они выскакивают из металлической трубы. Потом пончики щедро посыпали сахарной пудрой и укладывали в бумажный кулек, который быстро промасливался. Были они такими аппетитными, что моя чопорная бабушка с тысячью оговорок (“Вообще-то, конечно, так делать неприлично, не дай господь, кто-то из знакомых увидит, но их надо есть, пока не остыли”) разрешала поглощать лакомство прямо на улице.
Бабушка до старости сохранила балетную осанку и безуспешно воевала с моей сутулостью.
Зарабатывала она на жизнь тем, что вела кружки вязания в двух Домах культуры и в частной домашней группе. А еще шила на заказ корсеты-грации. Часто при мне приходили дамы для снятия мерок или подгонки по фигуре. Я очень любила толкаться рядом и слушать взрослые разговоры, чаще всего про мужей, которые были “на большой работе” (сейчас это словосочетание совершенно вышло из употребления). Для мерок была специальная таблица, их снималось множество. Мне иногда доверялось заполнять под диктовку многочисленные графы с диковинными сокращениями. В подмастерьях у бабушки трудилась домработница Лиза, которой доставались всякие подсобные мелочи – например, выстрочить до жесткости деталь, прилегающую к животу и заменяющую теперешние эластичные “утяжки”. Ткань (не помню – дамаст? мадаполам?) покупали по блату прямо в рулонах, наверняка, как я теперь понимаю, незаконно вынесенных с фабрики.
С книгой я бабушку никогда не видела. Но на прогулках она частенько декламировала – видимо, с ранней юности запомнившиеся – стихи Игоря Северянина и на словах “и, внимая Шопену, полюбил ее паж…” драматически понижала голос, что мне казалось очень изысканным.
В кооператив педагогов Московской консерватории на улице Неждановой вступил дядя – человек настолько уважаемый, что ему разрешили купить двухкомнатную квартиру для племянника, моего отца. Все в семье понимали, что главной причиной этого была я – дядя Сеня мечтал, чтобы у его любимицы была детская.
Мы переехали, когда мне было пять лет. Мама не работала, целый день была дома и занимала “большую комнату” – 18 метров. Мы с отцом делили десятиметровку. Пока я была в школе, он работал в ней, а когда я возвращалась, переселялся со своими поэтическими переводами на кухню, где тетя Паня гремела кастрюлями и однажды сочинила шедевр “Грею, грею суп еврею”. Нам было тесно. А поэтому все время рождались разнообразные планы “расширения жилплощади”. Долго обсуждалась, например, идея прикупить расположенный под нами полуподвал и сделать квартиру двухэтажной. Но это оказалось сложно. Тогда стали искать варианты обмена в том же доме на трехкомнатную квартиру с доплатой. Однако все квартиры грешили какой-то нелепой планировкой. И вдруг мама нашла какую-то подходящую в соседнем подъезде, и мы втроем пошли ее смотреть. Мне было лет четырнадцать. И когда я поняла, что сейчас все решится, у нас будет большая квартира, где может когда-нибудь хватить места и моей собственной будущей семье, меня вдруг пронзила мысль: “А вдруг у меня никогда не будет своего, отдельного жилья!” И это показалось мне таким страшным, что я упала в обморок. Какое-то время я не признавалась, но потом открылась отцу. Больше вопрос не поднимался никогда – здорово я их напугала. Не значит ли это, что на самом деле я не очень-то была счастлива…
Но и в нашу тесноватую квартиру я стеснялась приводить многих одноклассников: они жили в многонаселенных коммуналках, и наша квартирка могла показаться им роскошью.
Мемориальные доски облепили дом значительно позже, в моем детстве и отрочестве обитатели еще здравствовали. Я с детства привыкла жить среди знаменитостей, встречать их в подъезде и ближайшем продуктовом магазине, а потом видеть на ярко освещенной сцене Большого зала Консерватории. Эта прививка против раболепия и одновременно снобизма позже и помогала, и мешала мне в жизни.
Звуки преследовали на всех этажах, создавая немыслимую какофонию. Ходили слухи, что предусматривалась какая-то новейшая по тем временам звукоизоляция, но она то ли осыпалась, то ли ее сгрызли мыши. Так или иначе, поскольку жили там, в основном, консерваторские преподаватели и к ним ходили студенты и частные ученики, игравшие на разных инструментах или певшие в разных диапазонах, непривыкшему человеку находиться там было непросто. Особенно шумно было летом, когда открывались окна – кондиционеров еще не было – и тихий двор, куда у нас выходили все окна, оглашался то ревом трубы, то писком флейты, то безуспешными попытками преодолеть какой-то сложный фортепианный пассаж. Я любила это нагромождение голосов, как потом любила летом гулять мимо открытых окон Консерватории и Гнесинки.
Когда я познакомилась с будущим мужем, он жил с мамой на улице Горького, в доме, где тогда был легендарный магазин “Малыш”, в огромной коммунальной квартире, которая когда-то целиком принадлежала его прадеду и от которой им осталась шестнадцатиметровая комната-пенал. Мама много-много лет стояла в очереди и вот наконец получила отдельную двухкомнатную квартиру. И ровно в этот момент ее тридцатипятилетний сын объявил, что собирается жениться.
Каково ей было выслушать известие о том, что она не будет единственной хозяйкой в долгожданной квартире! Если добавить к этому, что по возрасту я годилась ей во внучки (моя свекровь и бабушка были полными ровесницами – родились не только в один год, но даже в один месяц), можно представить себе, что она почувствовала в этот момент! Анна Вацлавовна была женщина замечательная, я считаю, встреча с ней определила мое отношение ко многим вещам. Мы дружно прожили под одной крышей три года, потом она тяжело заболела и умирала на моих руках. Высшего образования она не получила, окончила экзотическое учебное заведение – Педагогический техникум с сельскохозяйственным уклоном имени товарища Троцкого (готовил учителей для сельских школ), но была истинной интеллектуалкой, да еще обладала соответствующим национальности настоящим польским характером – была гордой и независимой.
Волгоградский проспект, новый семнадцатиэтажный дом – “ведомственный”, наша квартира – одна из немногих, которые по закону отошли Моссовету. Хозяин дома – НПО “Энергия” – суперсекретная ракетно-космическая фирма. Как нам сообщил как-то участковый милиционер, в округе дом называли “противоатомный”, поскольку возводился он передовым тогда методом скользящей опалубки и, как говорили, весь целиком представлял собой бомбоубежище. Отличительной чертой квартиры было обилие стенных шкафов, а также наличие балкона или лоджии в каждом помещении. Впрочем, последнее обстоятельство сыграло с нами злую шутку. Как говорил муж, все балконные двери, наверное, делали портные: они были либо приталенные, либо расклешенные – дуло из них нещадно. Дом стоял на пустыре, на юру, ветры свободно гуляли по двум комнатам, по кухне, по коридорам, и понадобились горы ваты и километры клейкой бумаги, чтобы заткнуть щели. В остальном квартира была удобной, недалеко от метро. Мы с мужем тем не менее ее втайне ненавидели. Миша, который всю жизнь прожил в центре, на Тверской, всегда потом говорил: “Это было, когда мы жили на выселках, в Кузьминках”. Он утверждал, что в Москве, где-то на Таганке проходит граница между Европой и Азией, разумея под Азией что-то чуждое. Путем хитрого обмена через три года уже вчетвером, с младенцем-дочкой, мы вернулись в центр.
Но в том доме успело случиться много всякого-разного. В страшном холоде мы встречали там Новый 1979 год. Под столом, обогревая ноги, стоял радиатор с раскаленной спиралью, и у Миши от жара ровно по стрелке треснули синтетические брюки. А от порыва ветра в щель под ограждением лоджии выкатилась и полетела с девятого этажа тяжеленная гиря от старинных часов, которой была приперта от сквозняка дверь. Если бы кто-то попался на ее пути, сидеть бы нам в тюрьме за неумышленное убийство.
В этой квартире мы пережили московское землетрясение 1977 года. Невероятное совпадение: у нас был в гостях приехавший из Екатеринбурга троюродный брат мужа – сейсмолог. Мы сидели за столом, помню, пили красное вино. Когда закачалась люстра, он сказал: “2–3 балла”. Потом звонили какие-то знакомые, а назавтра коллега с самым серьезным видом рассказывала, как при первом толчке спасала самое дорогое: “Чувствую – трясет. Я – хвать золотое кольцо, партбилет и на улицу”.
У нас на Волгоградском была тетка-общественница, которая всем с гордостью рассказывала, что она “жена и мать чекиста”. Классовое чутье у нее было тоже вполне чекистское, нас она невзлюбила с первого взгляда. И вот через пару дней я попала с ней вместе в лифт. Пока спускались с девятого этажа, надо было о чем-то говорить. Про землетрясение, конечно. Я начала: “Какой все-таки у нас крепкий дом – почти не почувствовали”. Она строго посмотрела меня из-под мохерового берета и строго сказала: “Вообще-то весь подъезд был во дворе”. Репутация погибла окончательно. Благо, скоро мы этот дом покинули. А то, глядишь, донесла бы, нашла бы повод…
Мы мечтали вернуться в центр. Забавно, что в те годы еще не известно нам было слово “риелтор”, а единственным местом в Москве, где можно было попытаться найти вариант для обмена (купли-продажи до приватизации квартир, естественно, не существовало в принципе), был Банный переулок недалеко от метро “Проспект Мира”. Там можно было подать объявление, посмотреть картотеку и купить “Бюллетень по обмену жилой площади”. Однако большинство искали подходящие квартиры на расположившейся рядом толкучке, где прохаживались люди с плакатиками в руках или на шее в надежде наткнуться на желанную. Но, как практически во всех сферах тогдашней жизни, параллельно расцветал нелегальный рынок услуг. Существовали так называемые маклеры, чья деятельность преследовалась по закону, им грозил срок до трех лет с конфискацией имущества. Услугами такого маклера в итоге мы и воспользовались, и за 500 рублей (моя зарплата в то время была 110) он нашел нам квартиру, в которой мы прожили сорок лет.
Девочкой я часто гуляла в этих краях. Там была точка притяжения – магазин “Консервы” у Никитских ворот, где в высоких конусах с краниками внизу краснел-багровел томатный сок, а на мраморном столе рядом стоял граненый стакан с крупной солью, в который была воткнута алюминиевая ложка. Конкуренцию этому лакомству мог составить только молочный коктейль, который взбивали в продуктовом на улице Герцена. Потом можно было углубиться в переулки, облизывая красные от томатного сока или белые от молочного коктейля усы. Рядом, в Хлебном переулке, стоял дом моей мечты. Я тогда не знала, что построен он был в стиле ампир вскоре после московского пожара 1812 года, что жил в нем композитор Верстовский, – а знала только, что в нем помещалось посольство таинственной страны Исландии. Сам особняк – маленький, изящный, почти игрушечный, с дивным полукруглым эркером – был таким, каким в девчоночьих грезах представлялся дом, где я буду хозяйкой.
Когда маклер предложил посмотреть квартиру в соседнем – Скатертном переулке, я была согласна не глядя. К тому моменту просмотр квартир и обсуждение вариантов уже измучили меня. Квартира оказалась по мне – с нишей в большой комнате (куда люди практичные наверняка встроили бы шкаф, а мы поставили журнальный столик с креслами), с неудобной на самом-то деле, но совершенно нестандартной планировкой.
Там было где развернуться с мужниным фамильным книжным шкафом и письменным столом. С прочей мебелью произошел смешной казус. Люди, которые по обмену ехали в нашу квартиру на Волгоградском проспекте, положили глаз на мебельную стенку – модный тогда предмет, купленный нами специально для комнаты свекрови. А мы как раз думали, как бы нам от нее избавиться и в новый дом не брать. И произошел еще один обмен. Тот редкий случай, когда каждая из сторон была убеждена, что обдурила другую: оставили “стенку” на месте, а взамен получили дивный старинный овальный стол, раздвигавшийся человек на двадцать, и журнальный столик с фигурными ножками и угловыми креслами. С ними я не рассталась по сей день.
Старомосковская квартира с фамильной мебелью и годами откладывающейся переклейкой обоев, хранящих следы когтей наших кошек-собак (“После меня – хоть ремонт”, – говорил муж, пресекая мои поползновения), – родная и теперь покинутая…
Здесь всё было мне впору, я всё прощала: и отсутствие балкона, и последний этаж с периодически протекающей крышей, и крохотную узкую кухню. Я знала скрип каждой паркетной дощечки и вид из каждого окна. Здесь выросла наша дочь, сюда приходили родные и друзья. Чтобы рассказать о той квартире, надо рассказывать обо всей жизни…
По прописке мы жили в Скатертном переулке, но при этом в квитанциях на оплату электроэнергии дом числился по улице Герцена, так что за свет и прочие коммунальные услуги мы долгие годы платили по разным адресам. В детской поликлинике наша карточка была по Герцена, а во взрослой – по Скатертному. В нашем случае ответ на простой вопрос об адресе оказывался не вполне простым.
Когда я осталась в ней одна, то поняла, что пришла пора расстаться. В ряду других потерь эта не была легкой…
Первое, что я сделала в новой квартире, – решительно снесла все стены. Теперь у меня большая студия и красивый адрес по Тверской улице. Рядом – в Леонтьевском переулке, – моя единственная, на десять лет, школа. Перевезла мебель, книги, дедовские картины… Конечно, при переезде со многим пришлось распрощаться, места тут куда меньше. Но теперь всё как-то на виду – никаких закоулков и тупичков. И я радуюсь: наступает момент, когда хочется прозрачности и простоты во всем – в том числе в собственном доме.
Прожив почти всю жизнь в объятиях Садового кольца, я не представляла себе, что оттуда можно уехать надолго. Я всегда любила Москву, изучала ее, писала о ней, много ходила и ездила на экскурсии. И вот однажды я отправилась в дом Наркомфина. Это теперь в нем проведена реконструкция, как я понимаю, достаточно бережная, под руководством внука его архитектора Гинзбурга, и продаются дорогущие квартиры. А тогда это было разрушающееся здание, в котором только угадывались революционные конструктивистские идеи. Меня покорила “ячейка (так именовались квартиры) типа F” – крошечная по площади, но с лесенкой на антресоль-спальню. Мне ужасно захотелось жить в такой “ячейке”, напоминавшей мансарду парижского художника.
И вот судьба подарила мне такую мансардочку в недалеком пригороде, всю белую, отчего я называю ее сугробом, стоящую посреди красивого парка, где в пруду плавают лебеди. Я много времени провожу здесь.
Всех веселю по поводу своего адреса: деревня Писково, дом 121. Где они нашли предшествующие 120 домов? Смешно, что в Википедии сказано, что население деревни три человека.
Когда в Тель-Авиве начал застраиваться знаменитый теперь бульвар Ротшильда, Меир Дизенгоф предложил начать нумерацию домов не с номера 1, а с номера 121. Это для того, чтобы, прочитав обратный адрес на конверте, оставшиеся в России родные и друзья с почтением видели, что улица, где те поселились, на самом деле очень длинная, а не какой-то там закоулок. Потом нумерацию поменяли – не знаю точно когда.
Вот и у меня теперь – дом 121…
Среди улиц в центре Москвы, на которых прошла моя жизнь, практически нет ни одной не сменившей название. Но процесс переименований шел совершенно нелогично: часть улиц вернула исторические названия (при этом порой обидев заслуженных людей, увековеченных в них), а часть – наоборот, заместив новыми те самые исторические названия (при этом увековечив многих достойных). Одним словом – путаница и невнятица…











