Читать онлайн Полонез
- Автор: Александр Домовец
- Жанр: Исторические детективы, Исторические приключения
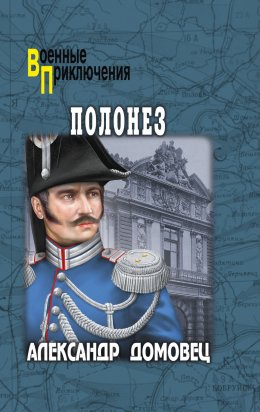
«Военные приключения»® является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО «Издательство «Вече». Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.
Составитель серии В. И. Пищенко
© Домовец А. Г., 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
Пролог. 1832 год
Массивная дубовая дверь слегка скрипнула и пропустила в кабинет двух человек, вежливо уступающих дорогу друг другу.
Один из них, в тёмно-синем военном мундире, был высок и худ. Другой, одетый в гражданский сюртук, напротив, отличался тучностью и небольшим ростом. В довершение контраста высокий носил густые усы, а низенький был гладко выбрит и отсутствие растительности под носом и на подбородке возмещал пышными бакенбардами.
Рядом эти люди смотрелись забавно. Но какой смельчак решился бы над ними шутить?
Высокий и худой был полковник Леонтий Дубельт. Малорослый толстячок – действительный статский советник Александр Мордвинов. Оба являлись ближайшими сотрудниками графа Бенкендорфа, а его в России трепетали ненамного меньше, чем самого государя-императора. Ещё бы! Подзабылось уже, что в годы борьбы с Наполеоном граф Александр Христофорович был успешным храбрым генералом. А вот что ныне Бенкендорф возглавляет Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии и отдельный корпус жандармов, – об этом знали все. Кое-кто даже лучше, чем хотелось бы.
– Леонтий Васильевич, Александр Николаевич, прошу садиться и подождать, – отрывисто сказал граф, не поднимаясь из-за стола. Перо в руке быстро бегало по листу бумаги.
Не отвлекая начальника от сочинения важного документа (а иных в этом кабинете просто не водилось), помощники чинно уселись за приставной стол. В ожидании разговора можно было задуматься о причине срочного вызова. А можно было и не задумываться. И так ясно, что вызов этот каким-то боком связан с утренним докладом Бенкендорфа императору. Была у Николая характерная особенность. Никто и никогда не выходил от самодержца с пустыми руками – всегда с ворохом новых, подчас неожиданных, задач и поручений. И начиналась работа…
Подписав и отложив документ, Бенкендорф поднялся из-за стола. Бросил негромко:
– Сидите, сидите, господа. Битый час не вставал, надо размяться.
Потягиваясь, неторопливо зашагал по кабинету, благо размеры комнаты позволяли. За окном тихо угасал майский вечер. Скрывая зевок, Дубельт невольно заметил, что день в очередной раз пролетел незаметно. Хотя чему удивляться? Утром занимался злоупотреблениями чиновников столичной торговой палаты. Потом принесли бумаги по неблагонадёжным из Тамбовской губернии. Затем принял цензора, требующего запрета на публикацию новых стихов поэта Пушкина (не цензор, а Цербер чёртов, такому дай волю – «Отче наш» запретит. Хотя, конечно, Пушкин Александр Сергеевич – птица непростая, непростая). А ещё… а после этого… И так изо дня в день. У Третьего отделения дел много, а людей мало.
Наблюдая за променадом начальника, Мордвинов философически размышлял, что домашние в очередной раз сядут ужинать без него. И ладно бы домашние, – привыкли, но сейчас приехала в гости из Ревеля двоюродная сестра с мужем. Неудобно. А впрочем… Государев человек в чинах и званиях себе не принадлежит. За это и взыскан высоким жалованьем, благами и орденами.
Взбодрившись кабинетной прогулкой, Бенкендорф вернулся на место. Уселся, одарил помощников задумчивым взглядом. Произнёс со вздохом:
– Я нынче доложил государю о трагедии в Калушине…
Благозвучный баритон графа звучал устало и невесело.
Дубельт, задрав бровь, переглянулся с Мордвиновым. Что за трагедия?
Калушин – городишко маленький и скучный. Возможно, самый маленький и скучный во всём Мазовецком воеводстве Царства Польского. И трёх тысяч человек не наберётся. Всех достопримечательностей – мыловаренный и свечной заводы, школа да богадельня. Вот, правда, еврейская община здесь большая. Но и тут ничего особенного. Поляки жидов не трогают, а те, в свою очередь, торгуют честно и деньги дают в рост под справедливый процент.
Что ещё? Ах да, городок плотно опоясан лесом. Тёмен тот лес, густ, непроходим. Сюда и местный-то люд ходит с опаской. А приезжие и вовсе не суются. Хотя таких тут почти и не бывает.
И вот на окраине Калушина, где городская черта почти смыкается с лесными зарослями, стоит заброшенный дом. Ещё не так давно обитала здесь семья зажиточного крестьянина Казимежа Олонецкого. Жили справно. Целая усадьба. Во дворе и хлев, и свинарник, и птичник. Само собой, огород. Пахали свой надел, торговали хлебом, в срок платили налоги и барщину. И всё у людей шло своим чередом, пока не грянуло восстание 1830 года.
Сложилось так, что именно близ Калушина части русской армии дважды бились с польскими войсками. Война тяжелым солдатским сапогом прошлась по узким городским улочкам и людским судьбам. Во многих семьях недосчитались отцов, братьев или сыновей, примкнувших к повстанцам. Олонецкий от горячего нрава и невеликого ума тоже кинулся воевать с москалями, – погиб. Вдова его, опасаясь русской мести, распродала за бесценок имущество и скотину и вместе с детьми уехала незнамо куда, лишь бы подальше от Калушина.
А дом, на который не нашлось покупателя, стоит заколоченный и пустой. Так было до того дня, пока не обнаружилась в нём страшная находка, из-за которой следователь поветской[1] прокуратуры Войцех Каминский, бросив другие дела, приехал в Калушин.
Ко всему привычен пан Войцех. При такой профессии чего только не насмотришься. И всё же картина в усадьбе Олонецких потрясла его так, словно и не было за плечами двадцати лет образцовой службы.
Темно было в том доме. Заколоченные ставни не пропускали ни крошки света. Но липкий запах крови – зловоние смерти – окутывал комнату, словно саван покойника, и красноречивее слов говорил о случившейся здесь беде.
Следователь зажёг несколько свечей, которые всегда возил в служебном саквояже для таких случаев. Огляделся. Присвистнул.
– Матка бозка[2], – только и сказал, невольно крестясь.
К бревенчатой стене в большой комнате был прибит совершенно голый мужчина. Острый железный штырь, который вогнали прямо в сердце, прошёл насквозь и глубоко вонзился в дерево. Голова поникла на грудь, в страдальчески перекошенном лице не осталось ничего человеческого.
К длинному столу посреди комнаты был привязан труп молодой обнажённой женщины с перерезанным горлом. И менее опытный криминалист, чем Каминский, определил бы невооружённым взглядом, что перед смертью над ней жестоко надругались. Но страшнее истерзанного тела были глаза – широко раскрытые, чуть ли не выпавшие из глазниц от нелюдской боли и ужаса, пережитых в последние мгновения.
– Приступайте, пан Михал, – сказал врачу следователь, указывая на трупы.
Обернувшись к сопровождавшим полицейским, распорядился хмуро:
– Ковальский, Возняк, идите на улицу, осмотритесь. Может, следы какие, может, кто-то что-то обронил… Ну, сами знаете, не впервой.
– Пан Войцех, там люди собираются.
– Всех за ограду. Нечего им тут топтаться.
Действительно, во дворе уже собралась кучка горожан. Весть о жутком преступлении быстро облетела Калушин, и обыватели с опаской и любопытством устремились к месту происшествия. Каждый в глубине души надеялся увидеть нечто такое, о чём впоследствии будет интересно потолковать.
Выпроводив полицейских, следователь поманил торчавшего у двери гминного[3] старосту. Иссиня-бледный тощий старик стоял сгорблено, опершись на косяк, и старался не смотреть на трупы.
– Напомни, любезный, как звать тебя.
– Адамек, ваша милость. Збигнев Адамек, – нетвёрдо произнёс староста, подходя с самым жалким видом. Казалось, его вот-вот вывернет наизнанку.
– Ну-ка, охолонись! – прикрикнул Каминский. – Ещё не хватало с тобой тут возиться. (Староста закивал и, достав кисет, принялся дрожащими пальцами мастерить самокрутку.) Ну, так-то лучше. Покури, успокойся… А теперь скажи мне, пан Збигнев, кто обнаружил преступление? И когда?
– Внуки мои обнаружили. Нынче утром, – сообщил староста, часто и жадно затягиваясь дрянным самосадом. (От мерзкого дыма у некурящего Каминского запершило в горле.)
Из бессвязного рассказа выяснилось, что внуки Адамека собрались в лес по грибы. Проходя мимо заброшенной усадьбы Олонецких, дети заметили, что заколоченная дверь дома отчего-то приоткрыта. Из любопытства подошли и заглянули внутрь, а там… Дико вопя, кинулись домой, к деду. Тот мигом добежал до усадьбы, с ужасом убедился, что внуки не врут, и тут же снарядил сына в Миньск, в поветскую администрацию. А уж там распорядились, чтобы на место выехал следователь с врачом и полицейскими…
– Ну, с этим ясно, – подытожил Каминский. – А теперь главное. Кого-нибудь из них знаешь? Вот эту женщину, к примеру?
С этими словами указал на труп. Староста мельком посмотрел на тело несчастной, на голые ноги и грудь в синяках и кровоподтёках. Пристально вгляделся в искажённое запрокинутое лицо с разбитым ртом, открытым в безмолвном крике. Отвернувшись, вытер глаза.
– Знаю, как не знать, – выдавил он и снова полез за кисетом.
– И кто же она?
– Кристя это. То есть Кристина Вансовская. Её отец торгует бакалеей. Свой магазин недалеко от костёла. Хорошая была девушка, ещё незамужняя, упокой господи её душу…
– Ну а мужчина кто? Может, и его знаешь?
– Знаю, – безучастно откликнулся староста. – Только это не наш, не местный.
– Кто же тогда?
– Он вообще русский. Чиновник какой-то из Варшавы. Из канцелярии наместника.
Каминскому очень захотелось ослышаться.
– Русский чиновник? Из канцелярии графа Паскевича? – переспросил быстро.
– Ну да.
– Так какого чёрта… в смысле, как он тут у вас, в Калушине, оказался?
– Ясно как. К Кристе приехал.
Оказывается, несколько месяцев назад этот самый чиновник, инспектируя поветы Мазовецкого воеводства, приехал в Калушинское гминство. Здесь случайно познакомился с Кристиной и влюбился по уши. Она тоже. С тех пор приезжал в Калушин раз в две-три недели и встречался с девушкой. Так-то собой человек видный, нестарый и вроде не бедный. Но вот беда – русский… Правда, по отцу. Мать-то полька, из Варшавы. Он и по-польски говорил, как на родном языке. Полукровка, значит. А всё одно – русский.
– Вансовские, понятно, не хотели, чтобы дочка встречалась с москалём, – уныло бубнил староста. – Невместно же польской девушке с русским якшаться. Но от дома ему не отказывали. Попробуй откажи, если при самом наместнике служит. В городе тоже косились. А Кристя и слушать ничего не желала. Мол, скоро поженимся и уедем в Россию. Светилась вся. Одно слово, – баба. Коли втюрится, так хоть кол на голове теши! А ведь предупреждали её, что добром не кончится…
Хлюпнув носом, замолчал. От клокотавшего внутри бешенства Каминский на миг прикрыл глаза.
– Предупреждали, говоришь? – переспросил чуть ли не шёпотом. – Ну, теперь молись, староста. Добром точно не кончится. – Не выдержав, гаркнул: – Да Паскевич за своего чиновника тут камня на камне не оставит! Считай, что на весь Калушин уже кандалы заготовлены!
Побагровевший староста, задыхаясь, рухнул на колени. Умоляюще протянул к следователю руки.
– Богом святым клянусь! – прохрипел сквозь надсадный кашель. – Мы-то что… Мы-то здесь при чём?
– А кто девушку с чиновником сгубил? Кто? Дух святой, что ли?
– Да не мы это!.. Мы тут люди мирные, тихие…
– Это ты по пути в Сибирь медведям будешь рассказывать!
Староста беззвучно заплакал, хватаясь за грудь. Каминский перевёл дух и продолжал тоном ниже:
– «Ни при чём», «тихие, мирные»… Это не разговор, – схватив старосту за шиворот, поднял с колен и повернул к трупам. – Смотри, старик, хорошенько смотри!.. Городишко крохотный, людей наперечёт. Вот и скажи мне: кто зверство сотворил? Это ж не убийство даже, это какое-то жертвоприношение… Кто из ваших на такое способен?
– Из наших никто, – тихо и твёрдо сказал староста. Помолчав, добавил: – Это другие сделали…
Взяв старика за плечи, Каминский слегка встряхнул. Посмотрел прямо в глаза:
– Те, которые в лесу?
– Они. Как бог свят, они…
– Значит, «народные мстители»?
Старик закивал, боязливо поглядывая на следователя.
В общем-то Каминского такой поворот событий не удивил.
Лишь полгода прошло, как подавили восстание. Армия своё дело сделала, но очаги сопротивления остались. Обстановка в Польше напоминала торфяной пожар. Вроде и пламени нет, а под ногами горячо и от дыма не продохнуть. Годами тлеет… Мутили воду в подполье недовольные и непокорённые. Масла в огонь подливали вожди-эмигранты. В лесах прятались банды «народных мстителей», кроваво защищавших свободу Польши и поляков от москалей.
Этих-то банд страшились больше всего. Под знаменем «Польши единой и неделимой в границах 1772 года» вчерашние крестьяне, студенты, ремесленники сбивались в стаи по двадцать-тридцать человек и беспощадно воевали со всем, что было в Царстве Польском русского. Шайки с невероятной лютостью нападали на солдат и офицеров из российских гарнизонов, убивали русских купцов, чиновников и путешественников. Непроходимые польские леса надёжно защищали «народных мстителей» от преследований власти, и неуловимость бандитов вошла в поговорку.
Страдали от своих «защитников» и соплеменники-поляки, вынужденные их кормить-поить и снабжать всем необходимым. Но это бы ладно. Страшнее, что любой, кого заподозрили в симпатиях или хотя бы просто в нормальном отношении к России и русским, мог стать жертвой «народных мстителей». Таких похищали и убивали на страх и в назидание другим.
Не врёт староста. Трагедия на окраине Калушина – не что иное как показательная казнь польской девушки, осмелившейся любить москаля, и москаля, который дерзнул посягнуть на польскую девушку. Затащили в пустой дом и зверски лишили жизни, а потом ушли в лес… И как лояльный чиновник системы российского наместничества следователь Каминский обязан расследовать дело, чтобы найти и покарать убийц.
Но ведь он ещё и чистокровный поляк со шляхетскими корнями, который вместе с другими поляками скорбит об утрате национальной независимости. И те, кого он должен искать, – по сути, с ним в одной лодке. Свои. Вот только борются за святую свободу сатанински жестоко.
И как ему, следователю, быть? Не впервые думал об этом, совсем не впервые…
Отпустив плечо старика, Каминский достал платок и вытер пот со лба. Душно было в доме. И этот застоявшийся пыльный воздух, пропитанный запахом крови…
– Пан Войцех, трупы свежие, – деловито сообщил врач, закончивший осмотр. – Вскрытие покажет, но думаю, что ещё полсуток назад люди были живы-здоровы. – Снял резиновые перчатки и принялся протирать руки спиртом. – По моей части всё. Как только составите протокол, можно увозить в повет, в морг.
– Спасибо, пан Михал…
– А как же я, пан следователь? Может, я уже пойду, чтобы под ногами не путаться? Вы тут протокол составлять будете и вообще…
Староста искательно смотрел на Каминского. Но у того ещё были вопросы. Выждав, пока доктор выйдет на улицу, следователь круто обернулся к Адамеку (тот аж отшатнулся) и спросил напористо:
– Скажи мне, пока один на один. Не для протокола.
– Что, пан следователь?
– Ты этих мстителей знаешь. Не можешь не знать. Вы же их наверняка всей общиной кормите-поите. Да ещё, небось, одеваете-обуваете. Вот и скажи, кто они такие. Имена, фамилии. Может, клички. Сколько их. Где прячутся. Это только для меня. – Требовательно посмотрел прямо в глаза. Нажал голосом: – Ну? А я в рапорте наместнику укажу, что горожане здесь ни при чём, обещаю.
Староста замотал головой.
– Не могу я, пан следователь…
– Боишься?
– Боюсь, да… Опять же, – какие ни есть, а защитники наши. За Польшу великую воюют. Как же их выдавать? Свои ведь, – закончил неуверенно.
В сущности, старик высказал вслух то, о чём Каминский и сам только что думал. Свои-то свои, но… Невольно бросил взгляд на мёртвую девушку, на распятого мужчину.
– Это верно, старик, – воюют. Себя не щадят, – сказал мрачно. – Только воевать можно по-разному. Можно с армией. Но можно и с беззащитными. – Кивком головы указал на бездыханные тела. – Ты их кормишь, а они над твоей же горожанкой надругались и горло перерезали, как свинье. А если завтра ещё кто-то им не понравится или что-то не так сделает? Новые могилы копать будешь?
Уставившись в пол, староста молчал.
– Не хочешь выдавать? Ну и правильно. Защитники же твои! Мои, получается, тоже… – Каминский сунул руки в карманы и наклонился к старику. – Только я вот думаю: на кой ляд такие защитники? Страшно с такими. Звери, и те добрее. Ну, что молчишь? Ты же старый, умный. Скажи что-нибудь.
– Не мучьте меня, пан следователь, – еле слышно попросил староста.
– Боишься, старик, – процедил Каминский, дёрнув уголком рта. – Опять же правильно. Чем ты лучше той Кристи? Заподозрит кто, что лишнее сболтнул, так за это из тебя всю кровь по капле выдавят. Такие у нас защитники… Иди.
– Что? – переспросил староста непонимающе.
– Уходи, говорю.
Повернулся к старику спиной. Давно уже не было на душе так мерзко…
У двери понурого старосту чуть не сшибла с ног немолодая простоволосая женщина в домашней кофте, застёгнутой через пуговицу. Следом за ней в комнату вбежал, задыхаясь, грузный пожилой мужчина с перекошенным лицом. Оглядевшись, оба с плачем кинулись к столу, на котором лежала девушка.
– Кристя, Кристя! – навзрыд повторяла женщина.
– Доченька наша ясноглазая! – хрипел мужчина.
Упали на мёртвое тело, обливая слезами родную бездыханную плоть.
Отвернувшись, Каминский с тяжёлым сердцем вышел в сени, где с ноги на ногу переминался чего-то ожидавший Адамек.
– А-а, ты ещё здесь? Это хорошо. Дай-ка своего самосада, – попросил неожиданно для себя.
Староста достал из кармана кисет.
– Вот, возьмите. Только аккуратней с ним, злой у меня табачок-то…
– Да уж заметил по запаху.
– Я, в общем, что, пан следователь? Гори оно всё синим пламенем… Скажу про них, что знаю. Немного, но знаю… А вы уж меня не выдавайте, как обещали.
Каминский встрепенулся. Староста всё тот же, а слова другие… Хотя нет: что-то в стариковском морщинистом лице вдруг изменилось.
– Можешь не беспокоиться… Решился, значит?
– Решился, – горестно сказал староста. – А как не решиться, если тут такое? – Ткнул пальцем в сторону комнаты, откуда нёсся утробный вой матери. – Гореть им в аду, защитникам, пся крёвь[4]. Но сначала пусть заплатят за душегубство! Кристя, бедная, с моими дочками вместе росла, в одни куклы игрались…
Рассказ Бенкендорфа о Калушинской трагедии Дубельт с Мордвиновым выслушали в мрачном молчании.
– Донесение об этих событиях я получил вчера из канцелярии наместника, – закончил Александр Христофорович. – К нему была приложена копия рапорта местного следователя Каминского. Очевидно, человек толковый и расторопный. Буквально в один день по своим агентурным связям выяснил, где находится лесной лагерь этих «народных мстителей». И к тому же помог провести военную операцию.
Дубельт поразился.
– Что, уже и операция состоялась? Быстро же граф Паскевич ответил.
– Судя по донесению, наместник был вне себя, – пояснил Бенкендорф. – Бандиты зверски убили чиновника его канцелярии, титулярного советника Костина. (Дубельт вдруг нахмурился.) Я уж не говорю про польскую девушку. А ведь этот Костин был доверенным человеком. Паскевич его привечал и тянул по службе. В общем, как только поступили сведения от Каминского, наместник отправил в Калушинский лес из Мазовецка пехотный батальон.
– Чем закончилась операция? – быстро спросил Мордвинов.
– Чем она могла закончиться? Полным разгромом банды, разумеется, – сказал Бенкендорф, приглаживая венчики седеющих волос вокруг безукоризненной лысины. – Окружили их лагерь, началась перестрелка. В донесении указано, что из двадцати восьми «мстителей» двадцать один убит или ранен, шесть захвачены.
– А двадцать восьмой?
– Этот, увы, ускользнул. И самое неприятное, что именно он – главарь банды. Это некий Ян Зых, бывший студент Виленского университета. Характеризуется как человек умный, сильный, смелый и, судя по действиям банды, утончённый садист. Распять Костина велел именно он. Надругаться над девушкой перед смертью тоже.
– Ищи теперь эту сволочь, – с досадой обронил Дубельт.
– Сволочь уже ищут, Леонтий Васильевич, хотя вы правы, – не так-то просто, Польша велика…
Бенкендорф звонком вызвал дежурного секретаря и велел подать чаю. Разговор продолжили с чашками в руках.
– Это всё была предыстория, господа, – сообщил граф, откидываясь на стуле. – Главное, – как отреагировал на моё сообщение государь.
– Воистину главное, – пробормотал Мордвинов.
– Государь выслушал с большим вниманием, – продолжал Бенкендорф. – Вы знаете, что Польша для него – тема не только серьёзнейшая, но и больная. Сказал он, что разгром банды, конечно, дело важное. Однако, обрубая щупальца, не пора ли ударить в голову?
– Речь, как я понимаю, о Польском национальном комитете, который квартирует в Париже, – полувопросительно-полуутвердительно произнёс Дубельт после паузы.
– Именно так, Леонтий Васильевич. – Допив чашку, граф с лёгким стуком поставил её на стол. – Здесь, в Царстве Польском, лишь исполнители руководящих планов. Все вожди восстания там, в эмиграции. Значит, в соответствии с поручением государя, мы должны вплотную заняться комитетом и его верхушкой.
Бенкендорф поднялся, – энергично, словно не было утомительного дня. Следом встали Дубельт с Мордвиновым.
– В ближайшие дни государь ждёт наших предложений по работе с эмиграцией, – официальным тоном добавил начальник Третьего отделения, заложив руки за спину. – Ясных, чётких, детально разработанных.
Дубельт неожиданно поднял голову и посмотрел куда-то вверх. Задумался коротко. Слегка прищурился.
– Предложения будут, – сказал наконец уверенно. – Александр Христофорович, я бы хотел взять у вас донесение из канцелярии Паскевича и рапорт этого… как его… Каминского. Можно?
– Разумеется. А зачем вам эти бумаги?
– Хочу изучить повнимательнее. Сдаётся мне, что интересного в них больше, чем кажется на первый взгляд…
Глава первая
Для своих заседаний и повседневной работы Комитет снимал двухэтажный особняк на Анжуйской улице квартала Сент-Оноре, находившейся в центре Парижа на правом берегу Сены. Здесь было уютно и прилично. Улица купалась в прохладе каштанов и вязов, соседние особняки и четырёх-пятиэтажные дома с мансардами смотрелись чистенько и аккуратно, цены в окрестных магазинах, лавках и кафе не шокировали, как, скажем, в заведениях модного квартала Шоссе д,Антен, не говоря уже об аристократическом Сен-Жерменском предместье.
Многие, многие достойные люди облюбовали квартал Сент-Оноре! Жили в его солидных домах дипломаты и состоятельные иностранцы, известные политики и либеральные дворяне, – из тех, что стали на службу июльской монархии[5]. Но главным образом обитал здесь степенный буржуазный люд: не самый богатый, но и вовсе не бедный. Цена жилья на продажу и сдачу внаём была под стать благосостоянию местных обитателей, то есть не слишком высокой, но и низкой не назовёшь. В общем, «Aurea mediacritas»[6]. Однако для Комитета аренда оказалась вполне сносной. Хозяин дома, почтенный коммерсант и завзятый бонапартист, охотно предоставил польским революционерам хорошую скидку. Возможно, то была адресованная России, хоть и запоздалая, косвенная месть за разгром Наполеона.
Для особняка началась новая жизнь. Большой обеденный зал на первом этаже переоборудовали в зал для заседаний. Жилые комнаты стали рабочими кабинетами. А верхняя спальня превратилась в скромную, хотя и просторную обитель председателя Польского национального комитета профессора Лелевеля, – знаменитого историка и политика.
Вечером 29 октября 1832 года в особняке было шумно и людно, как всегда.
Тут надо пояснить, что сам по себе Польский национальный комитет насчитывал одиннадцать членов, включая секретаря и казначея. Была ещё, правда, племянница Лелевеля панна Беата, исполнявшая роль хозяйки дома, и горничная Агнешка, работавшая прислугой за всё. Ну и вахтёр-сторож Мацей. Немного.
Фактически же Комитет, созданный в декабре 1831 года, был существенно шире. Вокруг него вскоре сложился круг доверенных эмигрантов, которых председатель привлекал к обсуждению наиболее важных вопросов. Таких было два: сплочение эмиграции и подготовка нового восстания в Царстве Польском. Вопросы не просто важные, – вечные. Желания сплачиваться у эмиграции не было, а для подготовки восстания требовались большие деньги, которых тоже не было. Но Лелевель рук не опускал.
Добавим, что мало-помалу штаб-квартира Комитета стала неофициальным эмигрантским центром. Таким, что ли, клубом. Здесь изо дня в день собирались, обсуждали вести из Польши, спорили и переругивались, пили чай или кофе, курили трубки, со слезами на глазах слушали полонез Огинского, прекрасно исполняемый на фортепьяно панной Беатой, – словом, общались эмигранты, поддерживавшие Комитет.
Французское правительство давало приют польским революционерам отчасти в пику России, отчасти в угоду общественному мнению, которое горячо поддерживало разбитых повстанцев. Да и как иначе могло быть в стране, где за последние полвека революция стала нормой жизни, а свержение монархов – рутиной. От Людовика Шестнадцатого к Наполеону, от Людовика Восемнадцатого к Карлу Десятому. А теперь правил и вовсе король-гражданин, буржуазный самодержец Луи-Филипп, ничуть не стеснявшийся сдавать напрокат стулья в принадлежащем ему саду Пале-Руаяль…
Однако при всём лояльном отношении к полякам правительство за ними присматривало зорко, не без основания считая эмигрантов духовными братьями якобинцев[7], о которых во Франции вспоминали с дрожью. В Комитете об этом знали, и такое сравнение вчерашним повстанцам льстило. Любопытно отметить, что некоторые члены Комитета на самом деле были чем-то схожи с якобинскими вождями.
Сдержанными манерами, аккуратностью, тихим голосом и сумрачным худым лицом Иоахим Лелевель напоминал Робеспьера.
Отставной бригадный генерал Войска польского Роман Солтык, здоровяк с громовым басом и некрасивой физиономией в ореоле вечно всклокоченных волос, большой любитель мяса, вина и женщин, – так вот, с этого Солтыка можно было бы писать портрет Дантона.
Имелся также свой Марат. На его роль вполне мог претендовать публицист Тадеуш Кремповецкий, чьи радикальные принципы и резкие суждения изъявляли непримиримый дух, бурлящий в костлявом теле.
И, наконец, историк и писатель (заодно и бывший военный) Леонард Ходзько. Положительно, было в нём сходство с Сен-Жюстом. Тридцати лет, статный, – пожалуй, что и красивый. Но в бесстрастном лице с большими холодными глазами ощущалась непреклонность палача, занёсшего топор над жертвой.
Кстати, о палаче. Таковым Комитет, естественно, не располагал. Но был некий эмигрант, появившийся в Париже лишь несколько месяцев назад и в силу непонятных причин мгновенно завоевавший полное доверие Лелевеля. Именно ему председатель поручил организовать безопасность Комитета.
Первым делом были наняты два дюжих телохранителя, чьи рожи сами по себе могли бы отпугнуть любого злоумышленника. Отныне они сопровождали профессора во всех перемещениях. Потом некоторые из наиболее шумных эмигрантов почему-то перестали бывать в Комитете. Ещё недавно день за днём сотрясали воздух в особняке, а теперь выбрали для дискуссий другое место. Потом вдруг исчез бывший депутат сейма Дымбовский, утомивший Лелевеля жёсткой публичной критикой в адрес и самого профессора, и возглавляемого им Комитета. Исчез, как и не было. То ли внезапно покинул Париж, то ли вообще непонятно что… Потом у редактора эмигрантской газеты, недружественной к Комитету, начались проблемы с распространением тиража, а однажды тираж и вовсе сгорел, – вместе с типографией…
Ни к одному из подобных эпизодов (а они были, были) новоиспечённый помощник по безопасности отношения вроде бы не имел. Но спустя короткое время этого довольно молодого, немногословного, коренастого человека в эмигрантской среде стали без видимых причин побаиваться и сторониться. Непохоже, однако, чтобы того холодное отношение собратьев-эмигрантов смущало. Общался он исключительно с Лелевелем да оказывал знаки внимания панне Беате, которая принимала их чрезвычайно сдержанно. Не нравился ей человек, у которого, кроме сложной репутации, была ещё и совиная внешность. Крючковатый нос, немигающий взгляд круглых глаз… Уж лучше Ходзько, который при всей сдержанности время от времени одаривал её недвусмысленными комплиментами…
Но вернёмся к 29 октября.
До второй годовщины восстания оставался месяц. Сидя за длинным столом, члены Комитета и приглашённые эмигранты под лёгкий треск свечей в канделябрах горячо обсуждали, как лучше отметить славную дату.
– Шествие, панове! Непременно большое народное шествие, прямо на Елисейских Полях! – надрывался большой поклонник массовых действий неукротимый Кремповецкий.
– Шествие – это хорошо, – соглашался бывший граф Гуровский, за участие в восстании лишённый имущества и приговорённый на родине к смертной казни. – Но я бы не привлекал излишнее внимание властей. Не будем ставить французов в неудобное положение. Вы же знаете, что русское посольство и так требует высылки половины из нас. Отметим как-нибудь камерно.
Лелевель наклонил голову.
– Я тоже склоняюсь к скромному варианту, – прошелестел он. (Удивительная особенность была у председателя: как бы тихо он ни говорил, все и всегда его слышали.) – Соберёмся своим кругом прямо здесь, накроем стол. Вспомним погибших собратьев, обсудим дела и планы… И потом, насколько я понимаю, финансовое положение Комитета не позволяет сейчас замахнуться на широкое празднование.
Взгляды собравшихся дружно обратились к Каролю Водзинскому. Этот малоприметный немолодой человек, всегда одетый в тёмное, исполнял в Комитете обязанности кассира, а фактически министра финансов, с ним считался и сам председатель. Водзинский значительно кивнул, как бы подтверждая слова Лелевеля: да, мол, время такое, – не до жира.
– И всё-таки у празднования должно быть хоть какое-то общественное звучание, – настаивал Кремповецкий. – Просто выпить по рюмке и потолковать можно в любое другое время.
– Предлагаю компромисс, – обронил Ходзько, поглаживая густые усы. – В день годовщины соберём людей и проведём митинг. Загодя предупредим префектуру, само собой. Я приглашу пять-шесть газет, репортёров угостим. Это недорого. Напечатают заметки о митинге польской эмиграции, – вот вам и общественное звучание. Ну, а уж потом и за стол, как предлагает пан председатель.
При слове «стол» экс-генерал Солтык оживился.
– По-моему, славное предложение, – заявил он, потирая руки. – С газетами всё ясно. Теперь предлагаю поговорить о меню. А пан Петкевич пусть запротоколирует.
– Не рано ли про меню, за месяц-то? – усомнился секретарь Комитета Владислав Петкевич.
– В самый раз, – отрезал Солтык. – А пан кассир за месяц как раз денежек-то на стол соберёт, соберёт…
Водзинский только вздохнул. Помощник по безопасности, сидевший рядом с председателем, бросил на Солтыка саркастический взгляд, но промолчал.
Часть собравшихся, не поместившись за столом, устроилась на стульях вдоль стены. Сидел среди них и человек, явно разменявший пятый десяток.
Держался он неестественно прямо, словно аршин проглотил. Одет был солидно и неброско, только вот серый, хорошего сукна сюртук казался слишком большим, не по размеру, словно снятым с чужого плеча. Похоже, человек нервничал или был чем-то озабочен, – то и дело доставал из кармана панталон платок и вытирал пот со лба, хотя в особняке было вовсе не жарко. При этом веки его оставались полуприкрыты, словно не хотел ни с кем встречаться глазами.
Неожиданно он поднялся и направился к выходу. Чуть позже следом за ним из зала выскользнул один из собравшихся.
Этого человека я вижу впервые, хотя вроде бы уже знаю всех, кто более-менее регулярно бывает в нашем особняке. Но это ладно. В Париж из Польши регулярно приезжают новые люди, наше сообщество пополняется, и за каждым не уследишь.
Гораздо интереснее, почему его сюртук оттопырен на груди. Словно лежит у человека за пазухой какой-то объёмный предмет. Даже чрезмерно просторная одежда не в силах скрыть его величину. Похоже, однако, эту странность заметил я один, – все остальные слишком увлечены обсуждением предстоящего события. Другая странность: незнакомец явно взволнован. Он не выпускает из рук носовой платок, вытирая пот со лба. Что это с ним?
Видимо, ощутив на себе взгляд, человек поворачивает голову в мою сторону. Я не успеваю отвести глаза. Не знаю, что он там в них прочитал, но только вдруг встаёт и направляется к выходу. А вот это уже по-настоящему интересно. Словно испугался… но чего? Выждав с минуту, я тихонько покидаю зал и следую за ним.
Застаю незнакомца в маленькой комнатке-гардеробной на первом этаже. Здесь раздеваются гости и посетители Комитета. Он торопливо надевает пальто. Увидев меня, застывает, не успев продеть руку в рукав.
Теперь я могу как следует его разглядеть. Хорошее лицо… да, хорошее. Высокий лоб, твёрдые черты, решительный подбородок. Седеющие волосы каштанового оттенка, аккуратно подстриженные усы. Упрямые серые глаза настороженно прищурены. Немолод, но фигурой крепок и широкоплеч.
– Вечер добрый, пан, – приветливо говорю я, заходя в гардеробную. – Что же вы собрались, не дождавшись чаю? Панна Беата с Агнешкой сейчас будут разносить. Оставайтесь, не пожалеете. К чаю бутерброды будут, и булочки тоже прямо из местной пекарни, – объеденье.
– Добрый вечер, – сдержанно говорит человек, надев наконец пальто. – Нет времени, знаете ли. Спешу. Как-нибудь в другой раз.
– А-а, – тяну понимающе. – Жаль, конечно. А впрочем… – Сделав шаг вперёд, говорю уже без обиняков: – Ну-ка покажите, что у вас там за пазухой.
Глаза незнакомца гневно вспыхивают.
– Пан в уме? Какое пану до этого дело?
– Самое непосредственное. У нас, видите ли, не принято посещать Комитет с оружием в кармане.
– Дайте пройти! – рычит незнакомец и пытается меня оттолкнуть.
Перехватив протянутую руку, без церемоний заламываю за спину и прижимаю человека лицом к стене. Без церемоний же запускаю свободную ладонь за пазуху. Достаю предмет, оттопыривающий сюртук незнакомца.
– Так и есть, – говорю, переводя дух. – Пистолет «Ле Паж», армейский, однозарядный. Продаётся во всех оружейных лавках. Вы в какой брали?
– Идите к чёрту! – хрипит незнакомец, пытаясь вырваться. (Скажу сразу – напрасно.) – Отпустите меня!
– Отпущу, конечно, – успокаиваю я. – Не до Рождества же вам руку выламывать. Но взамен вы расскажете, кого из нас вы собрались подстрелить. И почему. Или, если угодно, – за что.
– Ни хрена я вам не расскажу!
– Вот что нас, поляков, от века губит, так это дурное упрямство…
С этой нравоучительной репликой отпускаю незнакомца. Но тут же, щёлкнув курком, приставляю дуло «Ле Пажа» снизу к подбородку.
– У вас, любезный, два пути. Либо я подниму шум, сбегутся наши, и общими усилиями мы сдадим вас в участок. А там жандармы со всем возможным дружелюбием расспросят вас насчёт оружия и планов его использования… Либо мы сейчас пройдём в уютное место, где можно выпить хорошего кофе и поговорить. И вы мне без протокола всё поясните. Можете считать это детским любопытством.
При словах «без протокола» человек отчего-то улыбается краешком губ.
– Сильные у вас руки, – замечает он, потирая лицо, слегка пострадавшее от соприкосновения со стеной.
– Я и бегаю быстро, – откликаюсь я и опускаю оружие. – Хвастаюсь на тот случай, коли вы решите от меня сбежать… Не надо. Давайте по-честному.
Незнакомец кивает и застёгивает пальто. Надев своё, с трудом пристраиваю «Ле Паж» во внутренний карман, – громоздкая вещь, увесистая.
Покидаем особняк (на прощание киваю Мацею, дремлющему в сторожке) и неторопливо направляемся к Вандомской площади, где среди прочих заведений есть кафе «Звезда Парижа». Приятное место, и кофе варить умеют.
Идём по тротуару, то и дело прижимаясь к стенам домов, чтобы не получить порцию грязи от проезжающих мимо карет и омнибусов. Что поделаешь! Весь день шёл дождь, превративший и без того замусоренную мостовую в настоящую клоаку. А что такое клоака, объяснять парижанам, включая недавних, вроде меня, излишне. Грязь и вонь французской столицы, увы, есть факт непреложный. И каким-то неестественным образом этот факт уживается с очарованием знаменитых магазинов модной одежды, парфюмерии, ювелирных украшений…
В кафе вечером людно, однако довольно тихо. Публика чистая, степенная, пьют умеренно, стало быть, и на крик не срываются. Заняв крохотный столик у окна, мы садимся, причём мой визави пальто снимает, а я своё лишь расстёгиваю. Не хватает, чтобы «Ле Паж» на глазах у публики вывалился из кармана.
– Слушаю вас внимательно, – говорю незнакомцу после того, как официант принимает заказ на кофе и коньяк.
– Да, конечно… Только не знаю, с чего начать.
– Начните с простого, – советую я. – Например, назовите имя.
– Войцех меня зовут. Войцех Каминский.
– Чем занимаетесь, пан Каминский?
– Двадцать лет прослужил следователем Миньской поветской прокуратуры в Мазовецком воеводстве, а недавно вышел в отставку.
Внимательно смотрю на него.
– Миньская поветская прокуратура, – повторяю задумчиво. – Солидно… А почему вышли? Возраст у вас ещё вполне служивый. С начальством не поладили?
– Напротив. Начальство против отставки возражало.
– Здоровье не в порядке?
– Да нет, грех жаловаться.
– Ну, тогда ваше здоровье. Его много не бывает. – Поднимаю рюмку с коньяком, отхлёбываю. – Значит, семейные обстоятельства?
– Какие там обстоятельства. Я человек одинокий.
Я развожу руками.
– Сдаюсь! Ну, не томите. Выкладывайте уже, почему бросили службу и уехали в Париж. Неужели решили послужить святому делу освобождения Польши от русского гнёта?
Каминский пожимает плечами.
– В каком-то смысле да, хотя и не всё так однозначно. Не знаю, поймёте ли…
Машинально попивая кофе, он принимается рассказывать свою историю. Если отвлечься от деталей, суть её такова.
Весной нынешнего года Каминский расследовал двойное убийство в городишке Калушин. Погибли русский чиновник из канцелярии наместника и его невеста, местная девушка-полька. Их лишили жизни с изощрённой, можно сказать, дикой жестокостью…
Бывший следователь скупо делится подробностями преступления. Видно, что ему тяжело вспоминать картину, которую пять месяцев назад увидел в заброшенном доме на краю Калушина. А мне тяжело слушать. Ах, как тяжело… Но я слушаю, уставившись взглядом в чашку, чтобы скрыть нахлынувшее волнение.
– Невероятно, – говорю наконец, не поднимая глаз. – Деяние прямо-таки дьявольское. В чём были виноваты эти несчастные?
– Русский чиновник провинился в том, что он русский. А девушка в том, что полюбила москаля.
– И это всё?
– Для «народных мстителей» вполне достаточно.
– Вы уверены, что это были именно они?
– Я это установил.
– И значит…
– Фактически это была казнь. Показательная расправа, от которой содрогнулась вся округа. Если хотите, урок на будущее для каждого, кто хотя бы доброжелательно посмотрит на русского.
Даю официанту сигнал повторить коньяк.
– Ну, предположим, – говорю я, вертя в пальцах рюмку с тёмно-золотистым напитком. – Однако пока не вижу связи между расследованием убийства, вашей отставкой и прибытием в Париж.
– Я же говорил, что не уверен, поймёте ли вы меня…
По горячим следам Каминский выяснил у местного старосты, где затаились «народные мстители». Свой лагерь они разбили в Калушинском лесу, у истока Ведьминого ручья, где, по слухам, в незапамятные времена стояло волховное капище. Оставив место происшествия на полицейских, следователь поскакал в Варшаву, в наместничество. Уже через несколько часов добился приёма у наместника Царства Польского графа Паскевича. Потрясённый трагической гибелью своего чиновника, Паскевич немедленно распорядился уничтожить «мстителей». По его приказу Каминский выдвинулся в Калушинский лес вместе с батальоном Мазовецкого гарнизона и присутствовал при разгроме повстанцев…
– Однако, – хмуро замечаю я. – Выходит, вы фактически сдали властям наших людей?
Разом побагровевшие щёки Каминского вскипают желваками
– Каких, к чёртовой матери, людей? – рычит он чуть ли не шёпотом. (Правильно. Внимание окружающих привлекать ни к чему.) – Зверьё это, а не люди. Позор Польши и своих матерей… Сдал и ни на грош не жалею! Трижды сдал бы, если б мог!
Не сдержавшись, бьёт кулаком по столу (официант с удивлением поворачивается в нашу сторону) и вызывающе смотрит на меня, однако я не расположен к дискуссии.
– Не горячитесь, – предлагаю негромко. – На нас уже оглядываются… Что было дальше?
Солдаты, окружив отряд, почти полностью перебили «мстителей». Немногих оставшихся Каминский, не теряя времени, допросил там же, в лесу. Выяснилось, что отрядом командовал некий Ян Зых, – единственный, кому удалось ускользнуть из окружения. Пленники рассказали о нём кое-что интересное. В своё время Зых учился в Виленском университете, однако был отчислен за участие в тайном студенческом обществе филоматов[8]. Свирепо дрался с москалями в дни Восстания, а после разгрома, сколотив отряд из недобитых повстанцев, засел в лесу и терроризировал всё воеводство.
Русских ненавидел слепой животной ненавистью, но ещё большую ненависть испытывал к полякам, которые хоть как-то симпатизировали врагам. Таких бывший студент убивал собственноручно – жестоко, с выдумкой. Калушинской девушке, погибшей из-за любви к русскому чиновнику, Зых перерезал горло лично. А перед этим первым её изнасиловал… Несчастному же чиновнику сам вбивал штырь в сердце, пока другие «мстители» прижимали человека к стене и затыкали тряпкой кричащий рот…
Замолчав, Каминский испытывающе смотрит на меня. Молчу и я. В пересохшем горле нет слов.
– И это ещё не всё, – говорит Каминский с тяжёлым вздохом.
– Куда уж больше…
– А вот есть куда…
На следующий день после разгрома «мстителей» соседи нашли труп гминного старосты. Бедный старик лежал на пороге собственного дома с отрезанной головой. Вся его семья была перебита до последнего человека. А человеком этим оказался ребёнок, внучка старосты…
– У Зыха, конечно, в городе были свои люди, – продолжает Каминский, сжимая и разжимая кулаки. – Кто-то заприметил, что староста шушукается со следователем. Со мной то есть. А на следующий день отряд разгромили. Понятно, что после этого, прежде чем податься в бега, Зых кинулся к своим в город, – разжиться одеждой, деньгами. Тут ему и доложили, что к чему. А уж исчезнуть, не отомстив старосте за предательство, он просто не мог… Получается, я невольно накликал смерть на старика и на семью его. Ну, как после этого жить?
– И вы решили отомстить в свою очередь, – констатирую я устало.
– Да! А как бы вы поступили на моём месте?
– Неважно… Посвятили время и силы поиску Зыха. Для этого даже вышли в отставку. Всё ради мести…
Каминский качает головой.
– Вы поймите… Я хочу его убить, и я его убью. Однако сделаю это не только ради мести, но главным образом ради Польши, за свободу которой этот зверь якобы борется.
– Вот как? Пан патриот?
– Да, – твёрдо говорит Каминский, глядя исподлобья. – Я коренной поляк, потомственный шляхтич, и за свободу Польши готов умереть. (Пафос реплики искупается глубокой искренностью тона.) Но этот Зых… И такие, как он, а их немало… Это же кровавые безумцы! Они поганят святое дело, которому присягнули. От таких Польшу надо очищать. Спасать надо. Иначе Европа будет воспринимать поляков как жестокую банду, а нашу несчастную родину считать рассадником ужаса и насилия!
В горячих словах Каминского есть своя логика, и мотивы его действий мало-помалу проясняются, – хотя ещё и не до конца.
Расставшись со службой, Каминский всецело занялся поиском. Тут пригодился большой следственный опыт и наработанные связи. Как он и предположил, Зых уехал в Париж. Оставаться в Польше после пролитой крови было слишком опасно, да и Паскевич, лишившийся своего доверенного чиновника, объявил недобитого «мстителя» личным врагом. О появлении Зыха в Париже Каминский узнал от знакомых эмигрантов, каждому из которых написал: мол, ищу родственника, пропавшего после Восстания; приметы такие-то, прошу сообщить…
– И вот я приехал в Париж, – заканчивает Каминский.
Официант радостно принимает заказ на новый кофе и коньяк. За окном уже давно стемнело. Огни уличных фонарей бриллиантово отражаются в грязных лужах. В кафе тепло и уютно, и среди чисто одетых, благопристойных людей трудно поверить, что где-то не столь уж и далеко (в соседней стране всего-навсего) страшно погибли ни в чём не повинные люди, а совсем близко, в Париже, разгуливает зверь в человеческом облике…
– Ну, приехали вы, – говорю я, кивнув. – И что дальше? Какого чёрта вы появились в Комитете с оружием за пазухой? Или вы с ним не расстаётесь?
– А где же мне ещё появиться? Зых, – он тут, у вас…
Я уже и сам догадался, что бывший студент, как и многие другие эмигранты, особняк Комитета стороной не обошёл. Вопрос – кто?
Каминский называет фамилию, и я хмурюсь. Цешковский. Ежи Цешковский. Фамилия как фамилия. Но именно под ней в Комитете появился и быстро занял место возле Лелевеля помощник по безопасности. (А ещё начал ухаживать за панной Беатой.) Вот, значит, как теперь зовут пана Зыха…
– А вы не путаете? – уточняю на всякий случай. – Вы ведь этого живодёра и в глаза не видели.
– Что тут путать? Староста и уцелевшие «мстители» описали очень подробно. Лицом – чистая сова. Глаза круглые, взгляд немигающий, нос крючком. Коренастый, крепкий. Волосы тёмные.
Да, всё так. И между прочим, становятся ясны приязнь и доверие, которые Лелевель с ходу выказал новому эмигранту несколько месяцев назад. Зых ведь из Виленского университета, а председатель долгое время преподавал там историю. Так что знакомство у них давнее. И тайное общество филоматов Лелевель вроде бы патронировал…
Я поднимаюсь и оставляю на столике пару купюр.
– Пойдёмте, пан Каминский, засиделись уже.
На улице, выйдя из кафе, я возвращаю Каминскому порядком надоевший мне «Ле-Паж».
– Это не значит, что можно охотиться на Зыха и дальше, – предупреждаю на всякий случай. – Тем более, в стенах Комитета. Как только вы выстрелите, наши вас затопчут. А может, ещё до того, как вы успеете спустить курок.
– Я от своего решения не отступлю, – упрямо говорит бывший следователь и даже останавливается.
Останавливаюсь и я.
– Послушайте, пан Каминский! Ваши мотивы мне ясны и даже некоторым образом вызывают уважение. Но своевольничать не надо. Во-первых, Цешковский… ну, Зых, – полезный член нашего сообщества и вносит свою лепту в общее дело освобождения Польши… Не перебивайте… Во-вторых, чтобы наказать человека, не всегда надо в него стрелять. Есть и другие способы. Вы меня поняли?
– Нет!
– Не беда, – успокаиваю я Каминского. – Сейчас я провожу вас домой и заодно посмотрю, где вы остановились. А по пути растолкую некоторые вещи. Думаю, что мы можем друг другу быть полезными…
Глава вторая
Пресловутое польское вольнодумство проявлялось даже в мелочах. Казалось бы, как должны проходить заседания Комитета? Его участники собираются в кабинете председателя, чинно рассаживаются за длинным столом и поочерёдно высказываются на обсуждаемую тему… Так? Нет, не так.
Во-первых, каждый садился там, где заблагорассудится, вплоть до подоконника. Во-вторых, говорили горячо, громко, перебивая друг друга, а то и переходя на личности. С простейшей дисциплиной члены собрания были не в ладах и, возможно, даже считали это слово оскорбительным. Потому-то заседания Комитета нередко заканчивались безрезультатно, если не считать результатом долгую и бесплодную дискуссию, порой перераставшую в склоку. И чему удивляться? Традиция… Заседания польского сейма (с поправкой на масштаб) испокон веков проходили примерно так же.
Желая, чтобы пустой болтовни было как можно меньше, а полезной отдачи как можно больше, Лелевель постепенно сформировал в недрах Комитета своего рода малый совет. В его составе оказались люди более деловые и практичные, нежели говоруны, сотрясающие воздух ритуальными всхлипами о великой страдающей Польше. Именно этот неофициальный орган обсуждал наиболее существенные вопросы и принимал самые важные решения.
При формировании малого совета Лелевель не ограничился лишь членами Комитета. В интересах общего дела он привлёк к работе нескольких эмигрантов, на которых мог положиться.
Кто же входил в состав? Естественно, сам профессор. Из членов Комитета ещё Ходзько и Гуровский. Далее, помощник по безопасности Цешковский. Ну, это ясно. И ещё три человека, которые к Комитету прямого отношения не имели.
Мелкопоместный шляхтич Томаш Лех добровольно вступил в войско Польское и при обороне Варшавы от армии фельдмаршала Паскевича был тяжело ранен. За малым не отдав богу душу, лечился долго, а когда встал на ноги, то рассудил, что скрываться от властей всю оставшуюся жизнь – дело скучное. Поэтому, заручившись рекомендательными письмами от нескольких влиятельных патриотов, четыре месяца назад уехал в Париж, где и предъявил референции председателю Комитета.
Лелевель испытал Леха несколькими поручениями, после чего пришёл к выводу, что этот немногословный крепыш лет тридцати с небольшим – просто подарок: исполнителен, точен, энергичен. Что важно, способен проявить инициативу. Наконец, безукоризненный патриот, кровью доказавший верность общему делу. Отчего же не привлечь такого человека к важной работе, не тратя время на канительную процедуру с официальным избранием в состав Комитета?
Поручик войска Польского Болеслав Мазур после разгрома Восстания несколько месяцев скрывался, а потом бежал в Бельгию. Оглядевшись и выяснив, что цвет эмиграции сидит в Париже, перебрался туда. В столице бывший офицер благодаря боевому характеру довольно быстро попал в эпицентр скандальной истории.
Как-то, собравшись в одном из кафе, человек десять эмигрантов по традиции завели шумный спор о дальнейшей судьбе родины, о её освобождении из-под русского гнёта. Кто-то из собравшихся по ходу резко обвинил Комитет и его председателя в бездействии. Почему ещё не собрано войско для похода на Варшаву? Почему огонь партизанской войны в тылу русских гарнизонов еле теплится, вместо того чтобы разгореться в страшное пламя? Говорильня, а не Комитет, зачем только его избирали…
Присутствующий при сём Мазур, горячо уважавший Лелевеля, без обиняков предложил пану заткнуться. Тот в ответ вызвал экс-поручика на дуэль. (Заметим, что дуэли среди поляков-эмигрантов были делом обычным. И ничего не попишешь, – особенность национального темперамента.) Состоявшийся назавтра поединок в укромном углу Сен-Жерменского предместья закончился быстрой победой Мазура и ранением противника.
История дошла до Лелевеля. Пригласив Мазура, председатель тепло поблагодарил нежданного защитника своего доброго имени. Бывший поручик ему понравился: смел, решителен, отлично владеет оружием и явно неглуп. А личная преданность вообще бесценна. Приблизив к себе Мазура, Лелевель через некоторое время ввёл его в состав малого совета – и не ошибся. Этот ещё довольно молодой человек (и тридцати не исполнилось) трезвомыслием и здравыми суждениями довольно скоро доказал, что место в узком кругу патриотов занимает не зря.
И наконец, Камиль Осовский. Бывший чиновник Краковского воеводства привлёк внимание Лелевеля острой статьёй в эмигрантском журнале. Осовский анализировал причины, по которым восстание потерпело сокрушительное поражение, и приходил к неутешительному выводу: поляки не сумели сплотиться по-настоящему, поэтому борьба с русской оккупацией не стала всенародной. При подготовке нового выступления, предлагал Осовский, необходимо уделить первостепенное внимание пропаганде и работе с крестьянством.
Лелевель, который придерживался сходного мнения, познакомился с автором и статью одобрил. Предложил посещать Комитет с подспудной мыслью присмотреться повнимательней к спокойному и серьёзному человеку лет тридцати пяти, в котором чувствовались ум и характер. В Париже Осовский оказался примерно так же, как и другие: прошёл горнило Восстания и после разгрома, опасаясь преследование властей, покинул родину. В малом совете, куда был приглашён Лелевелем, считался теоретиком и готовил документы, отражающие позицию Комитета по вопросам стратегии и тактики борьбы с Россией.
Сегодня все были в сборе. Изящно опершись на каминную доску, высокий тощий председатель зорко поглядывал на своё немногочисленное, однако боеспособное войско.
– Панове, нам надо обсудить важную тему, – сообщил негромко.
И тут же был прерван. В кабинет с коротким стуком вошла панна Беата в сопровождении Агнешки. В руках у девушек были подносы с большим кофейником, чашками, тарелками со свежей сдобой и прочими вкусностями, которые делают обсуждение серьёзных вопросов не только плодотворным, но и приятным. Ощутив аппетитные запахи, любивший поесть Гуровский затрепетал ноздрями.
– Благодетельницы, – заявил он, плотоядно поглядывая то на булочки, то на панну Беату, неотразимую в бежевом платье, которое прекрасно шло к её карим глазам и каштановым локонам. Впрочем, бойкая миловидная Агнешка тоже удостоилась поощрительных взглядов.
Разлив кофе по чашкам, девушки удалились. Лелевель уселся в председательское кресло.
– Продолжим, панове, – предложил он. – Сообщаю, что вчера мною было получено конфиденциальное письмо… – тут профессор выдержал паузу, – от князя Адама.
Ходзько саркастически хмыкнул.
Князь Адам Чарторыйский являлся персоной мало сказать важной – легендарной. Крупнейший магнат с юности был другом и сподвижником Александра Первого, а в течение трёх лет даже возглавлял российское Министерство иностранных дел. Однако в какой-то момент Чарторыйский, разочаровавшись в императоре, уехал в Польшу. Во время Восстания был единодушно избран главой временного национального правительства. После поражения бежал в Париж, где стал знаменем большой части польской эмиграции.
– О чём же пишет князь Адам? – настороженно спросил Осовский. – Что-нибудь важное?
Лелевель сделал отрицательный жест.
– Пока речь о том, чтобы встретиться и обсудить некие вопросы, представляющие взаимный интерес.
– «Некие»… Знаем мы какие, – хмуро бросил Лех.
Внимательно слежу за реакцией соратников по малому совету. Соратники озадачены, да и я тоже, откровенно говоря.
И Чарторыйский, и Комитет ратуют за полную независимость Польши. Автономия, даже самая широкая, никого не устраивает. Но князь добивается независимости главным образом путём дипломатического удушения России. Он вхож в европейские министерства; он ведёт обширную переписку с правительствами Англии, Франции, Бельгии; он требует от них оказать нажим на Россию экономическими санкциями и угрозой военной интервенции. «Европа в долгу у поляков. Поддерживая Польшу, вы поддерживаете себя» – таков его главный тезис. Россия слишком велика и опасна. Создание независимой Польши станет сильнейшим ударом по её могуществу в общих интересах цивилизованных западных стран.
Лелевель же, а вслед за ним Комитет, видит источник будущей победы и независимости не в чужих правительствах, а в собственном народе, а также в европейских народах, в которых год от года усиливается революционное брожение. Вооружённая борьба с Николаем – лишь этот путь приведёт Польшу к свободе.
Казалось бы, между двумя главными вождями польской оппозиции легло непримиримое противоречие. И всё-таки гордый Чарторыйский предлагает встретиться и обсудить… Что именно? Не бином Ньютона. Князь Адам спит и видит подмять под себя всю эмиграцию.
– Что думает о встрече с князем пан председатель? – спрашиваю осторожно.
Лелевель разводит руками.
– Хотел бы сначала узнать ваше мнение, панове.
Попивая кофе, панове начинают высказываться. Ясно, что на встрече князь Адам предложит объединиться. Разумеется, под его, князя, руководством. И, положа руку на сердце, логика в таком предложении есть. Авторитет, влияние и богатство князя таковы, что противостоять ему трудно.
Но и наш председатель – птица высокого политического полёта. Его научные и революционные заслуги перед Польшей велики и хорошо известны. В эмигрантских кругах он популярен. Если кто и может спорить с Чарторыйским на равных, то это Лелевель. Штука в том, что им друг друга не переубедить. А значит, предполагаемая встреча не что иное, как бесполезная трата времени. Или…
Или я всё-таки ошибаюсь? И объединение эмиграции на тех или иных условиях возможно, – допустим, за счёт достижения некоего компромисса на почве общей ненависти к России? Ну, тогда спаси бог врагов Польши. Наивысших достижений в своей истории Речь Посполитая[9] добивалась именно тогда, когда, отрешившись от традиционных шляхетских междоусобиц, приходила к внутреннему согласию.
Выслушав мнения, председатель кладёт на стол узкую белую руку.
– Благодарю, панове, – молвит неторопливо. – Полагаю, отказываться от встречи с князем Адамом нет никаких причин. Мы не враги. Политические разногласия в данном случае не в счёт. Ну, а уж удастся ли до чего-нибудь договориться или нет, будет видно.
– Не о чем с ним договариваться, – говорит Ходзько, почти не разжимая губ.
– Посмотрим, пан Леонард, посмотрим. Думаю, что вы правы. Однако мы все являемся солдатами независимости Польши. Стало быть, должны уважать и внимательно слушать друг друга.
Преподав Ходзько этот небольшой урок политической корректности, Лелевель вознаграждает себя новой чашкой кофе и кусочком хлеба с ветчиной. Ходзько с независимым видом следует его примеру. Другие тоже.
Покончив с едой, председатель говорит:
– А вас, пан Цешковский, попрошу связаться с секретарём князя и, сославшись на письмо, от моего лица договориться о встрече. Время безразлично, место нейтральное.
Помощник по безопасности коротко кивает.
Этот субъект мне никогда не нравился. А теперь, после разговора с бывшим следователем Каминским, вообще смотрю на Цешковского-Зыха другими глазами. Каминский прав: такому в освободительном движении не место. Скажу больше: ему и в жизни, среди людей, тоже не место… Какая тьма выродила существо, которое своими руками, с изощрённой жестокостью губит себе подобных? Это ведь и не зверство даже. Зверям до Зыха далеко. Так что если я и удержал Каминского от выстрела, то лишь потому, что помощник по безопасности, сам того не ведая, может мне ещё пригодиться. Есть на этот счёт кое-какие мысли.
Хотя, что скрывать, хочется подойти к Лелевелю, рассказать ему о трагедии в Калушине и сказать напрямик: «Гоните Зыха. Это душевнобольной садист. Пока он рядом, ждите беды…» Ну, скажу, и что? Не настолько я близок к председателю, в отличие от его бывшего студента, чтобы он мне с ходу поверил. Главное же, Зых ему полезен и по-собачьи предан. Такими не бросаются. А что там произошло в Калушине… ну, погорячился. Эпизод партизанской войны, и только. Мало ли что на войне происходит…
Пока я размышляю, заседание заканчивается. Мы по одному покидаем кабинет председателя. Остаются лишь сам Лелевель и Зых.
Мои сотоварищи расходятся, а я сажусь на диван в маленькой гостиной на втором этаже. Председательский кабинет неподалёку. Беру свежий выпуск «Фигаро» и углубляюсь в чтение светских новостей. Как всегда, жизнь в Париже бурлит. Барон де К. до утра просидел в игорном доме и теперь, чтобы заплатить карточный долг, срочно продаёт родовое поместье. (Болван. Не умеешь вовремя остановиться, играть не садись.) Известный поэт Р. после трёх бутылок шампанского устроил в ресторане дебош и бил посуду под чтение своих стихов. (Что искусство делает с человеком…) Крупный коммерсант В. публично заявил, что намерен убить жену, бежавшую с любовником, потом самого любовника, а затем покончить жизнь самоубийством. (Любовь зла… Мне бы его заботы.)
Между тем из кабинета выходят Лелевель и Зых, одетые в пальто. Отложив газету, встаю и киваю обоим.
– А что это, мой милый, вы не идёте обедать? – на ходу дружелюбно спрашивает председатель, надевая мягкую шляпу. – Самое время. Или ждёте панну Беату, чтобы помочь унести посуду?
– В точку, пан председатель, – говорю, чуть потупившись, словно человек, чья заветная тайна раскрыта. – Я же видел, как панне было тяжело нести поднос.
– А на что Агнешка? – спрашивает Зых, неприязненно глядя на меня своим совиным немигающим взглядом. – Она девушка крестьянская, руки крепкие.
Хмыкнув, Лелевель треплет помощника по плечу: спокойно, мол. Неудачные попытки Зыха ухаживать за племянницей профессора общеизвестны.
Они уходят. Немного выждав, я подхожу к окну гостиной. Выглядываю. Внизу, на мостовой, Лелевель и Зых садятся в поджидающую карету. Экипаж трогается. Я достаю носовой платок и провожу им по лбу, словно вытираю пот. Вижу, как из кафе напротив нашего особняка выходит человек. Это Каминский. Он садится в карету, стоящую у входа, и едет в том же направлении, что и экипаж председателя. Глядя вслед, прячу платок. И слышу за спиной лёгкие шаги. Как не узнать их! Оборачиваюсь, – конечно, это она, панна Беата.
– А я думала, что после заседания все уже разошлись, – говорит она с улыбкой, от которой сердце сначала замирает, а потом начинает биться с удвоенной энергией.
– Все разошлись, а я нет, – говорю с самым скромным видом, на который только способен. – Решил вот помочь вам унести посуду. Тяжело, громоздко и вообще…
Девушка смотрит на меня с некоторым удивлением.
– Пан беспокоится напрасно. Мы с Агнешкой вполне справимся. Она сейчас подойдёт.
– Втроём-то легче, – непреклонно говорю я и направляюсь в кабинет.
Уходя, Лелевель запер дверь, но у панны Беаты есть свой ключ. Собирая посуду на подносы, мы болтаем о всякой всячине, что не мешает мне любоваться девушкой. Да и можно ли не любоваться тонкими чертами мраморно-белого кареглазого лица, каштановыми локонами, изящной фигурой! Можно ли не восхититься мелодичным голосом! Любое, даже самое простое слово, произнесённое этим голосом, этими прелестными губами, звучит, словно музыкальное откровение. Вот такая она, панна Беата. Диво ли, что с полдюжины наших эмигрантов – завсегдатаев комитетского особняка – не упускают случая поулыбаться девушке или оказать ей небольшую услугу.
Панна не только красива, – она ещё и умна. Рано осиротев и поступив на попечение к дяде-профессору, она его заботой получила хорошее образование, а со временем стала помощницей и секретарём. Что ей мелкие знаки мужского внимания? Интрижки – это не для панны Беаты. Бьюсь об заклад, что сердце её пока свободно. В нём живёт лишь любовь к родине. В смысле патриотизма панна Беата достойная племянница своего дяди.
О каких романах может идти речь после провала Восстания, когда Польша лежит под русским сапогом? Прекрасно владея фортепьяно, девушка произведениям Моцарта и Шуберта предпочитает безыскусный полонез Огинского, полный тоски и отчаяния. Не удивился бы, узнав, что она дала обет не выходить замуж до полного освобождения Польши. Не дай бог. Быть ей в этом случае до смерти старой девой.
Ну, да ладно.
Если правда, что человеческий мозг состоит из двух полушарий, то сейчас одно из них безраздельно занято очаровательной Беатой. Но второе напряжённо размышляет насчёт Каминского. Пытаюсь понять, прав ли я, попросив бывшего следователя оказать мне деликатную услугу.
Вот уже три месяца я заседаю в малом совете и всё это время изо дня в день общаюсь с председателем. Как-то само собой заметилось, что раз в полторы недели Лелевель об руку с Зыхом садятся в карету и куда-то уезжают часа на три. На следующий день после этого всякий раз наш кассир Водзинский с важным видом начинает раздавать собратьям-эмигрантам скромные пособия.
Тут надо сказать, что эмигранты – люди небогатые. На родине у каждого была служба, или небольшое поместье, или сбережения. В общем, жить можно. А на чужбине, лишившись всего, они бедствуют и хватаются за любую работу. Подаяние не просят, нет, такого не наблюдал. Но вот увидеть в Париже вчерашнего боевого офицера, который укладывает булыжники мостовой или разгружает баржи на Сене, – дело обычное. Правда, французское правительство под напором общественного мнения ежемесячно выплачивает каждому зарегистрированному польскому эмигранту тридцать франков. Но этого хватает лишь на скудное пропитание.
Одна из важных задач Комитета в том и состоит, чтобы по возможности поддерживать своего брата-эмигранта деньгами. Не всех, разумеется. Эмигранты, сплотившиеся вокруг Чарторыйского, – они, к примеру, люди состоятельные. Комитет подкармливает лишь тех, кто держит руку Лелевеля, и когда есть возможность. После таинственных поездок профессора такая возможность появляется. Вот и спрашивается, – где пан Лелевель берёт франки? Нашёл в Париже пещеру Лейхтвейса[10]?
Человек я давно взрослый, но ничего не могу с собой поделать – всё ещё живёт в душе детское любопытство. Ужасно хочется узнать, на какой улице французской столицы прячется заветная пещера. Кое-какие догадки на этот счёт есть, но только догадки. Уточнить их я хочу с помощью бывшего следователя. После долгого разговора мы немного подружились, и он готов мне помочь.
С этой целью три дня кряду Каминский с утра до вечера просидел в кафе напротив нашего особняка, следя за определённым окном второго этажа и держа при себе карету. (Некоторой суммой на транспортные и прочие расходы я его снабдил. Любопытство требует жертв.) На четвёртый Лелевель с Зыхом наконец отправились в очередную поездку, а я встал у окна и демонстративно вытер лоб платком. Получив условный сигнал, Каминский сел в свою карету и отправился следом за ними.
Вот, собственно, и всё. Понятия не имею, что именно удастся выяснить, проследив за председателем. Но, может, кое-что и удастся. Во всяком случае, попытка не пытка. Посмотрим.
– О чём пан задумался? – спрашивает панна Беата с лёгкой улыбкой.
– Да вот… Рождество скоро, – импровизирую, меняя направление мыслей. – Вы любите праздновать Рождество?
Девушка слегка морщится.
– Раньше да, но теперь… После Варшавы никак не привыкну к Парижу. Здесь всё такое чужое, правда? И подруги все дома остались. Разве что наш особняк, – тут, по крайней мере, свои. Наверно, здесь и отпразднуем. Дядя, я, кто-нибудь из наших. Украсим ёлку, накроем стол…
– А у меня другое предложение, – говорю неожиданно для себя. – Приглашаю панну отметить Рождество вместе со мной. Хороший ресторан и приятный вечер обещаю.
Наступает пауза. Беата смотрит на меня с некоторым удивлением, а потом обезоруживающе улыбается.
– Как снег на голову, – признаётся она.
– Так скоро зима. Можно и снег.
– Да разве тут зима? Вот у нас зима так зима, снег так снег. Идёшь, бывало, в декабре по Маршалковской[11]…
– Да бог с ним, со снегом. Вы согласны? – спрашиваю Беату, пристально глядя в бездну карих глаз.
Девушка качает головой.
– Ещё не знаю. Надо подумать. Не уверена, что у меня будет желание куда-то идти…
За спиной раздаётся лёгкое хмыканье. Обернувшись, вижу стоящую на пороге Агнешку. Бедовая горничная подошла незаметно (а может, это я так увлёкся общением?) и, видимо, часть нашего разговора услышала.
– Где ты ходишь? Мы с паном уже всё собрали, – строго говорит Беата.
– Простите, барышня, по хозяйству замешкалась, – покаянно произносит Агнешка, переводя взгляд с меня на Беату.
И мне не нравится этот взгляд – внимательный, цепкий, оценивающий. Своим любопытством женщины сродни разведчикам. Завтра вся наша эмигрантская община станет шушукаться, что у панны Беаты наконец появился фаворит в моём лице. Я-то, конечно, был бы счастлив, да ведь всё общение ограничивается лёгкими, ни к чему не обязывающими разговорами. К тому же я так и не понял, согласна ли она отпраздновать рождество вместе со мной…
Остаюсь в особняке до вечера. Пью чай, болтаю со знакомыми эмигрантами, – обсуждаем высылку двух наших сотоварищей из Парижа по требованию русского посольства. Приходим к выводу, что Луи-Филипп Николая побаивается. Да и как не побаиваться, если и двадцати лет не прошло, как русская армия взяла Париж…
Лелевель и Зых появляются довольно поздно и сразу расходятся по своим кабинетам. Что-то сегодня они ездили дольше обычного. Теперь можно уходить и мне. С Каминским договорились, что вечером встретимся в «Звезде Парижа» и он расскажет о небольшом путешествии по столице.
Но вот неожиданность, – Зых стоит на пороге своего кабинета. А кабинет у него на первом этаже, рядом с гардеробной. Ощущение, что он кого-то поджидает. И этот «кто-то» – ваш покорный слуга.
– Не соблаговолит ли пан зайти ко мне по делу? – несколько церемонно спрашивает Зых нейтральным тоном.
Никакого желания общаться с ним нет, но и причин отказаться тоже нет. Проходим в комнату. Кабинет невелик, да и обставлен просто. Усевшись возле стола, выжидательно смотрю на Зыха. И тот сразу берёт быка за рога.
– Буду признателен, если пан перестанет любезничать с панной Беатой, – говорит без обиняков, неприязненно глядя круглыми совиными глазами.
В удивлении откидываюсь на спинку стула.
– А какое вам дело до того, с кем я любезничаю? – спрашиваю в свою очередь, стараясь говорить как можно спокойнее.
Вместо ответа Зых кладёт на стол кулаки. Славные кулаки, увесистые.
– Если говорю, значит, есть дело, – мрачно произносит он. – И готов повторить просьбу.
– А-а, так это просьба…
– Пока – да.
Сказано, словно булыжником по голове.
– Просьба отклоняется, – отвечаю равнодушно. – Сами-то поняли, что сказали? Мне, шляхтичу, пытаетесь запретить общаться с девушкой? Мои деды убивали и за меньшее.
Посунувшись вперёд, Зых оскаливается. Возможно, в его понимании это улыбка.
– Мне с вами собачиться недосуг, – нагло заявляет он. – Вы шляхтич, я разночинец, – какая разница? Есть девушка, и она будет моей. Или ничьей. Но уж точно не вашей. Так что не тратьте время и о себе подумайте.
Это уже прямая угроза. На столе у помощника по безопасности стоит бюстик Наполеона. Возникает мимолётное желание размозжить бронзовым императором голову мерзкого плебея. Но я с собой справляюсь. Ещё не время.
– Чьей будет девушка, она сама решит, – презрительно говорю, поднимаясь. – Но уж точно не вашей. Вы не в её вкусе. У меня всё.
И выхожу, хлопнув дверью. В спину плевком летит злобная, шипящая реплика:
– Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому… шляхтич!
Глава третья
Среди многих наград российского посла во Франции князя Карла Андреевича Поццо ди Борго медаль «За взятие Парижа», учреждённая Александром Первым, была далеко не самой важной. Однако, собираясь на приём к министру иностранных дел герцогу де Бройлю, посол демонстративно прикрепил к мундиру именно её.
Герцог, человек неглупый и проницательный, этот неформальный дипломатический демарш оценил по достоинству, внутренне вскипел и настроился на тяжкий разговор. Что, впрочем, не помешало встретить хмурого посла дружелюбной улыбкой, давшейся не без труда. Радушным жестом указал на кресло.
Предчувствия не обманули. Поццо ди Борго, едва обменявшись приветствиями, отказался от кофе и вручил ноту протеста. Министр сделал вид, что внимательно читает документ, хотя никакой необходимости в этом не было. Вот уже много месяцев российское посольство забрасывало правительство Франции однообразными нотами, в которых обращало внимание на недопустимость пребывания на французской территории польских эмигрантов-революционеров. Выражения менялись, а суть оставалась неизменной. «И не надоело им», – меланхолически думал министр, машинально скользя взглядом по ровным строчкам.
– Я доведу ноту вашего правительства до сведения его величества Луи-Филиппа, – сказал наконец он, откладывая бумагу. (А так хотелось бросить в корзину.) – Пока же могу со всей определённостью сказать, что изложенные в документе упрёки безосновательны.
– Вот как? У нас на сей счёт иное мнение, – сказал посол, упрямо наклоняя седеющую голову.
– И тем не менее… Ну, посудите сами: господам Лелевелю, Ходзько и некоторым другим наиболее радикальным эмигрантам уже вручены уведомления о необходимости покинуть Париж…
– Вот-вот! Париж! Не страну, как мы просим, а всего лишь её столицу. Да и тут никуда не спешат. Остаются на месте и по-прежнему мутят воду, – вставил посол.
– Не стоит огорчаться. Речь вовсе не о попущении со стороны властей, а всего лишь о нерасторопности нашей полиции. Кое-кого мы по вашим запросам уже выслали, и вы о том знаете. И с этими разберёмся, уверяю вас. – Министр поиграл пером. – Что касается основной части польских эмигрантов, то к ним никаких претензий нет. Люди просто живут, работают, соблюдают французские законы. На каком основании прикажете их высылать?
С этими словами де Бройль сокрушённо развёл руками, а заодно и оправил кружевные манжеты. «За каким чёртом надо было их вообще впускать?» – хотел было сказать князь. Но не сказал. Симпатии и сочувствие французов к польским повстанцам были общеизвестны. Попробовало бы французское правительство, наплевав на общественное мнение, отказать им во въезде и разрешении на жительство!.. Правда, ещё вопрос, чего больше в этих симпатиях, – любви к Польше или неприязни к России. И двадцати лет не прошло, как русская армия стёрла в порошок Бонапарта. Национальное унижение наложило на образ мыслей французов совершенно определённый отпечаток. Что плохо для России, то хорошо для Франции, – примерно так рассуждали гордые потомки галлов[12].
– Как вы понимаете, мсье де Бройль, менее всего нас беспокоят приличные, законопослушные эмигранты, – возразил посол. – Речь исключительно о радикальных персонах, готовящих вооружённые выступления на территории Российской империи. Имеется в виду Лелевель и ряд его единомышленников. Список этих людей был приложен к предыдущей ноте.
Он чуть наклонился к министру и повысил голос:
– Пока так называемый польский национальный комитет ограничивался благотворительной деятельностью и выпуском нелепых прокламаций, можно было бы не обращать внимания. Но, по нашим сведениям, в последнее время комитет активно готовит новое восстание в Царстве Польском, господин министр. Вы полагаете, мы можем спокойно смотреть на их приготовления?
Он с некоторым вызовом уставился на министра. Тот ответил спокойным взглядом.
– Нам ничего не известно о каких-либо революционных планах эмигрантов, – сказал вежливо.
– Зато нам известно, – отрезал посол.
«Откуда?» – чуть не спросил де Бройль.
Вопрос был не праздный. Судя по претензиям российского посольства, там хорошо ориентировались в делах и людях Комитета. Информированность посла была такова, что обсуждать эмигрантский вопрос с видом благодушного неведения де Бройлю удавалось уже с трудом.
Да, чёрт возьми! Эмигранты становятся всё опаснее, всё агрессивнее. Да, их планы поднять новое восстание в Царстве Польском существуют и становятся всё реальнее. И кому как не министру его величества Луи-Филиппа знать это. А вот послу Российской империи знать это совсем не обязательно. Но ведь знает откуда-то…
– Скажу больше, – напористо продолжал ди Борго. – По нашим сведениям, Комитет вступил в переговоры с партией князя Чарторыйского. При всех политических разногласиях, не исключено объединение их усилий. И тогда угроза нового восстания станет намного вероятней. Неужели правительство Франции это не смущает?
– Чего вы хотите, мсье посол? – вопросом на вопрос ответил де Бройль, с трудом подавляя раздражение. (В том числе и потому, что о переговорах между Чарторыйским и Лелевелем слышал впервые. А это важно, очень важно. И, опять-таки, откуда чёртов ди Борго знает о том? Да ещё раньше министра?)
Посол выдержал паузу.
– Хочу я понять… и доложить российскому императору, естественно… на чьей стороне Франция в беспокоящем нас вопросе, – произнёс негромко. – Если на стороне России, то почему позволяете, чтобы ваша земля становилась площадкой для опасных антироссийских козней? (Министр прищурился.) А если на стороне Польши… ну, тогда так и скажите. А император будет решать, что с этим делать.
И как бы невзначай коснулся висевшей на груди медали «За взятие Парижа».
Министр ощутил бессильный гнев. Да как он смеет?.. Дерзость посла была беспрецедентна, – однако подкреплена всей мощью России, чья армия не знала равных в Европе. И потому приходилось терпеть, скрывая желание выгнать ди Борго. Ах, какое сильное желание…
– И другое хочу понять, – продолжал посол, не сводя взгляда с побледневшего от ярости министра. – Подготовка вооружённого выступления требует средств. Ружья, патроны, сабли, амуниция – всё денег стоит. Больших денег. Откуда они у Лелевеля? Он, что не секрет, человек небогатый, и его сообщники тоже. Откуда деньги, вот вопрос?
– Ну, знаете! Я деньги в эмигрантских карманах не считаю, – окрысился герцог, не сдержавшись.
– Я тоже, – невозмутимо откликнулся князь. – Однако деньги у комитета есть, это факт. Хотя, вроде бы, не должно быть. Загадка, не так ли?
Поднявшись, он расправил плечи и отчеканил:
– Правительству Российской империи в высшей степени не хотелось бы полагать, что финансовое обеспечение подрывной активности польских смутьянов осуществляет правительство королевства Франция. А значит, контролирует и направляет их деятельность, враждебную Россию и её интересам. – Помолчав, добавил твёрдо: – Такого рода поддержка имела бы фатальные последствия для отношений между Россией и Францией.
Вот оно! Де Бройлю стало ясно – посол сегодня явился именно ради этой грозной фразы. Французам открытым текстом дают понять, что русское терпение на исходе. А если ещё учесть общеизвестное презрительное отношение императора Николая к королю-буржуа Луи-Филиппу…
Министру стало неуютно и даже, что скрывать, страшновато. Он попытался перевести ситуацию в шутку.
– К чему эти суровые слова, мсье посол? – спросил, глядя на ди Борго снизу вверх. – Сказано так, словно вы ради ликвидации кучки эмигрантов готовы взять Париж ещё раз…
– Надеюсь, до этого не дойдёт, – резко сказал посол. – Но и мириться с тем, что польским повстанцам ваша страна фактически потакает, мы больше не намерены. Мало сказать, что это недружественная политика. Расцениваем её как прямую угрозу безопасности Российской империи. И разумеется, этого не потерпим.
Теперь уже встал и министр. Стараясь придать голосу и красивому лицу с аристократически тонкими чертами максимальную твёрдость, сказал холодно:
– Ответ на свою ноту вы получите в течение ближайших дней. А пока могу сказать одно: в отношении поддержки польских радикалов правительством Франции вы заблуждаетесь. Такое предположение просто абсурдно. И уж менее всего оно должно стать причиной конфликта между нашими странами.
Посол неожиданно ухмыльнулся – широко, добродушно.
– А кто говорит о конфликте? Никакого конфликта. Я же могу быть с вами откровенным, не так ли, господин министр?
– Разумеется, – настороженно подтвердил де Бройль.
– Вот я и высказал наши сомнения. Если угодно, – опасения. Позвольте надеяться, что в своих действиях правительство Франции их учтёт.
И неторопливым жестом протёр рукавом мундира висевшую на груди медаль «За взятие Парижа». (Та откликнулась мягким сиянием.)
Откланялся.
Сцепив руки за спиной, де Бройль долго ходил по кабинету, – обдумывал состоявшийся разговор. Потом сел за стол и нервно, быстро набросал записку на собственном именном бланке. Запечатав, позвал секретаря.
– Срочно отошлите с курьером господину Тьеру[13], – сказал отрывисто.
Пройдя в комнату отдыха, примыкавшую к кабинету, налил бокал вина. Надо было успокоиться. В последнее время польский вопрос изрядно потрепал нервы. Парадокс, но он, министр Франции, в главном был согласен с послом России. Буйные эмигранты порядком надоели, но избавиться от них не было никакой возможности, – разве что решиться на политическое самоубийство. Общественное мнение, категорически поддерживающее разбитых повстанцев, сожрало бы кабинет министров, решись тот на массовую высылку. И на многое, учитывая напор оппозиции, приходилось закрывать глаза.
Но в одном чёртов ди Борго был неправ. Правительство Луи-Филиппа вовсе не содержало польских эмигрантов. Для этого не было денег, да и с какой стати финансировать их военно-авантюрные планы? Но кто-то же их всё-таки финансировал…
Вот эту тему де Бройль и хотел обсудить с министром внутренних дел.
Приехав в середине лета, я снял в Париже квартиру на улице Добрых Детей. Понятия не имею, почему эта крохотная улочка получила такое необычное название (вроде бы здесь когда-то содержался какой-то колледж?), да и не важно. Она хороша тем, что находится недалеко от квартала Сент-Оноре, где расположился комитетский особняк. К тому же звучит приятно. Особенно если учесть, что добрых людей вокруг меня почти нет, а дела, которыми вынужден заниматься, уж точно не детские.
Лелевель накануне созвал наш малый совет на одиннадцать часов утра. Съев пару булочек и запив двумя чашками кофе в соседнем кафе, неторопливо иду в особняк. Погода дрянь. То, что в Париже называют зимой, у нас на родине таковой не считается. Выпавшие ранним утром редкие декабрьские снежинки мигом растаяли, и слякоть на тротуаре неприятно хлюпает под сапогами. Но я не обращаю внимания ни на неё, ни на серое небо, ни на прохожих, ни на проезжающие по мостовой экипажи, – занят мыслями.
Поездка Каминского вслед за Лелевелем и Зыхом, предпринятая несколько дней назад, кое-что принесла.
Пан Войцех проехал за ними на улицу Капуцинок. Там карета председателя остановилась у пятиэтажного дома № 7, и Лелевель с Зыхом через парадный подъезд прошли внутрь. Отпустив карету, Каминский решил дождаться их возвращения. Изучал обстановку: улица узкая, маленькая, а дом из серого камня, – потрёпанный, совершенно заурядный. Да и люди, шаставшие вокруг, не отличались ни благообразием, ни приличием манер. Можно было лишь гадать, какая нелёгкая занесла нашего профессора в столь непрезентабельное место.
Лелевель и Зых появились часа через два, причём руку начальника службы безопасности оттягивал небольшой и, похоже, увесистый саквояж, хотя Каминский помнил точно, – оба зашли в дом с пустыми руками. Сели в ожидавшую карету, уехали.
Самая лёгкая часть задачи (проследить место назначения) была выполнена. Однако вот вопрос: к кому они ездили? С кем встретились и общались? Кто снабдил их на дорожку саквояжем с неясным грузом внутри? Размышляя об этом, Каминский в наступающих сумерках неторопливо прогуливался вблизи дома и зорко поглядывал на подъезд, откуда вышли Лелевель и Зых. На что он, собственно, рассчитывал? Неизвестный участник встречи вполне мог остаться дома до утра. А хоть бы и вышел, как опознать? Каминский колебался.
Через четверть часа из подъезда степенно вышли немолодые мужчина и женщина, – похоже, супруги. Не то. Ещё минут через пять быстрым шагом, почти бегом, выскочил какой-то юноша и припустил по улице. Скорее всего, тоже не то. Каминский решил выждать ещё десять минут и с чистой совестью удалиться.
И тут из подъезда вышел мужчина в тёмном пальто и цилиндре. В тусклом свете уличных фонарей было видно, что лет ему примерно сорок, – худощав, гладко выбрит и внешностью не выделяется. Оглядевшись, размеренным шагом направился к стоявшей поодаль карете. Ощутивший холодок профессионального азарта Каминский пожалел, что отпустил свой экипаж. Возникло необъяснимое ощущение, что человек этот – тот самый, с кем встречались Лелевель и Зых. А коли так, надо проследить, куда он направится… На счастье, мимо проезжала карета, которую пан Войцех решительно остановил, прыгнул внутрь и велел кучеру следовать за экипажем незнакомца.
Приехал тот на улицу Ришелье и скрылся в подъезде дома № 3. Улица эта в Париже считается респектабельной, и дом выглядел солидно. Выждав минут двадцать, Каминский рассудил, что за поздним временем человек, скорее всего, вернулся к себе домой ужинать и отдыхать. Стало быть, сегодня здесь ждать нечего. С чем и отбыл на встречу со мной в «Звезду Парижа».
Обсудив ситуацию, мы решили, что теперь надо бы проследить за этим незнакомцем и, по возможности, выяснить, кто да что. Чем он интересен нашему председателю. Чем наш председатель интересен ему. Как этого добиться, было непонятно. Каминский предложил простой план.
– Рано утром подъезжаю на улицу Ришелье, смотрю за подъездом, и как только человек появляется, следую за ним, – говорил бывший следователь, вертя в пальцах кофейную чашку
– Очень хорошо. Что мы сможем узнать?
Пан Войцех почесал в затылке.
– Может, и ничего, – невозмутимо предположил он. – Мы ведь даже не уверены, что это именно тот человек, к которому приезжала наша пара. Хотя похоже, похоже… Но если повезёт, то выясним, например, куда он по утрам ездит на службу. А это уже кое-что о нём скажет.
– Согласен. А если он обычный рантье[14] и на службу не ходит?
– Всё может быть. Но, спрашивается, за каким лешим Лелевелю конспиративно встречаться с обычным рантье?
Каминский прав. И ключевое слово здесь – конспиративно. Если бы целью встречи были какие-то обычные дела, чего ради ехать к чёрту на куличики, да ещё в компании Зыха? И этот саквояж…
Закономерность проявилась вновь, – на следующий день после визита председателя в обшарпанный дом на улице Капуцинок наш кассир Водзинский устроил очередную раздачу вспомоществования неимущим эмигрантам. И сдаётся мне, источником денежного благодеяния был тот самый саквояж. Ничего другого на ум не приходит. То ли фантазия бедная, то ли другого варианта просто нет. Похоже, адрес «пещеры Лейхтвейса» установлен.
Правда, следом возникают новые вопросы. Встретиться, забрать благословенный саквояж, обменяться парой слов и раскланяться – всё это требует никак не больше четверти часа. А Лелевель с Зыхом провели в доме часа два. Стало быть, о чём бы ни шёл разговор, парой слов дело не обошлось… Что ж за темы такие обсуждает вождь польской эмиграции с незнакомцем? И с какой стати тот проявляет трогательную щедрость по отношению к Комитету? Редкостный филантроп, должно быть…
Вопросы множатся, ответов нет. Хочется думать, – пока. Каминский сегодня утром встал в дозор у дома, где квартирует незнакомец. Вечером встретимся, расскажет, что удалось выяснить.
Я уже почти пришёл, а до заседания ещё больше получаса. Решив скоротать время за чашкой кофе, захожу в ближайшее кафе и сажусь за свободный столик. Расстегнув пальто, делаю заказ. Кладу на столешницу свежий номер «Фигаро». Отхлёбываю кофе.
– Могу присесть, мсье?
Рядом стоит невысокий светловолосый человек в сером пальто и мягкой шляпе. На чисто выбритом лице с кривоватым носом застыла скромная улыбка. В кафе есть свободные столики, но если он хочет присесть рядом со мной, то зачем же отказывать приятному человеку?
– Да, прошу.
– До чего же мерзкая нынче погода, – жалуется светловолосый, заказав кофе и положив перед собой свёрнутый в трубку выпуск «Фигаро». По совпадению, также свежий. Ничего не попишешь, любимая газета парижан, – хоть коренных, хоть приезжих.
Осудив погоду и выразив надежду, что к Рождеству она всё-таки улучшится, поднимаюсь. Пора на заседание. Беру «Фигаро», но не свой, а незнакомца. Тот и бровью не ведёт.
Зайдя во двор дома, что неподалёку от особняка, раскрываю газету. Между седьмой и восьмой страницами нахожу небольшой, слегка приклеенный лист бумаги. Он густо исписан. Быстро читаю письмо. Затем перечитываю, обращая особое внимание на некоторые фразы, и рву лист на мельчайшие обрывки, тут же выброшенные в ближайший мусорный бак. Следом летит газета. Она своё дело сделала.
Теперь можно идти. По пути прокручиваю в памяти текст. На посторонний взгляд он вполне обычный, письмо как письмо. Но у этих строк есть двойной смысл – специально для дотошного читателя вроде меня.
Кивнув Мацею, прохожу в особняк, оставляю пальто в гардеробной и поднимаюсь наверх, в кабинет председателя. Раскланиваюсь с коллегами по малому совету. Вместе со всеми встаю, когда в комнату входит Лелевель.
С председателем в кабинет зашли двое: Зых и какой-то незнакомый человек, молча занявший стул в сторонке. Зых, как всегда, уселся по правую руку от профессора, словно подчёркивая близость к руководителю. Круглое совиное лицо начальника службы безопасности выглядело сонным. Зато Лелевель казался непривычно взволнованным. На нём красовался любимый фиалковый сюртук, одеваемый исключительно в торжественных случаях.
– Панове, добрый день! – звучно произнёс он. – Начать сегодняшнее заседание хочу с сообщения. Вчера в отеле Рамбуйе мы встретились с князем Адамом Чарторыйским. О его предложении обсудить возможное сотрудничество наших организаций я вам уже рассказывал. Так вот, обсуждение состоялось…
Судя по словам Лелевеля, оно ни к чему не привело. Князь мягко, однако настойчиво убеждал председателя в эффективности дипломатической тактики и стратегии, которая непременно вынудит Россию пойти на уступки и предоставить Царству Польскому полную независимость. Англия, Франция, Бельгия, Италия, некоторые германские княжества готовы оказать на императора Николая весь необходимый нажим. Возможно, подключится и Турция, озабоченная усилением Российской империи.
– Князь считает, что его огромными стараниями дипломатический фронт против Николая уже создан и не сомневается в конечном успехе, – продолжал Лелевель, постукивая длинными тонкими пальцами по массивной столешнице.
– А князь не уточнил, в каком веке наступит этот успех? – едко спросил Ходзько, вызвав ухмылки участников заседания.
– Вероятно, в одном из ближайших, – откликнулся Лелевель с характерным сухим смешком. – В свою очередь, я указал князю на более надёжный и радикальный способ достичь наших общих целей. Это вооружённая борьба за независимость.
– И что же князь? – уточнил дотошный Гуровский.
– Ну, все подробности дискуссии на сей счёт позвольте не уточнять, – она длилась не меньше часа… («Да уж, сделайте одолжение», – хмыкнул Мазур.) Важно, что князь и его сторонники этот путь решительно отвергают.
– Крови боятся, – полувопросительно-полуутвердительно бросил Лех с ноткой презрения.
– И это тоже… Но, главное, не верят в силу народа, в его патриотизм, в его решимость отстаивать свою свободу. Они забывают, что солнце не светит рабам! – Голос Лелевеля набрал драматическую высоту. – Ну что ж… Точки над «i» расставлены. Стало окончательно ясно, что нам с кликой Чарторыйского не по пути. Мы не враги, но и только. Каждый пойдёт своей дорогой.
– Правильно! Долой иллюзии! – одобрительно сказал Осовский.
– И сегодня я объявляю начало практической подготовки восстания, которое мы много и предметно обсуждали в предыдущие месяцы! – закончил Лелевель.
Заветное слово «восстание» прозвучало столь же энергично, сколь и неожиданно.
Дав паузу, чтобы члены комитета осознали смысл его слов, председатель добавил негромко:
– Пришло время, панове…
Встал, опираясь руками на столешницу. Окинул пристальным взглядом соратников. Ближайшие из близких. В каком-то смысле его личная гвардия советников и воинов.
Всегда бесстрастное лицо Ходзько выразило волнение.
Тучный Гуровский подался вперёд.
Глаза Леха блеснули сумасшедшей радостью.
Сжав кулаки, Мазур решительно кивнул, словно подтверждая, – да, мол, пора.
Побледневший Осовский хрипло произнёс:
– Наконец-то!
Резко поднявшись, затянул дрожащими губами «Еще Польска не сгинела!»[15] Остальные, шумно отодвигая стулья, последовали его примеру. Пели громко и вдохновенно, дирижируя руками и смахивая слёзы. Звучало, может быть, и нестройно, однако в музыке ли дело? Мысли и чувства были едины – вот главное.
– Благодарю вас, панове, – тихо сказал Лелевель, когда песня стихла. – Наш общий порыв считаю добрым знаком перед началом судьбоносного дела. Прошу всех садиться. Кроме пана полковника.
Незнакомец, пришедший с председателем, остался стоять под пристальными взглядами собравшихся.
– Хочу представить вам, друзья, руководителя будущего восстания, – с торжественной ноткой произнёс Лелевель. – Полковник Иосиф Заливский, прошу любить и жаловать.
Одёрнув дурно пошитый сюртук табачного цвета, полковник слегка поклонился. Было в его крупном широкоплечем теле нечто богатырское, вызывающее безотчётное уважение. Широкое некрасивое лицо с густыми усами отличалось выражением суровости, квадратный подбородок внушал мысль о твёрдом характере. Маленькие, глубоко посаженные глаза жёстко смотрели из-под густых бровей. Трудно было бы представить этого человека танцующим на балу, а вот на поле боя во главе солдатской колонны – вполне.
– С вашего позволения, панове, я изложу предлагаемый план восстания, – произнёс он густым низким голосом.
Лелевель взмахом руки неожиданно остановил его.
– Прошу извинить… Прежде чем мы выслушаем пана Заливского, хочу объявить присутствующим: всё сказанное должно остаться в полном секрете, – строго сказал он. – Это непременное требование. В своей среде мы порой бываем легкомысленны и болтаем лишнее. Так вот, панове, болтовня закончилась. Начинается дело…
Обсуждение плана восстания затянулось до вечера. Устало иду на встречу с Каминским, жалея о том, что нельзя её отложить, а так сейчас было бы хорошо вернуться домой и вытянуться на кровати.
День чудес, иначе и не скажешь…
Лелевель окончательно утратил надежду о чём-то договориться с князем Адамом, и это само по себе не удивительно. Удивительно, что он вообще питал на сей счёт какие-то иллюзии и согласился убить время на заведомо провальную встречу. Вероятно, председатель до последних дней находился в плену обаяния, авторитета и огромных возможностей первого среди польских магнатов и не исключал, что каким-то образом удастся привлечь всё это великолепие на пользу Комитету. Теперь окончательно ясно, что нет.
И следом, как чёрт из табакерки, выскакивает полковник Заливский…
Мы действительно много обсуждали подготовку к восстанию, мечтали о нём – и всё же сходились в мысли, что для его успеха необходимы три условия: наличие жизнеспособного плана, военного руководителя и больших денег. Ничего этого в распоряжении Комитета не было. Всё это вдруг появилось в одночасье. Откуда?
Нельзя сказать, что Заливский в кругах эмиграции был неизвестен. Один из видных участников Восстания, он и в Париже остался горячим приверженцем вооружённого освобождения Царства Польского. И, как выясняется, даже составил соответствующий план. Насколько могу судить, план небесспорный, но любопытный, однако не в этом суть. А вот где он был со своим планом до этого дня? Как сумел привлечь внимание и доверие Лелевеля? Причём доверие настолько большое, что наш председатель ничтоже сумняшеся заранее объявил Заливского руководителем будущего восстания и фактически единолично выдал ему карт-бланш на подготовку. Пусть даже пока что на уровне слов. Для такого осторожного политика, как Лелевель, дело необычное…
И третье, деньги. Ещё предстоит сосчитать, сколько понадобится средств для организации вооружённой борьбы, но ясно, что суммы будут изрядные. В последние месяцы, как уже говорилось, с деньгами в Комитете стало неплохо, и пособия наши люди получают более-менее регулярно. Однако одно дело карманные расходы и совсем другое – закупка оружия, припасов, амуниции. Тем не менее Лелевель дал понять, что деньги в нужном объёме будут. Снова пещера Лейхтвейса и таинственный филантроп? Но и благотворительность имеет свои границы. А бездонных пещер не бывает…
Чтобы сократить путь, сворачиваю в узкий переулок – тёмный и неуютный. И уже через минуту жалею об этом, потому что слышу, как за спиной раздаются чьи-то шаги. Похоже, за мной увязались двое. Я ускоряю ход, они тоже. Догоняют. На плечо ложится чья-то тяжёлая рука.
– Мсье, на два слова, – звучит чей-то невыразимо мерзкий голос.
Сбрасываю руку, делаю шаг в сторону и оборачиваюсь. Действительно, двое, и, судя по виду, натуральные бандиты. Тусклые окна домов по обе стороны переулка дают немного света. Насколько могу разглядеть, оба небриты, оборваны и, к сожалению, выглядят очень крепко…
Отступив, прижимаюсь к стене спиной.
– Что надо? – спрашиваю холодно.
– Поговорить, – с гнусной ухмылкой произносит один и делает угрожающее движение, словно хочет ударить.
Я уклоняюсь, – но лишь для того, чтобы получить слепящий удар в скулу от второго…
Глава четвёртая
В кабинете Зыха ждал сюрприз. Едва он вошёл, как чьи-то руки закрыли глаза, и негромкий смех щекотнул уши.
– Попался! – игриво шепнул на ухо женский голос.
Он резко освободился.
– Дура, – сказал неприязненно. – Знаешь же, что я неожиданностей не люблю. Мог и прибить.
Агнешка (а это была она) капризно скривила губы. Вышло довольно мило, однако девичья краса оставила Зыха равнодушным.
– Что надо? – спросил, усаживаясь за стол.
Агнешка опустила глаза и принялась разглаживать передник, одетый поверх скромного серого платья.
– Что надо… – повторила с ноткой разочарования. – Ничего не надо. Соскучилась по тебе. Захотела увидеть, и всё. А ты…
Зых окинул взглядом раздосадованную девушку. Хороша, ничего не скажешь. Большеглазым лицом приятна, густыми чёрными волосами богата, телом с крепкими бёдрами и обильной грудью стройна. Однако если Зых спал со служанкой, то не только из-за её женских прелестей. Агнешка была ему нужна совсем для другого. Впрочем, женские прелести тоже чего-нибудь да стоили…
– Пришла, так садись, – проворчал отходчиво.
И, протянув руку, потрепал Агнешку по щеке. Просиявшая девушка прижалась лицом к широкой ладони.
– Вот так бы и сразу! – сказала с довольным вздохом.
Никто не рискнул бы назвать Зыха красавцем. Но его звериная сила, таранная энергия и мужская неутомимость влекли девушку, как магнит. Не важно, что этот человек похож на сову, – важно, что он птица совсем иного полёта. Сначала привыкла к неказистой внешности, потом влюбилась по уши, а потом уже и подчинилась во всём, как подчиняются женщины, растворившиеся в мужчине.
Во Францию Агнешка попала, в общем, случайно. Крестьянская дочь, служившая в шляхетской усадьбе, она подалась в эмиграцию вместе с хозяевами после провала восстания. В Париже довольно быстро выяснилось, что хозяевам лишний рот в тягость, – дай бог самим прокормиться. Поэтому пан Пшедомский через давнего знакомого Гуровского пристроил бывшую служанку в Комитет убирать и стряпать. Спасибо, что не на панель… Тускло жилось в Париже Агнешке, одиноко. Оттого и привязалась всей душой к Зыху.
Между тем Зых достал сигару, раскурил.
– Рассказывай, что нового, – скомандовал, пуская клубы ароматного дыма.
Ничего особо нового не было. Солтык накануне опять напился и обещал вызвать на дуэль всё трусливое окружение князя Чарторыйского, – по очереди. Потом, правда, успокоился, снял девку и уехал с ней допивать… Кремповецкий хвастается, что написал гениальную прокламацию для угнетённого населения Царства Польского. Как только удастся её распространить среди крестьян, восстание неизбежно… Кассир Водзинский отказал в пособиях двум новым эмигрантам, – дескать, люди неизвестные, ещё непроверенные. И лишь после вмешательства председателя Комитета смилостивился, но с таким видом, что у этих бедняг, небось, франки в карман не полезли…
– Ну, это всё сплетни, – прервал Зых. – Какие настроения?
Настроения у эмигрантов, по словам Агнешки, были на высоте. Во-первых, близилось Рождество. Во-вторых (и это главное), со вчерашнего дня пошёл слух, что Лелевель наконец-то взял курс на подготовку вооружённого выступления, которое возглавит некий боевой полковник, и уж теперь-то России мало не покажется…
Зых нахмурился. Похоже, что предупреждение председателя держать язык за зубами на членов малого совета не подействовало. Кто-то болтает, и это плохо. Шила в мешке не утаишь, всё так, но что-то уж слишком быстро. Кто-то проговорился, – случайно? Или злонамеренно?
– Узнай, от кого пошёл слух, – распорядился отрывисто.
Агнешка кивнула.
– Постараюсь. И вот что ещё…
В последние дни звучали разговоры против Лелевеля. Собираясь в особняке, эмигранты толковали, что, мол, председатель фактически забросил Комитет. Создал малую группу ближайших сторонников, с ними всё и решает. А ведь их, самозванцев, в отличие от участников Комитета никто не выбирал. Много воли взял председатель, так и до диктатуры недалеко…
Зых про себя чертыхнулся и уже в который раз подумал, что на шляхту не угодишь. Сидят тут в тепле, чай-кофе гоняют, языки чешут, кое-какие деньги получают стараниями Лелевеля, а всё недовольны. Ну, что за люди? Мусор, а не люди, лишь бы воду мутить. Для восстания понадобятся совсем другие…
– Самых активных болтунов бери на заметку и мне докладывай, – велел Агнешке. – А я уж придумаю, что с ними делать.
Оставался ещё один вопрос, – традиционный. Зых помедлил.
– Что панна Беата? – спросил наконец.
Агнешка ожидаемо одарила Зыха гневным взглядом.
– Не скажу! – выпалила она.
– А-а, не скажешь… Неужто ревнуешь?
Перегнувшись через стол, Зых потрепал Агнешку по голове, затем неожиданно схватил за волосы и слегка ткнул лицом в столешницу. Девушка придушенно вскрикнула.
– Ещё как скажешь, – пообещал Зых ровным голосом. – Характер будешь в другом месте показывать. А у меня в кабинете не смей, – накажу. Больно.
Агнешка захныкала.
– Зачем она тебе? – спросила тоскливо. – Не нужен ты ей. А мне-то нужен. Я же лучше её…
Мысленно Зых согласился. Агнешка была намного аппетитнее изящной Беаты. Но разве дело в этом?
– Да лучше, лучше, – проворчал он, отпуская девушку. – Тебе бы ещё дядю – председателя Комитета, вообще цены не было бы.
– А ты на девушке собрался жениться или на Комитете? – запальчиво спросила Агнешка, опасно щуря заплаканные глаза.
– На Комитете, конечно. Однако через посредство девушки, – небрежно сказал Зых. – Так что можешь не ревновать. Панна Беата нужна не для любви, а для дела.
Он вовсе не шутил. Лелевель человек пожилой и болезненный. Случись что, кто займёт его место? Тут наилучшие шансы были бы у ближайшего сподвижника, да ещё и родственника. Уже сейчас можно понемногу, по шажочку, оттирать председателя от дел. Большие планы были на жизнь у Зыха, серьёзные, и Комитет играл в них главную роль. Но сначала надо уломать панну Беату, жениться и войти в дом Лелевеля, а там…
– А тут ревнуй не ревнуй, охотников на неё и без тебя наберётся, – злорадно сообщила Агнешка.
– Кто такие?
– Да всё те же. – Агнешка начала загибать пальцы. – Ходзько с неё глаз не сводит. Гуровский, старый пень, и тот комплиментами сыплет. Сама Осовскому улыбается, как родному. С Лехом и Мазуром каждый день болтает. Ну, и так, по мелочи. Из новых на неё несколько человек пялятся…
– Пялятся, говоришь, – повторил Зых, нехорошо темнея лицом. – Ну, пусть пялятся… пока есть чем. – Не стесняясь девушки, выругался грязно. – Один вот тоже пялился…
– И что?
– Ничего. Не до этого ему теперь, понимаешь.
Негромкий смех Зыха заставил девушку вздрогнуть. Тёмный он был человек, опасный, – это она знала лучше, чем кто-либо другой. Общаясь с ним, Агнешка порой чувствовала, что играет с огнём. И оттого почему-то тянулась к нему ещё сильнее.
– Пойду я, – сказала со вздохом, поднимаясь. – Ещё уборку делать и вообще…
– Иди, – равнодушно сказал Зых, выкладывая бумаги из портфеля. Мысли его уже были далеко.
– А ты скажи…
– Ну, что ещё?
– Можно я сегодня вечером приду?
Оторвавшись от бумаг, Зых исподлобья взглянул на раскрасневшуюся Агнешку. Помедлил.
– Можно, – разрешил скупо. – Часов в восемь. Коньяку захвати и приходи.
Заодно и полы помоет.
Снова углубился в бумаги. Это был план полковника Заливского, изложенный в виде сжатого документа. Стиснув зубы и вчитываясь в аккуратные строки, Зых с необычным для себя волнением всё больше понимал, что это – шанс на успех. Реальный. Огромный. Шанс для Польши и для него, Зыха. Он не собирался протирать штаны и спать с Агнешкой в Париже до старости. Всё будущее там, на родине. И если, чтобы оно состоялось, надо залить Польшу кровью, – значит, так тому и быть. Крови он не боялся.
Стук в дверь оторвал от бумаг.
– Войдите, – нехотя сказал Зых. Поднял глаза. И поражённо откинулся на стуле.
Никак не ожидал он увидеть на пороге этого человека, – сейчас.
…Итак, слепящий удар в лицо. Но, к счастью, не ошеломляющий. Сознание при мне, в голове холодная ярость, в груди, напротив, горячо от желания растоптать напавшего врага. Тем хуже для моих противников…
Один из них, зайдя за спину, крепко хватает поперёк туловища, зажав руки мёртвой хваткой. Другой, гнилозубо усмехаясь, многообещающе разминает кулаки.
– Тебя же предупреждали, чтобы кое от кого держался подальше, – говорит сипло. Судя по тембру голоса и ввалившемуся носу, сифилис его не пощадил. Второго вроде бы тоже.
В словах звучит некое подобие жалости. Ну, что, мол, с тобой, дураком, делать, предупреждали же… А теперь не обижайся.
Зых! Вот оно что! А «кое-кто», разумеется, – это прекрасная панна Беата. Я-то сначала решил, что мо́лодцы хотят без затей навестить мои карманы. Запросто этак, по-соседски, в одном городе живём… От пришедшей догадки мне, в общем, не легче, но убивать, вроде бы, меня не собираются. Скорее, поучить на будущее… Ну, допустим, поучить я и сам могу. Например, так.
Найдя точку опоры в стоящем сзади босяке, подбрасываю сложенные ноги и пинаю в живот стоящего впереди. С душой пинаю. Сдавленный крик, – и мерзавец отлетает на несколько метров, причём затылок его звучно знакомится с брусчаткой.
Не теряя времени, изо всех сил бью каблуком сапога по голени второго бандита. Шипя от жгучей боли, тот невольно ослабляет захват. А мне только этого и надо. Вырвавшись, разворачиваюсь к врагу лицом и бью кулаком в нос. С нехристианской радостью слышу тихий хруст носовых костей.
Негодяй падает, словно колос под безжалостным серпом жнеца. Его товарищ валяется поодаль, мучительно постанывая и держась за живот. И что мне теперь с этими калеками делать? Славянская душа не велит добивать врагов, коли они повержены… Пусть живут. Только сначала скажут несколько слов на интересующую меня тему. И пусть попробуют не сказать…
Выбираю первого бандита. Говорить он, вроде бы, может. Наступаю сапогом на грудь, прикрытую ветхой курткой.
– А скажи-ка мне, добрый человек, вот что… – начинаю многозначительно, глядя в мутные от боли и страха глаза.
Вскоре быстро покидаю переулок. Точнее, поле боя. Победа полная, и я почти не пострадал. А заодно и получил некоторые сведения.
– Вы? – риторически спрашивает Зых, когда я на следующее утро появляюсь у него на пороге.
Судя по удивлению в голосе, он считал меня прикованным к больничному одру, а не разгуливающим по Парижу самым беспардонным образом.
– Я, – соглашаюсь покладисто, поскольку не вижу оснований отрицать очевидный факт.
Зых сверлит меня взглядом, в котором опасно соединились неприязнь и злоба. Серная кислота, а не взгляд.
– Что вам угодно? – спрашивает настороженно.
– Поговорить, – отвечаю, усаживаясь без приглашения и непринуждённо вытягивая ноги. – Нам ведь есть о чём поговорить, правда? Работаем в одном Комитете, делаем одно дело…
Судя по виду, говорить Зыху со мной не хочется. А хочется ему, чтобы я оказался где-нибудь в соседней провинции. Или ещё дальше.
– Что у вас с лицом? – задаёт вопрос, указывая пальцем на синяк, украсивший левую скулу после вчерашнего происшествия.
Я равнодушно машу рукой.
– Не обращайте внимания. Напали вчера вечером какие-то бандиты, вышла потасовка. Не Париж, а сущий притон…
– Очень жаль, что вам так не повезло, – заявляет человек-сова с ноткой злорадства в скрипучем голосе.
– Мне? – переспрашиваю с удивлением. – Это им не повезло. При расставании оба негодяя валялись на земле и просили прощения. – Назидательно подняв палец, уточняю: – Слёзно!
Некоторое время Зых молчит, переваривая сведения.
– Ну, уж так и слёзно… – говорит наконец.
– Представьте себе, да! Скажу больше: каялись. Обещали, что больше никогда не будут слушать одного нехорошего человека.
Зых немигающе изучает моё пострадавшее лицо.
– Что ещё за человек такой? – спрашивает грубо.
– Да вот такой… – Усаживаюсь поудобнее и принимаю озабоченный вид. – Жили-были два приятеля-мерзавца. Бандитствовали по малости, болели сифилисом… словом, всё как у людей. И вот случайно познакомились с одним опасным человеком, по сравнению с которым не бандиты они, а так, мухи навозные. И дал этот человек им денег, и велел взамен найти своего врага и как следует его отделать. Можно и покалечить, только не до смерти.
Зых слушает, медленно багровея физиономией.
– Только вот какая незадача вышла: враг оказался сильнее, – продолжаю как ни в чём не бывало. – Уложил обоих, мог бы и прикончить, да уж больно жалобно прощения просили… Ну, и ладно. Разрешил он им жить, но с одним условием.
Зых выжидательно смотрит на меня.
– А условие, в общем, простое, – заканчиваю доверительным тоном. – Надо передать тому самому нехорошему человеку, чтобы он мстить своему врагу закаялся. Иначе враг терпеть не будет и нехорошего человека убьёт. По-своему, по-шляхетски. Ну, вот как бешеных собак убивают. – На мгновение утрачиваю контроль над собой и добавляю дрогнувшим от ненависти голосом: – Потому что он бешеная собака и есть, только в человеческом теле таится.
Внутри всё клокочет. Зых даже не подозревает, что сейчас его жизнь висит на тонком волоске. Желание убить его становится невыносимым.
В кармане у меня лежит нож с выкидным лезвием, – изъял у одного из бандитов на память о нападении. Пусть будет. Слушая гнусавый рассказ о том, как их наняли по мою душу, я по описанию убедился, – да, это Зых. Стало быть, он (и это надо принять к сведению) имеет связь с парижским дном, невероятно богатым подонками на любой вкус. И это делает помощника по безопасности по-настоящему опасным. Ясно теперь, что и бывший депутат сейма Дымбовский исчез не сам по себе, и что типография, печатавшая недружественную газету, сгорела не по щучьему велению…
Так вот, нож. В память о калушинской трагедии было бы сейчас славно и справедливо всадить его Зыху в горло. Или в грудь. И бог свидетель, что сдерживаю себя буквально со скрежетом зубовным. Не могу себе этого позволить. Ещё не время.
Между тем Зых поднимается и делает шаг назад. Случайность или что-то прочитал в моём взгляде?
– Мне ваши истории выслушивать недосуг, – кисло произносит он. – Уцелели, так радуйтесь. Можете ходить и рассказывать, как мужественно одолели двух оборванцев.
Поднимаюсь и я.
– Ну, зачем же рассказывать, – говорю уже спокойно. – Враг нехорошего человека, знаете ли, не поленился и всё, что ему бандиты поведали, подробно записал. И как их зовут, и кто их нанял… очень у человека приметная внешность, одну птицу напоминает… и для чего нанял, и сколько им заплатил. Запись эту враг запечатал и спрятал в надёжном месте. И если с ним что-нибудь случится, уйдёт письмо в парижскую полицию. А копия – председателю Комитета Лелевелю.
– Да хоть папе римскому! – фыркает Зых.
– Нет, – поправляю укоризненно. – Чем вы слушаете? Не папе римскому, а префекту парижской полиции господину Жиске и председателю Польского национального комитета профессору Лелевелю.
Зых трёт бугристый лоб.
– Чушь какая-то, – цедит сквозь зубы.
– Там разберутся, – успокаиваю человека-сову.
С этими словами покидаю кабинет.
Сказать, что я ситуацией недоволен, значит ничего не сказать.
Для моих дел и планов вражда с Зыхом нужна менее всего. Нужны нормальные, ровные, в идеале хорошие отношения. Слишком многое от помощника по безопасности зависит в Комитете, да и в эмигрантской среде он не из последних. Памятуя об этом, я начал аккуратно выстраивать контакты с Зыхом ещё летом, с первых дней после появления в особняке. Но увы… Кто же знал, что между нами пробежит чёрная кошка в лице прекрасной панны Беаты.
Грубым требованием отстать от девушки мерзавец поставил меня в безвыходное положение. Ни один шляхтич такое не проглотил бы. Я уже не говорю о своем отношении к панне Беате. Следовательно, – конфликт… Дело усугубилось попыткой проучить меня руками бандитов. И хотя я иносказательно пригрозил разоблачением, нет никакой гарантии, что новых попыток не последует. А вот повышенное внимание Зыха к моей скромной персоне, напротив, отныне гарантировано. Равно как и его жгучая злоба ясно в чей адрес. А это, как уже сказано, может существенно повредить моим делам и планам, – именно теперь, когда они начинают разворачиваться…
Прохожу в гостиную на первом этаже и раскланиваюсь с эмигрантами, собравшимися в особняке на утренний чай и свежие политические сплетни. Как и следовало ожидать, синяк на скуле привлекает общее внимание. Я вынужден повторить новеллу о нападении уличных грабителей и скромно заканчиваю тем, что сумел обратить негодяев в позорное бегство. Наградой мне служит общее сочувствие. Кто-то даже восклицает: «Не посрамил шляхетскую честь, молодец!» «Витязь!» – вторит ему другой. Ни секунды не сомневаюсь, что, пройдя через эмигрантские круги, короткий рассказ уже завтра трансформируется в эпическую сагу о чудо-шляхтиче, который мановением руки нанёс невосполнимый урон бандитскому дну Парижа.
Панна Беата, угощающая гостей чаем и ставшая невольной слушательницей моего рассказа, смотрит на меня с нескрываемым восхищением. Пользуясь случаем, целую прелестную тёплую руку и вполголоса осведомляюсь, не надумала ли она принять моё предложение встретить Рождество вместе.
– Ничего не получится, – говорит девушка, качая головой. И, заметив моё огорчение, добавляет с улыбкой: – Но, если хотите, вы можете прийти к нам с дядей в гости. Будут только свои, да и то лишь несколько человек. Я вас приглашаю.
Ну, хоть так. Хотелось бы, конечно, провести время с панной Беатой наедине, а не в обществе, где наверняка среди приглашённых будет и человек-сова… В последние дни думаю о девушке постоянно, и это плохо. Не то время и не та ситуация, чтобы влюбляться. Поэтому, отулыбавшись панне, с внутренним вздохом переключаюсь мыслями на вчерашнее сообщение Каминского.
Встреча с паном Войцехом состоялась у него на квартире накануне, вечером. Пришёл я, понятно, после стычки с бандитами, и вид у меня был соответствующий. Но самое интересное, что Каминский почти не обратил на это внимания. Вернее, наскоро выслушав мои объяснения, сразу перешёл к результатам утренней слежки. Бог свидетель, они того стоили.
Незнакомец, предположительно встречавшийся с Лелевелем и Зыхом, в девять часов утра вышел из своего дома № 3 по улице Ришелье, сел в поджидавшую карету и поехал. Каминский направился следом. После непродолжительной поездки карета прибыла по адресу улица Фобур Сент-Оноре, 39. Здесь незнакомец вышел, что-то сказал кучеру и неторопливо ступил в распахнутую швейцаром высокую массивную дверь тёмного дерева.
Только этого не хватало! Повисла пауза, которую очень хочется нарушить парой отборных ругательств.
– Спрошу для очистки совести, пан Войцех: вы адрес не перепутали? – задаю вопрос. Лютая перестраховка, само собой, но всё же…
– Ничего не перепутал, – мрачно говорит бывший следователь. – Что тут путать? Отель Шарост, улица Фобур Сент-Оноре, 39. И Елисейский дворец неподалёку.
Бог с ним, с дворцом. А вот отель намного интереснее. Хотя бы потому, что в нём располагается посольство Великобритании во Франции. Не больше и не меньше.











