Читать онлайн Почему Россия отстала? Исторические события, повлиявшие на судьбу страны
- Автор: Дмитрий Травин
- Жанр: Публицистика, Популярно об истории
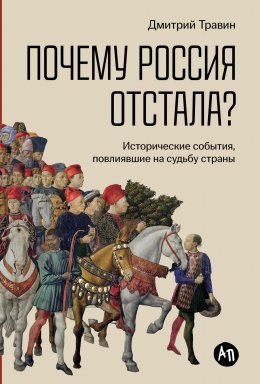
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
В оформлении обложки использован фрагмент фрески: Беноццо Гоццоли (Benozzo Gozzoli). Восточная стена капеллы Волхвов (ок. 1459). Палаццо Медичи–Риккарди, Флоренция
Рецензенты: Б. Н. Миронов, д-р истор. наук, Э. Л. Панеях, канд. социол. наук, П. В. Усанов, канд. экон. наук
Главный редактор: С. Турко
Руководитель проекта: А. Василенко
Арт-директор: Ю. Буга
Дизайнер: Д. Изотов
Корректоры: М. Смирнова, Т. Редькина
Верстка: К. Свищёв
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Дмитрий Травин, 2021
© ООО «Альпина Паблишер», 2025
Интеллектуальная разминка: предисловие ко второму изданию
Первое издание этой книги я активно обсуждал во всех возможных аудиториях, и по мере того, как появлялись допечатки тиража, споры становились все интенсивнее. Такая же картина складывается и с обсуждением моей книги «Русская ловушка»{1}, являющейся продолжением исследования «Почему Россия отстала?». По итогам этих дискуссий можно выделить два типа возражений.
Первое: с чего вы взяли, говорят мне, что Россия в чем-то отстала? Появление такого вопроса было вполне предсказуемым, и я сразу же изложил свою позицию в предисловии к первому изданию. К сказанному в 2021 г. сделаю лишь краткое добавление: на практике оказалось, что задавали этот вопрос почти исключительно журналисты. В заинтересованных читательских кругах он звучал редко, поскольку люди понимали реальность поставленного автором вопроса и хотели обсудить его, не подвергая серьезную научную проблему бессмысленной идеологизации. Люди, считающие, что проблемы отсталости не существует, книгой, как я и предполагал с самого начала, вообще не заинтересовались.
Второй тип возражений возникал в спорах как раз с теми, кто был уверен в отставании России и даже гипертрофировал проблему. Здесь нужны пояснения. Важнейший вывод, который можно сделать после прочтения моих книг, состоит в том, что в нашем народе нет никакой рабской природы, никакой склонности к автократии, никакой ущербности, определяющейся культурой, ментальностью, религией. Проблемы отставания связаны с конкретикой нашего исторического пути. Серьезное, кропотливое исследование этого пути дает возможность рационального объяснения каждой конкретной проблемы без использования всяких неплодотворных обобщений. Однако мои уважаемые оппоненты часто приводили примеры такой конкретики, которая, как порой представляется, говорит именно о фундаментальной ущербности России и нашего народа. Я возражал им, погружался в чтение новых книг, обнаруживал новые аргументы – как в трудах, противостоящих моей концепции развития России, так и в трудах, на которые мои исследования могут опираться.
В этом предисловии я сгруппировал важнейшие возражения и постарался дать на них краткие ответы. Будем считать мой небольшой новый текст своеобразной интеллектуальной разминкой перед чтением самой книги. Подчеркну: это не более чем увлекательная разминка, поскольку главное для осмысления российского исторического пути – это не краткое опровержение «штампованных» тезисов о различиях России и Европы, а прослеживание реальных поворотов истории, на которых наша страна, как и любая другая, то сближалась, то отдалялась от соседей, реагируя на появляющиеся в новую эпоху вызовы, но учитывая при этом имеющееся положение дел и сложившиеся традиции.
Итак, начнем. Чаще всего в доказательство рабской культуры народа, якобы утвердившейся у нас много лет назад, приводится такой «факт»: даже высшая русская аристократия XVI–XVII вв. в обращениях к царю занималась самоуничижением, подчеркивая свою зависимость от государя. Князья и бояре примерно со времен Василия III обязательно именовали себя холопами, да к тому же подписывались уничижительными именами (Ивашка, Васюк, Федорец вместо Иван, Василий, Федор), чего не было, конечно, в других европейских странах. «Понятное дело, что холопами русские бояре были не юридически, а лишь символически, – отмечает историк Сергей Сергеев, – но такая символика, конечно, показательна. ‹…› Холопы в условном смысле, люди боярских фамилий, однако, несли на себе некоторые нравственные следствия настоящего холопства»{2}. Подобное «холопство» и впрямь имело место на Руси, но современные трактовки этой проблемы стремятся, увы, вложить в него совершенно иной смысл, чем тот, который вкладывали люди XVII столетия. Свободолюбивый человек XXI в. не может помыслить себя холопом и презирает далеких предков, добровольно «холопствовавших» в челобитных царю. Но, как отмечается в современной исторической науке, понятие «холоп» постепенно приобрело у князей и бояр новый смысл: в элите общества «оно выражало особую близость к престолу и потому воспринималось как весьма престижное»{3}. По оценке Василия Ключевского, «звание государевых холопов, которыми стали величаться в Московском государстве прежние бояре и вольные слуги, значило, что и они из временных вольных наемников превратились в его вечнообязанных подданных, и более ничего не значило это звание»{4}. Весьма характерно, что даже шотландец Патрик Гордон, нисколько не смущаясь уничижения и понимая правила игры, писал государю: «бьет челом холоп твой, иноземец, Петрушка Гордон»{5}.
Понять нынче логику тех давних времен довольно сложно, но можно предположить, что холоп, который непосредственно служит своему господину, живет рядом с ним и, возможно, сопровождает его в военных походах (существовало понятие «боевой холоп»), считался существом привилегированным в сравнении с деревенским крепостным, жившим в скотских условиях, часто голодавшим и представлявшим для господина ценность лишь в качестве поставщика оброка. Если в нашем обыденном представлении, сформированном скорее художественными произведениями, чем историческими научными трудами, холоп – это тот, кого порют на конюшне, то в представлении самих холопов, взятых из деревни на службу к барину, холопство было чем-то вроде социального лифта, чреватого, конечно, и серьезными рисками (барским гневом, гибелью на войне). Подобные социальные лифты существовали во всех европейских странах, хотя терминология, отражающая, скажем, патрон-клиентские отношения в Англии, Франции или Германии, не вызывает у современного читателя такого неприятия, как грубоватая терминология российская.
Представители тяглого населения (от богатых купцов до простых посадских людей и крестьянства), в отличие от служилого, должны были в обращениях к царю именовать себя сиротами, а духовные лица – богомольцами. Для человека XXI в. в слове «сирота» нет ничего обидного, а в слове «холоп» есть. Но к концу XVII столетия все было иначе. Некоторые нахальные «сироты» осмеливались незаслуженно именовать себя холопами. Возмутившийся этим Петр I даже повелел в 1700 г. подобное самозванчество прекратить, «и буде впредь кто станет так писаться, и за то учинено будет наказание»{6}. А два года спустя царь, склонный на европейский манер унифицировать подданных, отменил всех «холопов», «сирот» и «богомольцев», повелев каждому человеку писать в челобитных «Вашего величества нижайший раб», что было вовсе не переходом к рабовладельческому строю, как может подумать наш впечатлительный современник, а движением в сторону столь любезного государю регулярного государства{7}.
Сам же государь был у нас самодержцем, и с этим термином тоже бывает часто связано недопонимание. Полагают, что самодержец – это абсолютный монарх… но не абсолютный в цивилизованном европейском духе, а абсолютный-преабсолютный – проще говоря, самодур, не учитывающий ни чаяний народных, ни мнения разных приближенных к престолу групп, ни действующих в стране законов, ни даже здравого смысла. О том, что на самом деле представляли собой учет мнений и соблюдение законов в европейских странах (включая нашу), я еще буду говорить в этой книге и продолжу в «Русской ловушке», но если вести речь лишь о терминологии, то, по оценке В. Ключевского, московское общество понимало его «в смысле внешней независимости, а не внутреннего полновластия. Слово "самодержец" в XV и XVI вв. значило, что московский государь не платит никому дани, не зависит от другого государя (в первую очередь хана. – Д. Т.), но тогда под этим не разумели полноты политической власти, государственных полномочий, не допускающих разделения власти государем с какими-либо другими внутренними политическими силами. Значит, самодержца противополагали государю, зависимому от другого государя, а не государю, ограниченному в своих внутренних политических отношениях, т. е. конституционному»{8}.
Следующий аспект исследования, по которому я постоянно получаю упреки от моих оппонентов, – это культура труда в России и других европейских странах. Часто приходится слышать ссылки на стимулирующую упорный труд протестантскую этику, исследованную Максом Вебером (редкий оппонент, правда, заглядывал в его книгу), и на ее отсутствие в нашей стране. На самом деле протестантская, а если точно соответствовать тезису Вебера, то кальвинистская этика характерна была лишь для небольшого числа западных стран, и перерабатывала она тот «человеческий материал», который исходно не отличался высоким качеством. Даже в Англии и Голландии, где кальвинизм хорошо прижился, трудовая этика менялась со временем. Склонность к упорному труду вырабатывалась постепенно в процессе модернизации, причем в эпоху, когда новая этика активно пробивала себе дорогу, в широких массах населения скорее доминировала лень. «Воистину обвинения английских наемных рабочих XVII–XVIII вв. в "распущенности, наглости, лености" практически полностью соответствуют тем, которые сегодня обращены против коренных жителей Африки, – писал историк Ричард Тоуни, являющийся, пожалуй, вторым по степени известности исследователем протестантской этики после Вебера. – Высказывались жалобы, что по сравнению с голландскими английские рабочие себялюбивы и праздны, что они хотят лишь прожиточного минимума и прекращают работу сразу, как только получают его»{9}. О том же говорит, ссылаясь на историка Кристофера Хилла, крупнейший исторический социолог ХХ в. Иммануил Валлерстайн: «В XVII веке "английская лень была для иностранцев притчей во языцех" – главным предметом для сравнения здесь, предположительно, были голландцы»{10}. Но, может, хотя бы голландцы являются исторически очень трудолюбивым народом? Вряд ли. Наблюдатели отмечали, что и с батавами (так раньше именовали жителей Нидерландов) произошли в определенный исторический момент колоссальные позитивные изменения. «Если в былые времена батавы считались очень глупым народом, подверженным пьянству, ‹…› то ныне они не заслуживают такого отношения. Ибо они весьма искусны во всяческих ремеслах и хитроумны в их применении», – отмечал путешественник в 1608 г.{11} Точно такая же история произошла с японцами. В конце XIX в. весьма внимательный и вдумчивый американский наблюдатель отмечал их праздность, лень, беспечность и стремление жить лишь одним днем. Но к концу ХХ в. эксперты уже подчеркивали японское трудолюбие и пунктуальность, объясняя их конфуцианской культурой, глубоко укоренившейся в народе{12}.
В общем, у нас нет научных оснований утверждать, будто бы существуют культурно предрасположенные к труду народы и народы, склонные по своей природе к лени, апатии и бессмысленному прожиганию жизни. Как русские, которые нас интересуют, так и африканцы, отношение к которым возмутило Р. Тоуни, могут меняться под воздействием обстоятельств. Предметом научного исследования является вопрос, почему перемены происходят или не происходят в тех или иных обстоятельствах. В этой книге я анализирую, почему итальянцы, проживавшие преимущественно на севере Апеннинского полуострова, фламандцы, проживавшие на юге Нидерландов, а также некоторые немцы стали успешнее других народов, хотя вряд ли можно говорить об их большем трудолюбии, происходящем от природы.
Бывает, что критики заходят к русской ментальности с другой стороны и в качестве отличительного «греха» выделяют не русскую лень, а русскую гордыню. Пример – московитское местничество. Спору нет, местничество сильно тормозило развитие общества, и потому одной из важнейших реформ в истории России может считаться его отмена, осуществленная в 1682 г. царем Федором Алексеевичем{13}. Тем не менее местничество долгое время у нас существовало и интерпретируется порой как свидетельство особой амбициозности и иерархичности русского общества в сравнении с европейскими. И впрямь, поведение московитской аристократии в некоторых случаях может вызвать насмешки и сформировать представление о русских как о диковатом народе.
В 1650 г. окольничему князю Ивану Ивановичу Ромодановскому во время пира в Кремле с царем Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом было приказано сесть ниже окольничего Василия Васильевича Бутурлина. Иван Иванович оскорбился и отказался сесть на указанное место, поскольку этот прецедент не просто обижал его лично, а мог снизить честь всего рода Ромодановских, поставив его в будущем ниже рода Бутурлиных. Но с царем не поспоришь. Алексей Михайлович приказал насильно усадить Ромодановского за стол. Тогда строптивый князь стал соскальзывать со скамьи. Мол, если сидел не за столом ниже Бутурлина, а просто на полу, то, значит, не было опасного для рода Ромодановских прецедента. В итоге в течение всего пира князя специально поднимали и усаживали куда следует. А после – подвергли краткосрочному тюремному заключению. Еще интереснее случай с князем Григорием Афанасьевичем Козловским. Произошел он в 1691 г., когда местничество уже было отменено и позиция за столом никак не могла повлиять на последующую службу рода. Тем не менее князь, опасаясь потери чести, сказался больным, когда был приглашен на царский пир, где мог быть посажен ниже того, кто считался «моложе». Вновь было применено насилие, и Козловского привезли куда следует. Тогда князь отказался выходить из повозки. Строптивца завернули в ковер и доставили к банкетному столу. Григорий Афанасьевич лег возле него навзничь, но князя все же привели в сидячее положение на том месте, на которое он так не хотел попасть. За свое сопротивление Козловский лишился боярского чина и был переведен на городовую службу{14}.
Дико все это выглядит. Но при взгляде на западные общества мы тоже можем обнаружить «понты», свойственные скорее эпохам, чем этносам. Герцог Сен-Симон, исследовавший изнутри высший свет Франции эпохи Людовика XIV, приводит достаточно свидетельств его амбициозности и иерархичности. Скажем, на одном из светских мероприятий герцогиня де Роган, следовавшая за герцогиней д'Аллюэн, сочла, что должна идти впереди. Та не согласилась. Разгорелся спор, и, когда слов перестало хватать, в ход пошли руки и ногти. В другой раз досталось самой герцогине де Роган. Принцесса д'Аркур, воспользовавшись физической силой, схватила герцогиню за плечи, сдвинула вбок и сама заняла почетное место, на котором та стояла{15}. А вот история, достойная комического рассказа о цветовой дифференциации штанов из популярного советского фильма «Кин-дза-дза!». В дни траура королевская карета обивалась лиловой материей, а все остальные – черной. Но однажды кардиналы добились для себя права «лилового траура», что возмутило весь высший свет. Ведь ни принцы крови, ни королева, ни дофин этого права не имели. Младший брат короля надавил на Людовика XIV, и в итоге король отменил «лиловый траур», что возмутило уже кардиналов. Но поскольку они не могли настоять на своем, то вообще отказались от траурной обивки кареты{16}.
Во французском обществе все должны были знать свое место, хотя это касалось не государственной службы, а церемоний. На самом верху иерархии находился король. Вслед за ним шли сыновья и дочери Франции (то есть его дети), а дальше – внуки и внучки Франции. Потом следовали принцы крови, а за ними – пэры Франции, каждый из которых занимал в иерархии свое фиксированное место. Сен-Симон подробно описывает историю того, как бравый герцог Люксембург решил вдруг «перескочить» с шестнадцатого пэрского места на второе, полагая, будто имеет на это право, и как «содружество» возмущенных этой наглостью пэров, включая самого Сен-Симона, сопротивлялось действиям «выскочки». Борьба за место провоцировалась еще и тем, что в, казалось бы, стройную аристократическую иерархию вклинивались королевские бастарды, которых Людовик XIV однажды уравнял с принцами крови. Помимо потомственных аристократов существовали так называемые герцоги по патенту, обладавшие правом на герцогские почести, но не имевшие ранга при дворе и права передачи титула по наследству. Высокопоставленные персоны различались также по множеству «мелочей», каждую из которых аристократы прекрасно знали: по праву снимать или не снимать шляпу, по величине отвешиваемого поклона, по числу сопровождавших их привратников и т. д. и т. п. Неформальную иерархию высшего света определяло также «право табурета», предоставлявшее некоторым лицам возможность сидеть в присутствии коронованных персон, тогда как другие обязаны были стоять. И еще существовало совсем странное (даже по мнению Сен-Симона) так называемое право «для». Суть его состояла в том, что квартирмейстеры во время путешествий специально фиксировали мелом на дверях, для кого жилье предназначено, хотя квартиры, предоставляемые равным по рангу персонам, по качеству не отличались друг от друга{17}.
Испанскую иерархию высшего света Сен-Симон изучал с неменьшим интересом, чем французскую. В Испании все было похоже и непохоже в то же время. На различия влияла, например, погода. Аналогом «права табурета» можно считать «право зонтика», чрезвычайно важное для церемоний, проходящих под палящим солнцем. Но любопытно другое. Дворянство, значительно более многочисленное (в расчете на душу населения), чем во Франции, и сопоставимое в этом смысле лишь с польской шляхтой, делилось на три категории: низшая – идальго, средняя – кабальеро и высшая – гранды. Сен-Симон, конечно, интересовался грандами – своеобразным аналогом французского «герцогского корпуса». По сути дела, все гранды были между собой равны, но некоторые, как сказал бы Джордж Оруэлл, оказывались «равнее других». Персональной иерархии, как у французских пэров, в Испании не было, зато существовало четкое разделение грандов на три класса по принципу… «покрытия головы». В сравнении с ним принцип цветовой дифференциации штанов выглядит умеренным и рациональным. Гранды первого класса имели право разговаривать с королем не снимая шляпы. Гранды второго класса должны были начинать разговор с непокрытой головой, но могли надеть шляпу перед тем, как король станет отвечать на их почтительную речь. Гранды же третьего класса (пожизненного, а не наследственного) беседовали с королем, сняв шляпу, и надевали ее лишь по завершении разговора, скромно отойдя к стеночке. Рассказав читателям об этих «многозначительных» различиях, Сен-Симон тут же приходит к выводу о том, что на деле дифференциация грандов не столь уж важна, поскольку почти все они произошли от бастардов. По мнению герцога, почерпнутому из замалчиваемой книги «Позор Испании», происхождение темных страниц аристократии таково. Во времена Реконкисты христиане вступали в столь тесное соприкосновение с маврами, что от их отношений на свет появлялись дети. А зарегистрировать церковный брак было нельзя из-за различия вероисповеданий. Тогда испанцы решили, что и так сойдет. Соответственно, сколь бы голубой ни представлялась нынче кровь испанских грандов, где-то у ее истоков стояла прекрасная мавританка{18}. А может, даже еврейка?
На фоне французских и испанских «понтов» русские местнические обычаи выглядят вовсе не так уж дико. Но двинемся дальше. Кроме проблем трудолюбия и гордыни в разговорах о России и Европе существует еще проблема спасения души. Порой утверждается, будто православная этика хуже, чем католическая и протестантская, будто она не способствует экономическому развитию, стимулирует склонность к авторитаризму, поощряет агрессивность и имперство. В обыденных спорах мне практически никогда не приходилось слышать от оппонентов каких-нибудь серьезных исторических аргументов, подтверждающих их позицию. Поэтому для обоснования отличий русской веры от иных направлений христианства я возьму оценку профессионала – Виктора Живова. «Русское спасение от индивидуальной морали (а поэтому и от индивидуальной исповеди и индивидуальной епитимьи) не зависело. Спасение относилось ко всему православному сообществу и приходило само собой. Оно состояло в постепенном преображении этого мира в Царство Небесное и осуществлялось не через нравственное совершенствование, но как распространение литургического космоса во внешний для него мир. Или – если воспользоваться иной метафорой – внешний мир постепенно поглощался Божией благодатью. Согласно этому взгляду, благодать выражается в обожении; обожение изначально и неизменно присутствует в литургии, в церковном тайнодействии: в литургии Небеса нисходят на землю и преображают ее. Распространение этого обоженного состояния мира, то есть его спасение, не требует человеческих усилий, но осуществляется самодеятельно, так что община верующих должна лишь поддерживать богослужебное действие в его преемственности и чистоте. Все прочее, как, в частности, аскетические подвиги, богословское познание, институциализированное покаяние или дела милосердия, было факультативным, необходимым в основном лишь для тех, кто превратил спасение в свое каждодневное дело, то есть для монахов и монахинь»{19}.
Если Виктор Живов прав (а у нас нет оснований сомневаться в оценке этого уважаемого специалиста), то налицо, конечно, чрезвычайно важное отличие русского способа верить и спасать свою душу. Но когда мы пытаемся разобраться во влиянии специфики вероисповедания на отставание России в политической и социально-экономической сферах, такого рода этические сопоставления нам ничего не дают. Ошибочно было бы считать, что, если, скажем, католичество требует от верующего большего нравственного самосовершенствования, чем православие, то средний католик и впрямь оказывается в нравственном отношении выше среднего православного. Безнравственности хватает в любом обществе вне зависимости от того, как с ней борется церковь. И грехи человеческие повсюду влияют как на поведение бизнеса, так и на государственную политику. В деле преображения человека массового католическая церковь Средних веков добилась столь же малых успехов, как, скажем, коммунистическая пропаганда в ХХ столетии. Из неудач в борьбе с грехами, собственно, и выросла реформация, ставшая отражением неудовлетворенности европейского бюргерства и дворянства теми возможностями по спасению души, которые им предоставляли грешные пастыри, начиная с самого папы римского. Но и протестантизм, несмотря на энергичное начало, сопровождаемое религиозными войнами и введением новых норм жизни, тоже не сотворил с грешниками чудес. Нет оснований считать, будто на «моральном Западе», в отличие от «аморального Востока», существуют миллионы людей, предпринимающих серьезные индивидуальные усилия для спасения души, а не просто временами захаживающие в храм. Если церковь как социальный институт стала серьезным тормозом в деле вестернизации России в допетровские времена{20}, то суть православного вероисповедания, в отличие от конкретных действий священнослужителей, на экономику и политику практически не влияла.
Порой в качестве примера российской аморальности приводится страсть к доносам. Проблема, ставшая, к сожалению, вновь актуальной в последние годы, вызывает в памяти массовое доносительство времен сталинских репрессий, а его истоки, в свою очередь, начинают искать в эпохе «Слова и дела». Спору нет, как справедливо заметил историк Евгений Анисимов, глубоко изучивший политический сыск XVIII в., «читать бесчисленные доносы тех времен – труд для историка тяжкий. От этого чтения можно легко потерять веру в народ и человечество»{21}. Однако наука старается избегать излишней эмоциональности и подходить к анализу проблемы, руководствуясь фактами и здравым смыслом. А они подсказывают, что доносительство было характерно для разных стран мира и разных репрессивных механизмов. «На массовых доносах строилась работа инквизиции Западной Европы, – отмечает Е. Анисимов. – Средневековая Венеция имела необыкновенно развитую систему политического сыска и была настоящей страной доносчиков. Об этом хорошо сказано в мемуарах Д. Казановы и в других источниках. Во Дворце дожей на лестнице сохранился знаменитый "Зев льва" – окошечко в стене, сунув голову в которое любой анонимный венецианец мог безбоязненно "сообщить" сидевшему в другой комнате инквизитору на своих сограждан. Во Флоренции, в монастыре Савонаролы Сан-Марко, под окном кельи настоятеля мы можем видеть узкое отверстие, в которое изветчик незаметно совал свернутый в трубочку донос на брата во Христе. Зная сотни таких фактов из истории человечества, невольно приходишь к выводу, что донос – не национальная, а общечеловеческая черта, что это естественная черта, особенность социальной природы человека. Более того, эта проблема актуальная до сих пор и в демократических обществах, ибо грань между гнусным по своей моральной сути доносом и исполнением сознательным гражданином своего долга весьма тонка или почти неуловима. Но все-таки доносительство в основном расцветает там, где существует режим всеобщей несвободы, который развивает и поощряет политический донос и укрепляет сам политический сыск, как механизм борьбы с инакомыслием»{22}.
Еще один важный «аргумент» оппонентов – утверждение о принципиальном отличии бюргерской культуры стран Запада, отличавшейся свободолюбием, проявившимся в коммунальных революциях, и характеризующейся городскими правами, завоеванными в борьбе с королевской властью. В Московии, мол, не было ни коммунальных революций, ни городских хартий: отсюда и проистекает отсталость. Спору нет, между регионами Европы уже в эпоху позднего Средневековья сформировались существенные различия. Одни обладали большими правами, другие – меньшими. Одни успешно действовали по принципу «в борьбе обретешь ты право свое», другие же безуспешно. Но граница здесь скорее проходила по линии «центр–периферия», чем по линии «Европа–Россия». Значительные права городов Северной Италии, Нидерландов и некоторых немецких земель отсутствовали, скажем, у английских городов, не говоря уж о городах, расположенных на Балканах или в Скандинавии.
Английские города не устраивали коммунальных революций. Да и не имели бы на них шансов, если бы вдруг решили в борьбе обрести свои права. Крупные города, как правило, выкупали королевские хартии, предоставлявшие им важные привилегии (свободу от поборов, торговые монополии, систему самоуправления), тогда как мелкие городки, находившиеся в зависимости от светских или церковных (епископов и монастырей) сеньоров, довольствовались в экономике лишь отдельными правами. Возможности выкупа прав определялись конкретной ситуацией и тем, насколько взаимовыгодной была сделка для договаривающихся сторон. «Ни один из английских городов так и не смог добиться статуса типа французской коммуны. Максимальный уровень их административной автономии – это присвоение статуса графства, которым обладали к началу XV в. всего пять городов: Лондон (с XII в.), Бристоль (1393), Ньюкасл (1400), Норидж (1404), Линкольн (1409). Получив хартию, даже с весьма широкими привилегиями, английские города вовсе не становились "вольными городами" или "городами-сеньорами" – слишком сильна была английская централизованная монархия в отличие от раздробленных Германии и Италии». В некоторых местах, например в Винчестере, городские власти контролировали лишь часть территории, тогда как другие части оставались во власти разнообразных сеньоров{23}. «К началу XIV в. лишь 14 городов имели право выбирать городской совет, 35 % получили право фирмы (освобождение от сеньоральных платежей. – Д. Т.), 31 % – избирать своих мэров и бейлифов, 48 % имели свой городской суд, остальные вынуждены были довольствоваться только какими-то отдельными привилегиями»{24}.
У нас порой любят упоминать Магдебургское право, существенно отличавшее города Германии (и даже Литвы, Балтии) от городов Московии. Но для Франции, скажем, важнейшую роль играла Руанская хартия, согласно которой мэра назначал король, а права горожан состояли лишь в том, чтобы предложить монарху кандидатов, из которых тот станет выбирать. Интересно, что право это было дано Руану английским королем, правившим Нормандией в XII в., для привлечения руанцев на свою сторону. Английским же городам руанские права (статус коммуны, хоть и ограниченный королевской властью) даже не снились{25}.
Я специально выбрал для «иллюстрации» своего тезиса именно положение дел в Англии, поскольку эта страна в Новое время стала экономическим и политическим лидером. Мы видим, что английское лидерство стало результатом модернизации, а не исходно существовавших вольностей. В Италии и Германии городских вольностей было в Средние века значительно больше, но эти страны в Новое время не захватили лидерство. Бюргерская культура – это, конечно, очень важный феномен, о чем я писал в «Русской ловушке»{26}, но он не предопределяет развитие. Соответственно, и проблемы России не предопределялись отсутствием городских свобод в Средние века. Культура трансформируется в зависимости от сложной совокупности обстоятельств, и проблемы нашей страны определялись тем, что совокупность эта была далеко не оптимальна. В моих книгах говорится о том, что это были за обстоятельства, как и о том, почему они возникли в определенной стране. Картина развития получается в итоге гораздо более сложной, чем при однозначных заявлениях об ущербности культуры того или иного народа. А главное – при таком подходе мы понимаем, что культура – это не судьба, что она может меняться вместе с изменением конкретных институтов (правил игры) и, значит, окно возможностей для модернизации страны не закрыто ее трагическим прошлым.
Теперь из города перенесемся в деревню. Традиционно уже на протяжении многих лет специфическим для русской истории явлением принято считать общину и ее большую роль в крестьянской жизни. Тот передел земли, с которым боролся Петр Столыпин, интерпретируется порой как культурный феномен, противостоящий частной собственности. Мол, в европейских обществах укоренялись рынок, индивидуализм, конкуренция, жажда богатства, тогда как в русском мире доминировали уравнительность, соборность и нищета. С подобным подходом трудно согласиться, поскольку он дает весьма своеобразную интерпретацию фактов. Думается, что община противостоит не индивидуации, а бюрократизации. Чем слабее в стране бюрократия, чем меньше развито государство, тем большим числом функций наделяет общину правящая верхушка. А если рационально функционирующая бюрократия оказывается способна взять на себя решение столь важных для общества вопросов, как сбор налогов, поддержание правопорядка и поставка солдат в армию, то значение крестьянского самоуправления снижается. Монарху легче спросить с министра, отвечающего за финансы, войну или безопасность, чем с далеких мужиков, даже объединенных коллективной порукой.
В Средние века, пока на Руси не было разветвленной бюрократии, община отвечала даже за то, за что, по справедливости, отвечать была не должна. Скажем, за преступления, совершенные неизвестными лицами на ее «территории». Если произошло убийство, «община (вервь) должна вносить специальный платеж (дикая вира) так долго, пока не выдадут убийцу»{27}. С высоты наших нынешних знаний это кажется странным, но, если принять во внимание тот факт, что в Средние века не имелось следователей, оперативников, дактилоскопии, скрытых камер и т. д., коллективная ответственность оказывалась жестоким, но относительно эффективным способом минимизации числа преступлений. Пусть мужички посматривают друг за другом и если чего увидят, то сразу доносят либо даже сами принимают строгие меры в отношении преступника. Пусть понимают, что, если не ответит виновный, придется невиновному раскошеливаться. Подобный подход к делу имеет параллель в европейской истории. «Ранняя английская практика обязывала местных жителей нести ответственность за людей, убитых в их районе. Их первой обязанностью было установить (для удовлетворения норманнов), что мертвец не был французом. Иначе тяжелая плата ложилась на сообщество, где бы ни был найден труп. Но хотя английский закон имел целью защиту недавно прибывших норманнов, очень скоро этот murdrum стал означать "секретное" убийство, поскольку в конце концов плату стали брать при каждом убийстве, несмотря на то что могла быть доказана принадлежность убитого человека к англичанам»{28}.
Распространение коллективной ответственности в разных странах показывает, что действия властей, которые нам нынче кажутся нерациональными, на самом деле были вполне рациональны. В локальном сельском сообществе, где все друг друга хорошо знали и где пришельцы из дальних мест бывали редкостью (а коли вдруг появлялись, то привлекали к себе пристальное внимание), выявление преступника зависело частенько не от свидетельских показаний, а от репутации подозреваемого. Точнее, свидетелем (послухом) был не тот, кто видел совершение преступления (если таковое лицо имелось, то называлось «видок»), а то уважаемое лицо, которое могло засвидетельствовать репутацию подозреваемого{29}. Рецидивист с большой степенью вероятности признавался виновным и в новом преступлении, тогда как крепкий работящий и малопьющий мужик имел больше шансов на оправдание, поскольку с чего бы ему вдруг злодействовать?
В середине XVII в. по такому же принципу община стала отвечать за сбор налогов. При отсутствии большого аппарата налоговиков государственные доходы зависели от самоорганизации общины и от присматривавшего за мужичками помещика. Соборное уложение Алексея Михайловича «окончательно утверждало то правило, что сельские общества казенных крестьян отвечают за податную исправность последних, а землевладельцы – за исправность своих крепостных крестьян. Неизбежным последствием этого правила была принудительная разверстка тягла: сельские общества и землевладельцы получали право отводить отдельным крестьянам большие или меньшие пахотные участки соразмерно с их рабочими силами и налагать на них подати соразмерно с отведенными участками»{30}. Таким образом, в общинном переделе земли нет никакой культурной особенности нашего народа. Он возник с фискальными целями по воле государства. Развитие бюрократии со временем ликвидировало необходимость общинной самоорганизации в данном вопросе, а следовательно, устранило потребность в таком подрывающем частную собственность явлении, как передел.
Нашу интеллектуальную разминку пора завершать, чтобы она не вышла за разумные пределы. Ведь читатель может подумать, будто главная идея книги состоит в том, что мы ничем не отличаемся от Европы. Но на самом деле главная задача – выявить, как Россия и другие страны проходят свой сложный путь, сворачивая то вправо, то влево в зависимости от обстоятельств. Так что основной историко-социологический анализ у нас еще впереди. Тем не менее под конец предисловия я приведу пример целой книги, автор которой защищает Россию, как друг, отвергая традиционные «наезды» на нашу страну. Но это такой друг, при котором, как говорится, врагов не надо.
Маршалл По написал книгу о России, где на первых же страницах развеял три глупых (это его слово), но весьма распространенных заблуждения о свойствах нашего народа и тут же сконструировал новое с помощью новой методологии. У русских нет, с его точки зрения, особой природной предрасположенности ни к авторитарному способу правления, ни к империализму, оборачивающемуся стремлением воевать и захватывать соседские территории, ни к мессианству, то есть к тому, чтобы «втюхать» свои великие идеи другим народам. Авторитаризм в мире на протяжении столетий был распространен повсеместно, воевали с соседями и прихватывали их территории все сильные государства, а цели у них (и у русских, в частности) были обычно вполне земными, а не духовными{31}. Маршалл По, как профессиональный историк, не признает вечных культурных черт, вечных «sonderweg'ов» (особых путей), а полагает, что исторические особенности народов являются следствием их исторических путей, определяемых множеством случайностей и совпадений. Если бы обстоятельства сложились иначе, Россия была бы сегодня совершенно иной{32}. Но не успевает читатель порадоваться этому трезвому подходу, как автор выводит русский авторитаризм и воинственность из того, что считает случайностями и совпадениями на нашем историческом пути. Ход его рассуждений поражает чуть ли не больше, чем ход рассуждений его глупо заблуждающихся оппонентов.
Россия – страна неевропейская, утверждает Маршалл По, и это настолько очевидно, что каждый, кто жил в ней хоть какое-то время, знает: «Сходство России и Запада весьма поверхностно, и сами русские ощущают это особенно болезненно»{33}. А многие ли неевропейские страны и даже империи избежали агрессии со стороны Запада? Ацтеков и инков разгромили испанцы, индийцев покорили англичане, китайцев стали делить несколько европейских стран. «Россия была единственной неевропейской империей, которая осталась могучим независимым мировым государством в течение раннего Нового времени»{34}. А почему же она не покорилась агрессивным вестернизаторам? Да потому, что создала сильную централизованную власть, закрыла от врагов границы, национализировала ресурсы, организовала громадный воинский аппарат и построила империю{35}. В общем, выходят «те же уши, только в профиль». Были мы, видимо, раньше умеренно авторитарными и умеренно воинственными, как все европейские страны, но стали неумеренно самодержавными и милитаризованными ради защиты своих рубежей.
Реальная история России со всеми ее случайностями и совпадениями, правда, плохо вписывается в логику Маршалла По. Когда это мы стояли перед угрозой того, что произошло с инками и ацтеками, индийцами и китайцами? Когда это небольшая группа конкистадоров могла нас раздраконить? Был лишь один случай в Смутные времена, когда сравнительно небольшая армия «польско-казацких конкистадоров» дошла до Москвы, но поражение потерпела, как известно, от народного ополчения, тогда как централизованная власть была разрушена, воинский аппарат скукожился, а ресурсы по крохам собирали частные активисты типа Кузьмы Минина. Если кому-то хочется, можно к этой истории добавить «поход крестоносцев на Русь» в Средние века, но с ними справились на Чудском озере демократичные новгородцы во главе с Александром Невским, не обладавшим ни империей, ни национализированными ресурсами, ни громадным воинским аппаратом.
В общем, нет ничего общего у нашего положения с положением инков и ацтеков. Нет ничего общего и с индийцами, поскольку английской Московской компании в XVI в. в голову не пришло бы делать то, что делала позднее Ост-Индская компания. Московия задолго до прихода к нам англичан создала сравнительно сильную армию, что определялось вызовом Востока, а не Запада. Москва покорила Казань и Астрахань, начала выстраивать оборонительные рубежи в южных степях, а когда обернулась в сторону немцев, смогла даже легко справиться с Ливонским орденом. Лишь увязнув в Ливонской войне, Московия ощутила силу Запада, стала учиться у западных соседей и реформироваться на западный лад, но точно так же учились и реформировались тогда сами западные страны, перенимая опыт успешных соседей.
Стоит нам отказаться от выдвинутого без всяких доказательств тезиса, будто Россия – неевропейская страна, которая могла разделить участь инков и ацтеков, как рушится вся конструкция Маршалла По. Все европейские страны, включая Россию, стремились создать максимально большой военный аппарат и достигали успеха в той мере, в какой им удавалось аккумулировать ресурсы и централизовать власть. И все европейские страны, включая Россию, делали это с учетом специфики своего исторического пути, определявшегося особенностями, случайностями и совпадениями, на значение которых верно указал Маршалл По. Поэтому не надо изображать Россию монстром, которому простительны авторитаризм, милитаризм и империализм по причине угроз со стороны Европы. Россия – это тоже Европа со всеми ее чертами: как монструозными, так и конструктивными.
Дмитрий ТравинМай 2024 г.
Предисловие. Сюрпризы для читателя
В первых же строках этой книги хотелось бы отметить, что значит для меня здесь слово «отстала». Возможно, некоторые потенциальные читатели, увидев его на обложке, сразу запишут автора в русофобы. Однако на самом деле в книге нет никакой русофобии. Наоборот, я полагаю, что у нашей страны есть хорошие возможности для развития. Более того, в истории России уже имеется немало серьезных достижений, особенно в области культуры. Тем не менее в экономике и социальном обеспечении мы находимся далеко не на первых местах в современном мире. ВВП на душу населения у нас по европейским меркам невысок. Темпы роста экономики откровенно не соответствуют потенциальным возможностям России. Уровень жизни таков, что многие предпочитают уезжать за границу, если появляется шанс. Перечень проблем может быть длинным, и в прошлом я неоднократно об этих проблемах писал{36}. Но в этой книге не будет размышлений о застойной экономике, провальной «социалке» и авторитарной политике. Меня интересуют причины всего этого. Мне надо понять, почему нормальная европейская страна отстает от большей части развитого мира. Мне хочется дать на этот вопрос не идеологический, а научный ответ: ответ, основанный на изучении фактов.
Замечательный петербургский историк Борис Миронов возражает, правда, против самого использования слова «отстала» в отношении нашей страны. Он настаивает на том, что «это не отставание, а лаг ‹…›. Россия как государство и цивилизация позже, чем западноевропейские страны, если можно так сказать, родилась – Россия живет в другом часовом поясе европейской цивилизации»{37}. Я с этим совершенно согласен и с первой же главы начинаю выяснять, почему мы оказались в «другом поясе», но полагаю, что без слова «отстала» обойтись, увы, трудно, поскольку оно широко используется. Проще анализировать проблему на том «языке», который принят в обществе. Миллионы людей размышляют именно о причинах отсталости, и если мы попытаемся обойтись без ключевого слова, то наши размышления могут просто не попасть к адресату.
Вопрос о том, почему Россия отстала, стоит уже давно, но особую актуальность он приобрел у нас лет тридцать – тридцать пять назад, то есть в эпоху, когда начинались преобразования. В те годы сформировалось два основных подхода к анализу осуществлявшихся реформ. Назовем их, несколько условно, экономическим и социологическим.
Экономический подход выглядит следующим образом. В мире имеется наработанная практика осуществления реформ в ситуациях, похожих на нашу. Если мы хотим действовать в соответствии с рекомендациями науки, то должны брать на вооружение именно те методы преобразования, которые хорошо работают, а не те, которые сочиняют некоторые наши доморощенные экономисты. Соответственно, успех в преодолении отсталости зависит от того, какие люди стоят у руля и какие рецепты они используют. Если слегка упростить логику экономического подхода, то он сводится к тому, что все зависит от людей: плохие реформаторы осуществляют плохие реформы, а хорошие реформаторы добиваются успеха.
Социологический подход сводится к тому, что далеко не всякое общество способно позитивно воспринять реформы, если они не приносят сразу же богатых плодов. В краткосрочном плане кто-то от реформ выигрывает, кто-то проигрывает. Чем менее приспособлено общество к трансформации, тем больше будет отторжение. Поэтому те реформы, которые оказались успешно реализованы в одних странах, могут провалиться в других. Следовательно, надо искать такие методы для преодоления отсталости, которые способно воспринять население. Если слегка упростить логику социологического подхода, то он сводится к тому, что все зависит от специфики общества: хорошие реформаторы для одних стран оказываются плохими в других.
Автор этой книги по образованию и ученой степени – экономист. Тридцать лет назад я однозначно придерживался экономического подхода. Не потому, что отрицал социологический, а потому, что понимал: невозможно изобрести панацею для российской экономики, основываясь не на научном анализе зарубежных реформ, а лишь на желании придумать реформы, приемлемые для народа. При таком подходе панацея превращается в плацебо: обществу говорят, будто его лечат от социальных болезней щадящими методами, но на самом деле лекарств не дают.
Я и сейчас придерживаюсь таких же взглядов, но, много лет изучая опыт преобразований в различных странах, пришел к выводу, что и впрямь далеко не каждое общество способно принять необходимое для преодоления отсталости лекарство. Иными словами, как в экономическом, так и в социологическом подходе есть своя правда. Но правда не вся. Реальное преодоление отсталости требует обычно серьезных реформ, основанных на мировом опыте, и долгого времени для восприятия этих преобразований. Общество что-то принимает, а что-то отторгает из мер, предложенных реформаторами. Со сменой поколений появляются новые инициаторы преобразований, и процесс реформ возобновляется.
Таким образом, каждый раз, когда мы беремся за преодоление отсталости, мы зависим от своего исторического пути, от того, что уже удалось сделать раньше, и от того, что общество отвергло. Подобный вывод, возможно, не порадует тех реформаторов, которым надо принимать решения здесь и сейчас. Но книга эта и не является набором рекомендаций. Она написана для другого: для того, чтобы понять причины нашего долгого отставания. И возможно, для того, чтобы в какой-то мере демифологизировать нашу историю. Показать, что в ней нет какой-то мистической предрасположенности к неудачам. Показать, что мы отставали и догоняли на протяжении долгого времени по тем причинам, которые вполне можно понять.
Данная книга развивает идеи, содержавшиеся в другой моей работе – «"Особый путь" России: от Достоевского до Кончаловского»{38}. Там были исследованы многочисленные теории (с которыми трудно согласиться), утверждающие, будто Россия – особая страна, будто у нее особый путь развития, особое мессианское предназначение и т. д. Завершалась книга кратким изложением альтернативы такого рода концепциям, то есть анализом трудов авторов, считающих, что Россия вполне способна модернизироваться, догонять развитые страны и не идти никаким особым путем. Однако мое собственное видение проблемы не вошло в то исследование, поскольку требует отдельного серьезного разговора. Здесь, в этой предлагаемой вниманию читателей работе, я данный разговор наконец начинаю. И сразу прошу читателя не воспринимать эту книгу в качестве всеохватной истории России или тем более истории Европы. Писать подобный труд я, конечно, не собираюсь, да это и не по силам одному автору. Моя локальная задача сформулирована выше, но для ее решения мне придется «пробираться» в самые разные уголки истории и пользоваться трудами многих замечательных историков, без которых никакие работы в сфере исторической социологии были бы невозможны. Как справедливо отмечал Марк Блок, «в исторических исследованиях нет места автаркии. Изолировавшись, каждый из специалистов сможет что-либо постичь лишь наполовину, даже в собственной области: единственно подлинная история, возможная лишь при взаимопомощи, – это всемирная история»{39}.
Методология моего исследования может удивить и даже огорчить тех, кто ждет быстрых решений. Как известно, на каждый сложный вопрос существует краткий, простой, понятный… и неправильный ответ. В молодости я сам какое-то время такие ответы искал, но с возрастом убедился в ошибочности подобного подхода. Поэтому данное исследование, нацеленное на то, чтобы разобраться в причинах сегодняшних проблем России, начинается издалека и основывается на историко-социологическом анализе. В своем движении к современности человечество прошло чрезвычайно сложный путь, на котором некий вызов, если воспользоваться терминологией выдающегося английского историка Арнольда Тойнби{40}, порождал ответ, а тот, в свою очередь, представал для человечества новым вызовом. И некий качественный перелом, произошедший в тот или иной момент, становился не единственной причиной успешной модернизации, а лишь причиной смены курса дальнейшего развития, которое вело к очередному перелому и к очередной смене курса. Это было медленное, постепенное продвижение от вызова к вызову через столетия едва заметных перемен. Оно напоминало ход поисковой группы по сложному подземному лабиринту, в котором требуется отыскать заблудившегося человека. Спасатели идут от развилки к развилке, прослеживая по некоторым едва заметным признакам путь этого бедолаги и оставляя в стороне те «боковые» тоннели, в которые он не заглядывал. Таким образом, нам придется долго продвигаться вперед по лабиринту истории (в этой книге поиск не закончится), прежде чем мы сможем понять, почему Россия отстала.
Вторая неожиданность, ждущая читателя, состоит в том, что формально бóльшая часть страниц книги содержит рассказ не о России, а о других европейских странах. С моей точки зрения, именно такой подход позволяет серьезно разобраться в причинах отставания. Традиционная ошибка, с которой сталкивается множество людей, пытающихся понять, почему Россия отстала, состоит в том, что они начинают основательно размышлять над проблемами нашей страны, а не над успехами тех, кто ушел вперед. На самом же деле истинная проблема состоит не в том, почему мы отстали. Важно понять, почему другие страны в какой-то момент смогли осуществить важные для своего развития преобразования[1].
Наша проблема напоминает проблему спортсмена, хорошо подготовленного физически и даже показывающего лучшие результаты, чем рекордсмены прошлых лет, но принципиально отставшего от нынешних рекордсменов в методах. Тот, кто бежит классическим стилем, отстает от лыжников, использующих коньковый ход. Тот, кто прыгает перекидным, достигает меньших высот, чем тот, кто освоил стиль фосбери-флоп. А шахматист, не изучающий новинки теории, проиграет усидчивому знатоку дебютов. Такое же положение дел во многих видах спорта. Поэтому тренер, желающий подготовить спортсмена, должен не только понимать его возможности, но и изучать, каким образом другие спортсмены уходили в отрыв.
Наши успешные соседи не всегда были такими, как сейчас. Они прошли через длительный период развития или, точнее, модернизации. В древнем традиционном обществе не было явных лидеров и явных аутсайдеров. В том или ином виде это традиционное общество сохранялось веками. Но в какой-то момент у некоторых народов что-то случилось, и они постепенно стали трансформироваться. Вполне возможно, сами того не желая – и уж точно не представляя, к каким успехам их эта вынужденная трансформация в конце концов приведет. Если мы сможем четко для себя сформулировать причины, по которым успешные страны стали уходить в отрыв, то сможем корректно поставить вопрос применительно к нашей стране. Сможем задуматься о том, почему соседи сделали то-то и то-то, а вот мы не смогли.
Ошибка, которую часто допускают, не уделяя внимания причинам успехов стран, ушедших вперед, вполне естественна. Ведь все в данном вопросе кажется нам на первый взгляд довольно простым. Если мы хотим понять проблемы России, надо вроде бы изучать именно Россию, а не Англию, Францию или Германию. Вот если захотим изучить те страны, то тогда ими, мол, вплотную и займемся. Но захотим вряд ли. Пусть англичане, французы и немцы свои проблемы сами изучают. Для них это важнее. При господстве такой логики в большинстве работ, посвященных проблемам российского отставания, вообще не уделяется внимание развитию Запада. А читатели, желающие разобраться в наших сложных делах, готовы скорее прочесть сотню книг с разными точками зрения о России, чем десяток конкретных исследований, объясняющих, что творилось в других странах в переломные эпохи.
Размышляя подобным образом, мы часто начинаем сравнивать положение дел в России не с реальным положением дел на Западе, а с тем мифом, который о нем сами для себя сформировали. Даже сегодняшнее положение дел на Западе часто мифологизируется из-за недостатка конкретных знаний, формирующихся обычно серьезными книгами и долгими путешествиями. Что уж говорить о мифологизации зарубежного прошлого, понять которое сложнее, чем современность! Таким образом, получается, что мы сравниваем наши реалии с мифом. Но, выясняя, почему Россия «отстала от мифа», никак нельзя получить реальную картину отставания. Картина тоже, естественно, окажется мифологизированной.
Третий сюрприз, с которым столкнется читатель, состоит в том, что, размышляя об отставании от Запада, автор стремится отказаться от неконкретного понятия «Запад». Если мы всерьез начинаем анализировать вопрос, почему разные страны оказались успешными, то выясняем важную для понимания проблемы вещь. Запад весьма неоднороден. О Западе как о чем-то едином говорить можно скорее лишь в исключительных случаях. Всякий конкретный разговор требует понимания того, насколько страны Запада различны по своей истории. Типичная ошибка, распространенная в размышлениях о причинах нашей отсталости, состоит в том, что мы сравниваем Россию с Европой в целом: от Англии до Болгарии, от Норвегии до Сицилии, от Эстонии до Португалии. Сколько раз мне приходилось слышать размышления о том, что такое Запад, подкрепляемые лишь фактами, взятыми из опыта наиболее развитых государств! Про все остальные страны, формирующие сложную картину мира, собеседники предпочитают не рассуждать, то ли просто не зная их реалий, то ли считая их не столь уж важными для анализа России.
В такого рода рассуждениях присутствует логическая ошибка. Вот, скажем, некий аналитик рассуждает о России, сравнивая ее с Западом, но на самом деле приводя для сравнения только некоторые факты из английской истории. Факты эти настолько специфичны, что говорят лишь об особенностях английского развития, отличающего его и от развития российского, и от французского, и от греческого. Но выводы делаются в духе «Россия и Запад». Мол, мы отстали от Запада в целом, а значит… А дальше вновь следует привычный набор тезисов об ущербности именно русской культуры, именно русской ментальности, именно русского «генотипа». Но ведь на самом деле автор этих размышлений проанализировал специфику положения дел внутри «западного мира», а вовсе не российские особенности. Если мы хотим для простоты представить себе схематично общую картину развития, то надо взять не два круга – Россия и Запад, а систему кругов, расходящихся из единого центра и охватывающих все более широкие пространства. В центре будут находиться самые успешные страны, на периферии – отсталые, а остальные займут место между ними. В третьей главе читатель увидит эти круги, расходящиеся из Северной Италии. Но для разных эпох европейского развития круги будут выглядеть по-разному, и, когда мы дойдем до анализа Нового времени, в центр попадет Англия.
И наконец последнее методологическое замечание, предваряющее эту книгу. Если быть точным, речь в ней пойдет даже не о европейских странах, а о регионах и отдельных городах. Читатель будет втягиваться в разговор о Флоренции, Венеции, Генуе, Генте, Брюгге, Новгороде, Пскове, Сицилии, Апулии, Фландрии, Нормандии, Кастилии, Девоншире, Тироле, Сконе, Рейнской и Ганзейской Германии, Шампанских и Лионских ярмарках, каталонских и берберийских пиратах, левантийской торговле. Понятно, что это несколько усложнит текст, но без подобной детализации обойтись невозможно. Национальные государства и национальные экономики как единый комплекс сложились лишь в Новое время, а в те эпохи, о которых здесь пойдет речь, существовали города-государства и всякие регионы со своими традиционными названиями. Даже тогда, когда регионы складывались в монархию или империю, их историческая судьба и экономическая динамика были различными. Мы привыкли к тому, что в России существует огромный разрыв между отдельными частями страны, но похожим образом развивались ведь и другие страны. Поэтому не стоит удивляться, если речь в какой-то момент зайдет о событиях, происходивших в Новгороде, а не в России, и в качестве успешного примера мы будем рассматривать Венецию и Брюгге, а не Италию и Бельгию. Более того, даже такого слова, как «Бельгия», нам придется избегать, чтобы не впадать в анахронизм[2].
Итак, что же читатель получит в этой книге? Если сказать кратко, то в первой и третьей главах будет показано, как объективно у нас формировались с давних пор большие экономические проблемы. Возникли они задолго до всяких реформ и контрреформ, закрепощений и освобождений. Не были связаны ни с деструктивными действиями властей, ни с народным менталитетом, ни с природными ресурсами. Скорее проблемы определялись нашим местом на карте Европы – тем, что русские земли являются ее восточной периферией. А во второй и четвертой главах пойдет речь не о реальных проблемах России, а о мифических. О тех, которые нам часто приписывают и которые, следовательно, надо детально разобрать, чтобы не уйти в анализе причин российской отсталости по ложному пути. Действительно ли наша страна больше других страдала от незащищенности собственности? Действительно ли так катастрофично было то, что Россию почти не затронула ренессансная культура? Сопоставляя реальные проблемы с мифическими, мы попытаемся определить ту реальную базу, на которой впоследствии оказались выстроены крепостное право, поместная армия, самодержавие…
Данная книга написана на основе четырех докладов (существенно переработанных и дополненных), которые были сделаны на семинарах Центра исследований модернизации (М-Центра) Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2010–2016 гг.{41} Это были чрезвычайно плодотворные обсуждения. Я выношу благодарность своим коллегам. В первую очередь – Борису Фирсову и Владимиру Гельману, чью поддержку я постоянно ощущал. Николай Добронравин, Дмитрий Ланко, Павел Усанов и Андрей Щербак своими докладами и комментариями на семинарах М-Центра существенно обогатили меня знаниями. Особая благодарность Андрею Заостровцеву – моему постоянному оппоненту, в спорах с которым обтачивались идеи этой книги. Раскрою небольшой секрет: вторая глава практически вся проистекает из нашей многолетней полемики с Андреем Павловичем. А она – из заложенной в основу работы М-Центра методологии Пола Фейерабенда, согласно которой следует не отбрасывать, а развивать теории, противоречащие нашим взглядам{42}.
Важно отметить, что сам М-Центр с его творческой атмосферой и постоянными дискуссиями никогда не возник бы без активной поддержки моего друга и соавтора{43}, декана экономического факультета СПбГУ Отара Маргании, а также без благожелательного отношения со стороны руководства Европейского университета в Санкт-Петербурге (Бориса Фирсова, Николая Вахтина, Олега Хархордина, Вадима Волкова). За организацию нашей работы в М-Центре я хотел бы поблагодарить Анну Тарасенко и Татьяну Хрулеву. И само собой, книга не была бы написана без университетской библиотеки и ее замечательных сотрудников, предоставивших мне возможность пользоваться как библиотечными фондами, так и доступом к электронным ресурсам, что особенно важно было в период пандемии, когда завершалась подготовка рукописи.
Еще одна благодарность – писателю Александру Мелихову. Если из полемики с Заостровцевым выросла вторая глава, то дискуссиям с Мелиховым в известной мере обязана четвертая. Александр Мотелевич, видя мой интерес к проблематике рационального, неустанно напоминал о том, как все же много иррационального сохраняется в человеке, несмотря на модернизацию.
Помимо университетских докладов, я представлял популяризированные варианты текстов, из которых сложилась эта книга, читателям журнала «Звезда». За возможность таких публикаций и за наше многолетнее плодотворное общение благодарю петербургского историка, главного редактора «Звезды» Якова Гордина.
Я не могу сказать, что работал над книгой исключительно в рамках какой-то определенной научной теории. В западной исторической социологии мало уделяется внимания России, а отечественная – пока лишь становится на ноги. Но на формирование моих взглядов оказало влияние множество выдающихся ученых: Макс Вебер, Талкотт Парсонс, Эмиль Дюркгейм, Франц Оппенгеймер, Мансур Олсон, Дуглас Норт, Авнер Грейф, Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Бродель, Жак Ле Гофф, Жак Эрс, Арон Гуревич, Эрнст Канторович, Гарольд Берман, Фредерик Лейн, Уильям Мак-Нил, Борис Миронов, Егор Гайдар, Иммануил Валлерстайн, Ричард Лахман. На их труды есть множество ссылок в тексте. Следует упомянуть и тех, на кого здесь ссылок почти нет, однако они обязательно появятся в моих будущих книгах, когда дело дойдет до применения соответствующих теорий: Чарльз Тилли, Людвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек, Кеннет Померанц, Джоэль Мокир, Мартин Малиа, Джек Голдстоун, Теда Скочпол, Сэмюэл Хантингтон, Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, Майкл Манн, Йэн Моррис, Павел Милюков.
Перед публикацией этой книги весь ее текст или отдельные главы прочли Владимир Гельман, Андрей Касатов, Михаил Кром, Павел Крылов, Борис Миронов, Кирилл Михайлов, Элла Панеях и Денис Хрусталев. Они помогли мне избавиться от ряда ошибок, неизбежно вкрадывающихся в работу, особенно когда приходится охватывать большой объем материала. Я благодарен коллегам за оказанную помощь. Наверняка ошибки в книге остались, и за это я сам несу ответственность.
Также хочу выразить благодарность издательству Европейского университета в Санкт-Петербурге и его директору Милене Кондратьевой. Почти каждую свою книгу в последние годы я несу именно в это издательство и всегда получаю большое удовлетворение от работы с ним. Плодотворный творческий союз меня связывает с Дмитрием Капитоновым, редактировавшим в разное время множество моих текстов: от небольших популярных статей до солидных научных монографий. И эту книгу он тоже подготовил к печати, за что я ему весьма благодарен.
А благодарность моей семье не выразить никакими словами. Как жить с человеком, который постоянно «проваливается» куда-то в Италию XIV в. и не вылезает оттуда до окончания очередного текста? Тем не менее моя жена Елена и сын Иван все проблемы терпеливо выносили, поддерживая меня в моменты творческих кризисов. Более того, за долгое время, прошедшее с начала работы над этой книгой, Иван завершил учебу в школе и университете, поступил в аспирантуру и превратился в коллегу, с которым можно обсудить сложные исторические вопросы.
Интерлюдия 1. Снег в храме
В 60 километрах к юго-востоку от Рязани есть старое городище. Огромное пустое пространство, заросшее высокой травой. По краям его видны мощные земляные валы. Память о том, что здесь когда-то была цивилизация, что люди укрепляли сие странное место и что само по себе это место заслуживало серьезной защиты. Иных свидетельств человеческого существования на городище нет. Или, точнее, их надо отыскивать. Коль приглядеться, среди зарослей дикой травы можно найти основания трех старых соборов – Успенского, Спасского, Борисоглебского. Ученые отметили их табличками, которые, впрочем, порой исчезают. Что сделаешь? Хулиганы.
Тяжкие чувства пробуждает это место. Трудно свыкнуться с мыслью, что между валами, вокруг древних храмов восемь столетий назад бурно кипела жизнь. Работали люди, торговали, молились Богу. По всей видимости, храмы украшены были снаружи белокаменной резьбой и скульптурами. А внутри расписаны фресками{44}. В иных городах Европы цивилизация и по сей день существует именно там, где зарождалась она много веков назад. Даже в Помпеях присутствует жизнь. Там есть развалины, уцелевшие под вулканическим пеплом. Там есть туристы, экскурсоводы, продавцы кофе и мороженого. А здесь ничего. Трава, ветер, пустое пространство и пяток чахлых домиков, в которых на зиму остается полторы бабушки.
Место это называется ныне Старая Рязань. Но на самом деле именно оно является истинной Рязанью – центром древнего княжества, городом, принявшим на себя первый удар идущих с востока монгольских полчищ. Нынешний областной центр по праву должен был бы носить свое исконное имя Переяславль-Рязанский. Но много лет назад именно туда из разоренного нашествием центра перебралась цивилизация. Именно там разместился княжеский стол. Именно там стали жить и торговать, стремясь хоть как-то укрыться от страшных непрекращающихся набегов. И вот уже Переяславль присвоил себе не только богатства, но даже имя настоящей Рязани, оставив Рязань старую наедине со своим прошлым. Наедине с памятью о том бурном столетии, что предшествовало набегу.
С одной стороны городище вдруг резко обрывается к Оке. Там нет древнего вала. Там взору открыта бескрайняя даль. Сначала цепочка домиков, спрятавшихся под обрывом, затем река, затем старица Оки, а затем огромные пустые пространства, на которых почти не чувствуется присутствия человека.
Поздней осенью, в ноябре, когда я стоял над обрывом, глядя, как грозные тучи медленно стягиваются с южной стороны к валам Старой Рязани, мне казалось, будто заокские просторы наполняются постепенно, тьма за тьмой, вооруженными кочевниками, стремящимися взять город в кольцо, отрезать от мира и под конец уничтожить его резким, решительным штурмом. Было холодно и жутко. Мир выглядел пустынным, незаселенным и чрезвычайно хрупким, несмотря на все известные достижения цивилизации.
Рязань не сразу погибла. Историки полагают, что после Батыева нашествия она еще долго мучилась, пытаясь возродиться. Но это, увы, оказалось невозможно. И вот ныне между валами – лишь ветер, трава и останки древних соборов.
В других русских городах, подвергшихся нашествию, ситуация не столь плачевна. И все же, когда бродишь по их улочкам, не оставляет мысль о чудовищном разрыве эпох. О том, что мы почти не чувствуем связи с домонгольским периодом жизни Руси и скорее выстраиваем ее образ в своих фантазиях, нежели действительно возводим наше происхождение к той эпохе.
Совсем давно, в 1980 г., 19-летним мальчишкой я начинал свои путешествия по России. Первым городом на моем пути оказался Владимир. Реальные впечатления резко разошлись с тем вымышленным образом, который формировался за время школьного изучения истории.
Древнего города как такового не обнаружилось. В центре Владимира, на холме, стояли два потрясающих, чудом уцелевших от домонгольских времен белокаменных собора – Успенский и Дмитровский. А вокруг простиралось что-то странное, что-то совсем-совсем непохожее на мир Древней Руси, что-то практически неотличимое от урбанистического пространства любого другого населенного пункта страны ХХ в. Прошлое растворилось, почти не оставив следов. А белоснежные храмы казались музейными экспонатами, не выросшими здесь естественным образом, а искусственно перенесенными откуда-то издалека, из реального мира, имевшего непосредственную связь с домонгольским обществом.
Через 17 лет после этого я оказался в небольшом, но чрезвычайно старом немецком городке Майнце. В каком-то смысле он похож на Владимир. В центре стоит древний романский собор, чудом сохранившийся после бомбардировок Второй мировой войны. А вокруг – совсем иной мир. По большей части – дома второй половины ХХ в. Дома, которые построили на пепелище вскоре после того, как отгремели сражения.
Казалось бы, это явный новодел. И все же, гуляя по улицам Майнца, я ощущал присутствие давно ушедших эпох. Наверное, связано это было с тем, что в городке сохранилась старая, исторически сложившаяся структура улиц. Они были узенькими, извилистыми, кривыми. Дома ХХ в. точь-в-точь встали на место тех, которые стояли до бомбардировок. А те, в свою очередь, были преемниками домов, пришедших откуда-то из совсем седой старины, откуда-то из XIII столетия, когда бюргеры Майнца, собравшись возле собора, обсуждали, наверное, идущие с востока вести о страшном монгольском нашествии, несущем угрозу всему христианскому миру.
Нашествие это не дошло до западных немецких земель. Но по землям русским прокатилось огнем и мечом. В «Андрее Рублеве» Тарковского есть эпизод, когда снег сыплет внутри разрушенного нашествием храма. Медленно и тихо падают белые хлопья на жалкую кучку уцелевших после погрома людей. И мнится, что это – конец всему, конец надеждам, конец культуре, конец тому миру, который творил своей кистью великий художник.
На самом деле это, конечно же, был не конец. Скорее начало. Скорее исходная точка на длинном пути российской истории. Момент, который определил многое из того, что происходило с нами впоследствии.
Глава 1. Набеги и кочующие бандиты
В 1908 г. немецкий профессор Франц Оппенгеймер в книге «Государство» четко сформулировал банальную, казалось бы, вещь: «…существует два принципиально противоположных метода, посредством которых человек удовлетворяет свои потребности, – работа и разбой. Другими словами, собственный труд и насильственное присвоение труда других людей»{45}.
В тот момент сказать подобную «банальность» было чрезвычайно важно, поскольку ход научного мышления у многих ученых уже находился под воздействием марксизма, стремящегося обратить внимание совсем на другое – на эксплуатацию человека человеком. Марксистский взгляд на историю – это изучение вопроса о том, как человечество может перейти от эксплуататорских экономических систем (способов производства) к коммунистическому обществу, при котором эксплуатации не будет{46}. Капиталист в марксистской системе – это не тот, кто своим трудом и интеллектом создает производство, а лишь тот, кто отбирает у трудящихся прибавочную стоимость. Оппенгеймер же, в отличие от марксистов, разделил людей на группы совершенно иным способом. У него с одной стороны находятся те, кто трудится (в том числе создает рабочие места и организует производственный процесс), а с другой – те, кто занимается бандитизмом, то есть разными способами отнимает заработанное и у создателей бизнеса, и у менеджеров, и у работников. К числу этих бандитов относятся и столь любимые марксистами пролетарии, если они по завету Маркса «экспроприируют экспроприаторов»{47} или (что, по сути дела, то же самое) согласно совету Шарикова – героя булгаковской повести «Собачье сердце» – делят не принадлежащее им имущество.
Конечно, мир не является черно-белым и люди не рождаются тружениками или бандитами. В истории часто так бывало, что человек отдается работе или разбою в зависимости от обстоятельств. Сегодня нам кажется, что труженика от бандита отделяют жесткие моральные нормы и переход из одного состояния в другое возможен лишь для людей, этих норм не имеющих, однако столетиями жизнь человечества складывалась иначе. Бандитом запросто становился крестьянин в годы неурожая или из-за того, что он сам стал жертвой насилия. Бандитом становился вооруженный пастух, охранявший стада и понимавший вдруг, что, напав на соседа, можно неплохо подзаработать. Бандитом становился наемный солдат, которого перестало нанимать замирившееся государство{48}. Бандитом становился купец при плохой конъюнктуре рынка, а бандит становился купцом, если много награбил и нуждался в сбыте товара. Таким образом, подход Оппенгеймера надо понимать не как деление мира на плохих и хороших людей, а как деление на конструктивные и деструктивные методы добычи средств к существованию. Причем обстоятельства, способствующие преобладанию тех или иных методов, могут складываться объективно и надолго определять исторический путь общества.
«Вся мировая история от первобытных времен до наших дней представляет собой не что иное, как непрерывную борьбу между "экономическими" и "политическими" методами, которая будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем такого уровня развития, при котором станет возможным появление "свободного гражданства свободных людей"»{49}. Экономические методы в соответствии с этой теорией представляют собой методы созидания, политические – методы перераспределения, с помощью которых созданное отнимается у того, кому оно принадлежит. Подчеркнем, что, по Оппенгеймеру, это относится ко всей мировой истории, а не только ко временам реализации идей марксизма в СССР, которые наступили, кстати, уже после написания книги «Государство». Не случайно в современной науке самые влиятельные труды посвящены проблеме преодоления насилия{50}, а не борьбе с эксплуатацией в духе старого марксизма.
Если мы взглянем на историю человечества именно глазами Оппенгеймера, а не Маркса с Энгельсом, то будем размышлять не о проблеме построения светлого будущего без эксплуатации (которое вряд ли вообще возможно), а о том, почему в реальной жизни одни страны стали богатыми, а другие остались сравнительно бедными. Иными словами, выясняя, как человечество боролось с бандитами в широком смысле этого слова, мы будем подходить к ответу на самый актуальный для сегодняшней России вопрос: почему наша страна отстала от тех стран, где созданы лучшие условия для жизни. И важнейшее понятие, судьба которого нас в этой связи будет интересовать, – это собственность.
Рассуждения об эксплуатации, на которых строится марксизм, чрезвычайно расплывчаты. Капиталист получает ярлык эксплуататора, хотя без его капитала невозможно никакое производство. Но стоит нам признать, что капитал наряду с трудом создает продукт, и отношения эксплуатации станет правильнее называть отношениями сотрудничества или кооперации между двумя факторами производства. В отличие от эксплуатации собственность – это понятие очень конкретное. Если человек является собственником имущества, у него имеется стимул к работе, к созиданию. Если же имущество у него могут легко отобрать, стимулы к созиданию исчезают. Частная собственность представляет собой необходимое (хотя и не достаточное) условие для процветания{51}. Этот вывод справедлив не только для современной ситуации, когда различные «шариковы» стремятся взять и поделить имущество других людей, но и для всей человеческой истории, в ходе которой защищенность собственности была стимулом для развития, а незащищенность порождала застой.
Таким образом, для того чтобы понять, как начиналась у европейцев (и у населения русских земель в том числе) модернизация[3], нам следует уйти в довольно давние времена. В те времена, когда не существовало никаких условий для нормального экономического развития. В истории столь давнюю эпоху принято называть Темными веками, поскольку мы очень мало про них знаем. Применительно к интересующему нас вопросу «тьма» выражалась в многочисленных набегах «варваров» на европейские земли, пытавшиеся худо-бедно перейти от существования в условиях нестабильности к мирной созидательной жизни. Очагами такой созидательной жизни являлись города, сохранившиеся после гибели Западной Римской империи или понемногу возникавшие в местах интенсивной торговли, а также там, где их по какой-то причине стремились основать правители. Но набег был несовместим с развитием городской культуры, с формированием ремесла, с накоплением капитала и с торговлей, связывающей между собой отдельные центры цивилизации, окруженные густыми лесами, дикими землями и суровыми морями. Набег представлял собой явление значительно более деструктивное, чем «стандартная» межгосударственная война, характерная для Средних веков и Нового времени. Джеймс Скотт описал набег как наиболее развитую форму охоты и собирательства, когда в объекте нападения максимально сконцентрированы привлекательные ресурсы{52}. «Охотник» внезапно появлялся, хватал как можно больше разнообразной добычи и исчезал, не стремясь владеть и управлять ограбленным городом.
Столкновение между собой различных государств может повлечь катастрофические разрушения, массовую гибель людей, приостановку развития экономики и множество иных печальных последствий. Однако целью такой войны не являются ни безудержный грабеж, ни всеобщее разрушение. Победитель стремится захватить чужие земли, ограничить политическую власть соседа, поставить его в зависимость от себя, получить контрибуцию и т. д. и т. п. Поэтому он заинтересован в разумном ограничении насилия со стороны своих воинов, а следовательно, убийства, разорения и разрушения во время войны между государствами имеют определенный предел.
Напротив, разрушения, приносимые набегами, предела не имеют. Разрушитель стремится захватить побольше денег, рабов и ценных вещей, а в дальнейшем перебраться на новое, еще не разоренное набегами место. Для предотвращения разрушений государства, страдающие от набегов, могут прибегнуть к выплате дани, что часто становится неподъемной ношей для их развивающихся экономик. Однако даже дань не способна гарантировать сохранности городов и обретения возможностей для развития торговли. Время от времени очередные набеги вновь приводят к катастрофическим разрушениям. Никакого развития не происходит. Жизнь стоит на месте. Максимум, чего удается добиться, – это сохранить от грабежей и погромов какой-то минимум имущества.
На протяжении ряда веков Европа страдала от разрушительных набегов. Со временем народы, их совершавшие, оседали на захваченных землях, проникались идеями цивилизации, переходили к иному образу жизни, меняли седла на замки и дворцы, а непрерывную скачку или плавание по морям – на прелести спокойного существования. Но тут появлялись новые агрессоры, цивилизующиеся земли захлестывала очередная волна набегов, и все начиналось сначала. Не будем сейчас подробно вдаваться в эту трагическую историю[4]. Остановимся на ее завершающей части («второй волне»), поскольку в науке доминирует представление о том, что именно она «принесла больше ущерба и имела более катастрофические последствия»{53}.
В кольце врагов
В период, предшествовавший началу второго тысячелетия (примерно с VIII до X в.), различные регионы Европы страдали от набегов, осуществлявшихся по трем направлениям. С севера, со Скандинавии, надвигались норманны (викинги). С юга, из Африки, европейцам угрожали арабы (сарацины). С Востока, из диких степей, слабую, неустойчивую цивилизацию атаковали венгры (мадьяры).
Мощная (казалось бы) Каролингская империя оказалась совершенно не способна сопротивляться набегам. «У нее не было ни постоянной армии, ни флота, ни прочных фортификаций, ни финансов, достойных этого названия, ни даже, вероятно, подлинной поддержки со стороны народа»{54}. Поэтому набег часто оборачивался не сражениями, а бегством, гибелью или пленом.
«Завидев корабли под полосатыми или красными парусами с головами драконов и зверей на высоко вздымавшихся форштевнях, жители приморских районов Англии и Ирландии, Франции и Германии бросали дома и поля и спешили укрыться в лесах вместе со своим домашним скарбом и скотом, – так ярко описывал многочисленные нападения викингов известный российский историк Арон Гуревич. – Замешкавшиеся погибали под ударами боевых топоров пришельцев или становились их пленниками. Вместе с награбленным имуществом их грузили на корабли и увозили на север. Все, что пираты не могли захватить с собой, уничтожалось: скот убивали, дома сжигали»{55}. Поджог и полное уничтожение разграбляемого населенного пункта вызывались, как правило, чисто военной необходимостью. Иногда огонь помогал осаде города, но в основном использовался при отступлении ради того, чтобы отвлечь противника, заставить его спасать остатки своего имущества, а не преследовать уходящих с добычей грабителей{56}.
Суровый климат северных стран, где издавна жили норманны, вынуждал их искать альтернативные сельскому хозяйству способы прокормления. Разбой и пиратство, иногда сочетавшиеся с торговлей, а впоследствии эмиграция в страны, где «с каждого стебля капает масло», стали естественным механизмом выживания{57}.
Причем образ жизни викингов, их умение строить корабли и опыт постоянного плавания по морям сильно способствовали успешным набегам. Передвигались норманны быстро, могли высадиться в неожиданной точке суши, подняться вверх по реке, а потому никакие войска не способны были предотвратить «десантную операцию»{58}.
Горячие северные парни с колоритными именами, такими как Харальд Боевой Зуб, Бьерн Железный Бок, Рагнар Кожаные Штаны, Эйрик Кровавая Секира, Сигурд Свинья, Эйнар Брюхотряс, Свейн Вилобородый, Харальд Серая Шкура, Магнус Голоногий, Сигтрюгг Шелковая Борода и т. п.{59}, прошлись огнем и мечом по значительной части Европы. Среди норманнов даже «почтенные люди», не промышлявшие постоянно разбоем, временами (по мере надобности или желания) отправлялись в грабительские набеги на двух-трех судах. Порой не к дальним врагам, а к соседям и даже к соплеменникам{60}.
В конце VIII в. викинги атаковали Англию с севера, разграбив ряд монастырей. Но это была лишь прелюдия к тому колоссальному «концерту», который они устроили примерно полстолетия спустя. «История викингских походов после 834–835 гг. оставляет устойчивое впечатление, что с этого момента они превращаются в своего рода "организованное мероприятие"»{61}. Большой набег на Кент в 835 г. положил начало трем страшным десятилетиям, когда нападения на английские земли происходили почти ежегодно. В конечном счете все увенчалось полномасштабным завоевательным походом. В 865 г. датчане высадились в Восточной Англии. Война с ними шла долгое время с переменным успехом, отчего неизбежно страдала слабая экономика острова. Наконец в 893 г. большое датское войско высадилось в устье Темзы и грабило местное население на протяжении следующих трех лет.
Очередной этап осуществления погромов настал к концу X столетия. Датчане собрали чрезвычайно сильную армию, которая раз за разом наносила поражения плохо организованному эссекскому ополчению. В итоге англичанам приходилось постоянно откупаться от агрессоров{62}. Так, например, в 980 г. датчане получили огромную сумму – 10 000 фунтов серебра, в 994 г. – плата возросла до 16 000, а к 1002 г. – до 24 000. Дальше размер так называемых «датских денег» продолжал нарастать. В 1007 г. он составил 36 000, а в 1012 г. – 48 000 фунтов и, наконец, в 1018 г. – 72 000{63}. Можно представить себе трудности, которые приходилось претерпевать хозяйству, обложенному столь высокой данью. Ни о каком нормальном развитии в то время не могло идти речи. Только о выживании. Во Франции, согласно имеющимся данным, бремя «датских денег» было несколько меньше – в совокупности около 40 000 фунтов, но сведения есть лишь о 7 платежах из 13{64}.
Постоянный грабеж происходил и в Ирландии. Хронист говорил, что «невозможно передать всех страданий, которые вынес ирландский народ, мужчины и женщины, миряне и священники, малые и старые, от этих воинственных и диких язычников»{65}. Естественно, сведения обо всех совершаемых викингами жестокостях не сохранились в деталях, но кое-что об их нравах нам может рассказать история про некоего Ульва по прозвищу Пугало, решившего расправиться со своим пленным врагом. Он «вспорол ему живот, привязал конец кишок к дубу и стал водить его вокруг, пока все кишки не намотались на дерево»{66}. Лишь после этого несчастный скончался.
Норманны проникали даже в Южную Европу. В 40-х гг. IX в. викинги дошли до Пиренейского полуострова, две недели грабили Лиссабон, а потом атаковали Севилью{67}. В 860 г. они напали даже на Пизу, находящуюся в Италии. А для того, чтобы захватить маленький приморский городок, который они по неосведомленности приняли за Рим, норманны пошли на интригующий ход, сравнимый со знаменитым троянским конем, придуманным Одиссеем ради проникновения в Трою. Норманны направили послов с известием о внезапной смерти своего вождя и с просьбой совершить над ним погребальную службу по христианскому обряду. С разрешения епископа гроб с телом был внесен сподвижниками вождя в город. Однако вместо того, чтобы отправиться в мир иной, «покойник» вдруг вскочил и убил епископа, а свита набросилась на горожан и их имущество. Когда же стало ясно, что сей населенный пункт отнюдь не Рим, норманны решили сжечь город{68}.
Переправившись через Гибралтар, викинги слегка пограбили Северную Африку, увезя с собой «в качестве сувениров» синих людей (blámenn) – по всей видимости, негров{69}. Но главным объектом их деятельности, естественно, оставалась богатая Европа. Норманны «снова и снова появлялись на ее северном и западном побережьях, поднимаясь на своих быстроходных маленьких судах вверх по речным руслам, проникая вглубь страны и грабя прежде всего монастыри и города на пространстве от Гаронны до Эльбы. Под их натиском пали и прекратили свое существование такие известные торговые центры, как Дорестад и Квентовик. Нант и Руан, Гамбург и Париж, Орлеан и Утрехт, а также многие другие города и монастыри тяжело страдали от этих нападений. С момента высадки сильного норманнского войска во Фландрии в 878 году набеги принимали всё более опасные формы. ‹…› В 881–882 годах разграбили, например, Кёльн, Бонн и Ахен[5]. В 885–886 годах они (норманны. – Д. Т.) вновь угрожали Парижу до тех пор, пока Карл III в конце 886 года не выплатил за их уход большую сумму, предоставив им сверх того еще и зимний постой в Бургундии. ‹…› Для Западной же Франкии норманнская угроза продолжала существовать до тех пор, пока Карл Простоватый, заключая в 911 году мир в Сен-Клер-сюр-Эпте, не передал норманнскому вождю Роллону (иначе говоря, Ролло, Рольфу или Хрольву. – Д. Т.) земли в низовьях Сены, названные по имени их новых владельцев Нормандией»{70}.
В связи с тем, что норманны осели на постоянное жительство в Нормандии, стала происходить существенная трансформация системы разбоя (в терминах Оппенгеймера). «Грабеж без разбора, характерный для предшествующего времени, сменялся масштабной системой поборов»{71}. Как отмечал американский социолог Мансур Олсон, в такой ситуации происходит превращение кочующего[6] бандита в стационарного. Разбойник начинает понимать, что ему гораздо выгоднее не забирать все имущество у покоренного населения, одновременно сжигая то, что нельзя унести с собой, а отнимать в виде дани лишь некоторую часть, сохраняя у ограбленных людей стимулы к работе. Тогда можно будет постоянно «стричь шерстку» у населения, и это в конечном счете окажется выгодно самому же разбойнику. Более того, стационарный бандит в такой ситуации начинает защищать покоренное население от «конкурентов» (других бандитов), желающих их полностью ограбить или, по крайней мере, взять с них дань. В итоге стационарный бандит надевает корону, становится самодержцем, передает по наследству детям возможность постоянно грабить подвластное население и утверждает, что делает это в соответствии с божественным правом, а не просто по праву сильного{72}.
Роллон, превратившийся из кочующего бандита в стационарного, дал мир сельским жителям и стал заботиться о процветании своих владений{73}. Похожим образом обстояло дело и в Англии. Викинги стали постоянно править Нортумбрией и Йорком после 880 г. А Ирландией – примерно с 910-х гг.{74} Тем не менее в целом даже постепенный переход к оседлости полностью не остановил дерзких и жестоких норманнских атак.
В конце X в., когда формирующееся германское государство на время ослабло из-за малолетства Оттона III, северное побережье подверглось очередной волне набегов, которым долгое время не удавалось дать по-настоящему эффективный отпор{75}











